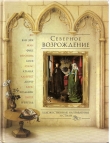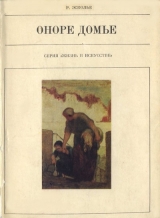
Текст книги "Оноре Домье"
Автор книги: Раймон Эсколье
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
В его «Супружеских нравах», с комедией адюльтера соседствуют сцены безыскусственной нежности. Взять, к примеру, сцену возвращения с бала супругов, разбитых усталостью:
– Ну как, Дидина, натанцевалась?
– Ой, не говори, у меня ноги отваливаются.
– Так снимай чулки и ложись.
– Ну нет, я слишком устала!
«Национальный гвардеец» не всегда жертва служебного долга, как он уверяет. Иногда жена трогательно заботится о нем. На одном рисунке гражданин-воин спешит на дежурство под дождем, прикрываясь зонтиком. Его догоняет служанка.
– Мсье, мсье, возьмите свой платок!.. Мадам намочила его одеколоном. И еще она советует вам, когда придете в казарму, потребовать грелку для ног…
Иногда семейную идиллию довершает присутствие ребенка. Мирная, счастливая атмосфера царит в семье доброго буржуа: отец моет руки, пухленькая мамаша причесывается, и оба они с нежностью смотрят на Додора в шляпе с перьями, вероятно, принадлежащей его матери:
– До чего же он сейчас мил, наш Додор… Стоит немного его приодеть – и его уже не узнать!
Буржуазная идиллия на лоне природы, воспетая Полем де Коком {135} : супруги рантье, заблудившиеся среди полей, неисправимая глупость торговца-горожанина, оказавшегося в пригороде с его хилой зеленью, пикники на свежем воздухе; врожденный страх буржуа перед нетронутой природой, страх перед населяющим ее животным миром – все это вдохновило Домье на создание остроумных и сочных «Пасторалей» (1845–1846).
Разбуженный на рассвете пением петуха, добрый буржуа негодует. Об этом рисунке Домье впоследствии вспомнит в Вальмондуа, когда Жоффруа-Дешом чуть свет затрубит у него под окном в охотничий рог.
– Может, перестанешь кукарекать? Стоило уезжать в деревню, в надежде выспаться здесь! День за днем меня будят в три часа утра. Я куда лучше высыпался в Париже, даже когда еще была жива моя жена.
На рисунке «Ужасная встреча» толстый лавочник в воскресном костюме, весь во власти дурацкого страха, защищает перепуганную жену и ребенка… от жабы. Физиономии, позы действующих лиц, как и во всей этой серии, где у Домье проявился дар пейзажиста, чрезвычайно выразительны. На другом рисунке влюбленная парочка в страхе замерла перед птичьим пугалом, которое словно шевелится на ветру. В пригороде, почти лишенном растительности, добрый парижанин, обливаясь потом, тащит тяжелую корзину с провизией для пресловутого обеда на свежем воздухе, столь милого сердцу воскресных экскурсантов. Он поворачивается к жене и извергает свой постоянный воскресный рефрен:
– Больше ты меня не заманишь потакать твоим причудам – обедать на траве… Вот уже два часа, как мы шагаем, а еще даже не нашли клочка травы. Знал бы я, так запихнул бы на дно корзины наш большой зеленый ковер!..
После «Охоты» (1836–1837), «Катание на лодке» (в 40-е годы XIX века Сена была определенно в моде) Домье находит материал для другой живописной серии: «Парижские лодочники» (1843). Любители катания на лодке терпят крушение на Сене в самом центре Парижа, к великому удовольствию зевак; видят, как их плохо привязанная лодка уплывает по течению; становятся жертвой задиристых матросов, которые опрокидывают их в воду. Это забавная цепь невзгод, случающихся то в пригородах, то в старом Париже у мостов или набережных острова Сен-Луи.
Из всех этих мелких буржуа, рантье, коммерсантов, служащих Домье наиболее строг к старым холостякам, скаредам и эгоистам. В серии «Дни холостяка» (1839) мсье Кокеле, ребячливый маньяк, равнодушный к человечеству, с лаской относится к самым некоммуникабельным животным. Он получает порцию березовой каши, которая, может быть, оказала бы еще большее действие, будь она менее обильной. Но, как мы уже видели, Домье, верный ученик Жан-Жака {136} , не терпел людей, чей образ жизни не соответствовал естественным законам природы.
Мы уже говорили о том, как сильно Домье любил театр, находя в нем источник вдохновения. Особое его внимание привлекала преувеличенная мимика актеров.
Нет ничего комичнее завоевания прекрасной Елены торжествующим Менелаем в изображении Домье. Елены, которая благодаря Оффенбаху будет впоследствии дарить веселье целому поколению людей:
«От дымящихся стен разрушенной Трои
Менелай – сын богов, победитель героев,
Златокудрую Елену увел навсегда,—
Ставшую еще лучше от любви и стыда».
Рисунок, на котором изображен красавец Нарцисс, великолепен оттенками цвета. Прекрасна бархатистая гармония белого и черного. Сократ, танцующий в гостях у гетеры Аспазии, тоже очень забавен:
«Любя девиц, любя вино,
Сократ, поев, не мудр, но пьян,
Как гость их, с ними заодно,
Не раз откалывал канкан».
Пенелопа, примерная жена, хитроумная, как царь Итаки, добродетельно распускает свою дневную пряжу.
Леандр спешит к Геро:
«По ночам, томим жестокой страстью,
Зная, что рукам – сил не занимать.
Он вплавь пересекал морскую гладь,
Чтоб к любимой броситься в объятья».
Домье упрекали в том, что он высмеивает античность. В сущности, это предельно несправедливо. Художник хотел, чтобы мы смеялись над шаблонами, школьными стереотипами. Еще Бодлер считал своим долгом осветить это существенное различие в печати.
«Древняя история представляется мне важной потому, что эта серия, можно сказать, лучше всего выражает смысл знаменитых строк: „Кто избавит нас от греков и римлян?“ Домье грубо набросился на античность, но только на фальшивую античность (никто лучше его не чувствовал величия древних) – он оплевал ее. И неистовый Ахилл, и осторожный Улисс, и мудрая Пенелопа, и этот верзила Телемак, и прекрасная Елена, погубившая Трою, – все они предстали перед нами в шутовском безобразии, напоминающем нам уродство всех этих старых кляч – трагических актеров, нюхающих за кулисами табак.
Это было очень забавное кощунство, принесшее известную пользу. Я вспоминаю, как негодовал один наш друг, лирический и языческий поэт. Он называл эти рисунки нечестивыми и говорил о Елене Прекрасной, как иные – о Деве Марии. Но те, кто не слишком чтит Олимп, да и трагедии, естественно, ликовали».
Презрение Домье к сценическим условностям, его критическое отношение к актерскому исполнению, отличавшемуся слабостью и вульгарностью, подарили нам любопытные «Трагикомические лица» (1841) и «Трагические лица» (1851).
Взгляните на Антиоха, говорящего Беренике: «Я удаляюсь еще более влюбленный, чем всегда»; на Родриго, похожего на мясника, который с комическим негодованием выслушивает речи Дона Диего; на Аталию, допрашивающую Иоаса; на Федру – толстую, с отвислой грудью, с вожделением смотрящую на Ипполита {137} .
Посещение классических спектаклей, где слишком часто на подмостках можно было увидеть Тита с красной от пьянства рожей или Ореста {138} с расплывшейся фигурой, мало-помалу привели художника к созданию пародийных сцен «Древней истории». Образец этого жанра показали Скаррон в «Переодетой Энеиде» и Мариво {139} в «Переодетом Гомере». Здесь комизм возникает в силу контраста между героической биографией персонажей и пошлыми или ультрасовременными высказываниями, которые автор вкладывает им в уста. Как отметил Анри Марсель {140} , «оригинальность Домье проявилась в том, что он, насколько возможно, удержался от этого приема и комическое искал почти исключительно в пластической деформации персонажей, обычно изображаемых как некий идеал красоты».
В Париже существует целая категория людей, живущих вне общества, – это фальшивые нищие; люди, открывающие дверцы карет, ворующие кошек и бродячих собак, собирающие окурки сигар, торгующие контрамарками и т. п. Отщепенцы эти заинтересовали Домье, и он обрисовал множество подобных типов в своем альбоме «Парижские цыгане» (1841–1842).
Рядом с хищниками, угрожающими не только нашему кошельку, но и нашей жизни, пробавляется кое-как куча бедолаг, безобидных и жалких. Домье – мастер карикатуры – несомненно вспоминал те часы, когда подростком он бродил по кварталам, где обитает этот сброд. К этой серии относится рисунок: жалкий актер бродячей труппы в метель и непогоду спешит на спектакль.
– Да, от этой погоды и впрямь пробудится страсть. Вот сейчас мне придется сгорать от любви, предварительно облачившись в костюм турка… и говорить: «„О, Зулейма, раздели со мной мои сокровища и трон! Спеши насладиться радостями изобилия!“… А в животе у меня на одно су жареной картошки!»
Еще один – очень живой и актуальный рисунок: нищий с плутовской физиономией, ворчит: «Моя родина! Это подметки моих сапог… Увы, скоро у меня не будет родины!»
Маленькие люди служили Домье моделью также и в его крупной серии «Парижские типы» (1839–1842). Но это уже не отщепенцы, это обыкновенные, простые люди, которые сплошь и рядом вызывают умиление художника-плебея. Извозчики-шутники, мелкие служащие, любящие развлечься, хозяйки, делающие покупки на рынке, игроки в домино – все это «картинки в фламандском духе», выразительные сцены повседневного быта. На лицах героев этой серии – множество точно схваченных выражений: мелкий рантье, пробующий «особенное» вино, подмигивает, как знаток; на лице маленькой женщины, стиснутой в омнибусе между приказчиком колбасника и пьяницей, – гримаса отвращения; мальчик растерянно глядит на растрепанного, страшного владельца москательной лавки, стерегущего свой товар. Все это навеки врезается в память, столь убедительны и точны выражения лиц в этих мгновенных характеристиках.
Серии «Трагические лица» и «Древняя история» в общем были для Домье лишь поводом для чистосердечного, щедрого смеха без задней мысли, без горечи. Иное дело, когда художник возьмется за своих «Людей юстиции».
Прилежный, но снисходительный наблюдатель, прогуливающийся по острову Сен-Луи, вблизи от здания суда, которое Домье посещал весьма усердно, вдруг становится резким и беспощадным, когда возникает необходимость воссоздать психологию защитника закона и защитника преступников. Действительно, как хорошо показал Жорж Бессон {141} , никогда прежде ни в изобразительном искусстве, ни в литературе судейские не были разоблачены с такой проницательностью.
«В 1831 году, сидя на скамье подсудимых, во время своего процесса из-за литографии „Гаргантюа“, Домье увидел судей и прокурора – опору власти. В 1831 году в Париже и Версале он следил за политическим процессом газеты „Насьональ“, за судом над Фиески… Сфокусировав печать злобы и низости на их лицах, он увековечил отвисшие губы, толстые животы отупевших пэров, считавшихся слугами закона. Домье – неумолимый судья, судящий судей.
Законом 1835 года, – продолжает Жорж Бессон, – была запрещена политическая сатира. Теперь Домье уже не мог изобразить судью, стоящего над убитым республиканцем („Вот этого можно отпустить на свободу“). Но он показал нам другое: „Волшебный фонарь черных фигур“ освещает судей, равнодушных, насмешливых, наглых, циничных, потрясающих перед пестрой, жалкой толпой обвиняемых уголовным кодексом. Один из этих бедняг, подталкиваемый жандармом, слышит такие слова: „Вы были голодны… Это не причина… Я тоже голоден, но я же не ворую!“ Домье говорит здесь то же, что и Виктор Гюго в „Отверженных“ {142} .
Вот они – напыщенные, посмеивающиеся адвокаты, с живописными бакенбардами и выпяченной грудью, слезливые трагики, хитроумные стратеги… Старые тенора, кичащиеся своим красноречием, члены коллегии, улыбающиеся негодяям, которые им платят, похотливо поглядывающие на вдов, комбинаторы, хищники.
Новым темам – новая техника. Рисунок Домье полон движения, карандашом художник высекает лица, будто резцом, подчеркивая напыщенность выражений. Он старается одной линией, более резкой, чем раньше, передать ложный пафос жестов, взмахи черных рукавов и даже показать… „прозаические брюки под юбками, как у Гиньоля“ (Жан Ларан)» {143} .
Домье, как известно, любил, чтобы его скульптурные силуэты как бы жили в пространстве, обретая монументальность благодаря великолепной моделировке светотени…
Жак Лассень {144} писал о Домье: «Это праведная душа, которая никогда не даст себя обмануть. Во Дворце правосудия он составил грандиозное досье проявлений лицемерия и низости…»
Этот вывод всеми силами старается опровергнуть почтенный защитник людей юстиции Жан ле Фуайе, советник Парижского суда.
По мнению автора книги «Домье во Дворце правосудия», Домье – не судья, а борец, воин, чье грозное оружие карандаш или кисточка, обмакнутая в воду или масло. В этом трудно не согласиться с Жаном ле Фуайе.
Послушаем его:
«Тщательная опись рисунков, литографий и картин, созданных Домье, позволяет найти на них всех, кто посещал Дворец правосудия.
Здесь были судья и прокурор, присяжные заседатели, адвокаты, стряпчий, секретарь суда, нотариус, поверенный, письмоводитель, понятой, сторож при коммерческом суде, технический служащий, общественный писарь, „юрисконсульт для портье“, ходатай по делам или защитник в мировом суде, истец, свидетель, эксперт судебной медицины, случайные прохожие и любопытные, комиссар полиции, полицейский, муниципальный страж, жандарм, сельский страж, арестант, ответчик, обвиняемый, осужденный.
За пределами стен суда: заключенный, отбывающий срок в тюрьме, и каторжник.
К лицам последней группы Домье относится более снисходительно, поскольку они участвовали в судебном разбирательстве лишь по принуждению».
«В этой фреске, – отмечает Жан ле Фуайе, – главное место принадлежит судьям, прокурорам и адвокатам. Судьи, с одной стороны, и адвокаты, с другой, суть противники, как полагают многие, знающие их достаточно хорошо, например, представители судебной прессы». Но так ли это? Жан ле Фуайе этого не думает, и это подтверждает правоту Домье, одинаково осудившего тех и других. Не лучше ли, изучая «фауну суда», уразуметь значение морфологического признака, общего для судей, прокурора и адвоката: все они – и только они – носят эпитогу на левом плече.
«В атмосфере строгой традиционности, какая была в суде в XIX веке, право ношения эпитоги сохраняло всю свою символическую ценность. Прокуроры и адвокаты ясно сознавали, что их объединяет общественное положение, культура, знание права, потребность в культурном досуге, гордость и у некоторых даже – надменность».
Сколько старых облезлых обезьян, уже ни на что не годных, открывают нам среди судей и прокуроров рисунки Домье. Не будем удивляться этому. Чтобы немного очистить атмосферу суда, понадобится приход Наполеона III.
До 1852 года не существовало предельного возраста для судей и прокуроров. В кассационном суде, в Парижском суде было много старых судейских, которые заседали еще в Парламентском суде, в Гражданском трибунале департамента Сена. Были даже такие, которые заседали еще в Парижском Большом суде. Эти люди не забыли: еще не так давно, став судьей, человек получал дворянство, а в более старые времена это занятие было исключительной привилегией дворян.
«Работа клира – молиться Богу,
Судить – работа дворянина,
Крестьянин добывает хлеб для них…»
Эти судейские к тому же знали и то, что занятие адвокатурой, в отличие от другой второстепенной юридической деятельности, но влечет за собой потерю дворянства.
«Нередко из старинного рода, всегда с изрядным доходом, часто весьма образованные и, как правило, хорошие юристы, усердные работники, во всяком случае, привыкшие рано начинать работу (во времена Второй империи обычно еще „впрягались“ с семи часов утра); холодные и благочестивые (некоторые председатели суда присяжных ходили в церковь причащаться в дни, когда ожидали, что им, может быть, придется выносить смертный приговор); привычные к особому языку (Стендаль, говорят, заставлял себя ежедневно прочитывать страничку из Гражданского кодекса), эти люди, конечно, имели в своей среде и циников, и обманщиков, и подлецов, и просто недалеких, но большинство из них были люди честные, желавшие, каждый на своем месте, служить идеалу справедливости и социальной гармонии, не претендуя – как мог бы глупец – на непогрешимость и совершенство, полагая, подобно Бальзаку, что „суд человеческий есть слабое подобие суда небесного, бледное подражание ему, приспособленное к нуждам общества…“.
Таковы были душой, умом, внешним обликом эти судьи и адвокаты XIX века. Таковы были эти господа в эпитоге, с которыми в один прекрасный день столкнулся Домье».
Из этого великого столкновения – не в обиду будь сказано апологету судейских – Домье вышел победителем. Прав он был или нет, но его пылкий карандаш убедительней самых пространных апологий.
Адвокаты с повадками олимпийцев, с высокомерными наглыми физиономиями, обрамленными тщательно расчесанными бакенбардами; эти люди, иссушенные завистью, желчью, сплошь и рядом скрывающиеся в гуще торговцев, как в лесной чаще; постоянные защитники убийц, циники, бурно размахивающие своими черными рукавами (они, как сказал Клод Леузон ле Дюк, ораторствовали рукавами), бьют себя в грудь и клянутся, нисколько в это не веря, что их клиенты невинны. Адвокаты, обделывающие темные дела в полумраке кулуаров, торгующие честью женщин и кошельками тех, кто доверил им защиту своих интересов; дряхлые судьи, отупевшие, глухие и сонные, которым даровали грозное право судить других людей; все они ежедневно соприкасаются с преступлением и мошенничеством, и это наложило совершенно определенный отпечаток на их совесть.
Под этими рисунками подписи, конечно, сделаны самим Домье. В этом почти никогда не возникало сомнений.
Вот два адвоката в суде присяжных, перед тем как войти в зал суда, обсуждают утреннюю программу:
– У нас сегодня большой спектакль, мсье Галюше!
– Еще бы! Разумеется… убийство, в придачу с изнасилованием!
А вот подсудимый, довольно сильно взволнованный, признается в чем-то своему защитнику, но, по-видимому, тут же раскаивается в этом.
– Значит, хотя я вам и признался, между нами, что это я украл часы у папаши Жерома, вы от меня не откажетесь?
– Дорогой вор, – отвечает адвокат, – вы не понимаете мою душу. Если бы не было жуликов, не было бы и адвокатов. Теперь, когда я уверен, что это сделали вы… я буду доказывать ваше алиби!
Вот волнуется другой подсудимый:
– Хуже всего то, что меня обвиняют в двенадцати кражах…
Его защитник ничуть этим не смущен:
– В двенадцати? Тем лучше! Я буду доказывать, что у вас клептомания.
Позднее литография перестает удовлетворять Домье. И всех этих обитателей Дворца правосудия он перенесет в свою живопись и скульптуру. Но его живопись, маслом или акварелью, его скульптура будут столь же сатирическими, столь же уничтожающими, как и его рисунки на камне.
Несмотря на отсутствие подписей, его темпераментные композиции отличаются предельной выразительностью и страстностью, заставляющей вспомнить сатиру Ювенала, и «люди юстиции» обречены долго носить на себе клеймо, которым их отметил художник.
Революция 1848 года позволила Домье на некоторое время снова взяться за полемический карандаш.
На великолепном по мастерству и силе рисунке «Последний совет бывших министров» Домье изобразил юную и ослепительную республику во фригийском колпаке, внезапно входящую в кабинет, где министры павшего режима толкают, сбивают друг друга с ног, пытаясь пробраться к единственному спасительному выходу – окну.
За пять дней до этого на литографии, скорее скульптурной, чем рисованной: «Парижский мальчишка в Тюильри» (этот мальчишка – сам Домье в детстве) – ее было бы интересно сопоставить с некоторыми страницами Гюго в «Увиденном» и Флобера в «Сентиментальном воспитании» – Домье изобразил сцену, против которой протестовал бонапартист Делакруа {145} : «Черт возьми, как тут здорово мягко!» – восклицает парижский мальчишка, подпрыгивая на троне. В это время другой гаврош во фригийском колпаке салютует саблей своему приятелю, у которого на голове треуголка, больше похожая на императорскую, чем на королевскую.
Наконец, 7 марта грозный противник прежнего «Порядка» в последний раз смеется над скрягой Луи-Филиппом, высаживающимся в Англии и восклицающим в припадке алчности, в которой столь справедливо упрекали Орлеанское семейство: «Все потеряно, кроме кассы!»
Среди сумятицы партий, путаницы идей, крайностей, которые вскоре поставят под угрозу самое существование Марианны, Домье мобилизует все силы своего ума, сосредоточивает весь свой – истинно народный – здравый смысл.
В «Паникерах и паникующих» мы видим буржуа, перепугавшихся при виде мальчишек, марширующих с деревянными ружьями:
– Куда идет эта шайка вооруженных людей? Бежим домой, жена, страшно!
«Банкетчики» знакомят нас с доблестным национальным гвардейцем Рифоларом, который «не выходил из дому в течение пяти июньских дней, но не может устоять перед желанием показать себя; несмотря на слезы жены и детей, он берет ружье и мчится на банкет… в провинции».
Но, бичуя малодушие сторонников порядка, Домье-якобинец ничуть не симпатизирует доктринерам нарождающегося социализма… В рисунке «Женщины-социалистки» он смеется над поведением матрон, бросающих семью ради клуба, манифестаций и банкетов (удобные алиби) и выдвигающих на выборы в законодательное собрание свою незаконную кандидатуру.
Такая критика, направленная против феминизма и социализма, не всегда была безопасна. Не говоря уже о том, что суфражистки 48-го года несколько раз замышляли наказать дерзкого карикатуриста, и защитники идеи обобществления часто выражали резкое недовольство нападками Домье. Не раз стекла в окнах «Шаривари» разлетались в осколки, а решительные сторонники Огюста Бланки грозили ворваться в редакцию {146} .
Вернувшись к жанру, в свое время стяжавшему ему первые лавры, Домье начал посещать Национальную ассамблею и Законодательное собрание.
Портреты, опубликованные в сериях «Представленные представители», «Парламентские физиономии» и «Парламентские идиллии», далеко не так хороши, как типы в «Непроституированной палате» и «Законодательном чреве». Неудачная идея, побудившая Домье злоупотреблять одним и тем же приемом – соединять большие головы с маленькими туловищами, – в известной мере привела к снижению художественной ценности этих чрезмерно шаржированных изображений, лишенных световой оболочки и пластичности.
Вот одетый с иголочки Шангарнье {147} , ораторствующий на трибуне в дремотной атмосфере нескончаемого заседания; вот председатель Марраст в виде старорежимного маркиза; Тьер – маленький капрал; Пьер Леру, держащий наподобие плавательных пузырей свои «Социальные афоризмы»; Монталамбер, бритый, как ризничий; Гюго, возвышающийся над грудой своих сочинений; Беррье – грузный, брюзгливый; Жером Бонапарт – Цезарь, более походящий на Панталоне. В «Парламентских идиллиях» Дюпен и Тасшеро изображены в виде фавнов; Тьер, Беррье и Моле – в виде жнецов; Буле де ла Мерт превращен в Зефира, а Бюффе – в Нарцисса.
Борьба Луи-Наполеона против республики окончательно разбудила дух великого политического сатирика. Возмущенный Домье после обличения коалиции на Рю-де-Пуатье {148} , с негодованием разоблачал происки Общества 10 декабря. Он заклеймил также подрывную работу наглого и коварного агента будущего императора, «Ратапуаля», в шляпе с задранными полями над морщинистым лицом, лихо подкручивающего нафабренные усы и размахивающего тяжелой дубинкой, напоминающей палку Робера Макера.
Домье одним из первых учуял бонапартистскую угрозу. Начиная с 9 июня 1848 года, он пытался бороться против симпатий народа к Луи-Наполеону. Один из рисунков Домье иллюстрирует следующий диалог между тремя добрыми буржуа, один из которых одет в форму «национального гвардейца»:
– Говорю вам, я видел Бонапарта на ипподроме!
– Но этого не могло быть, ведь я только что слушал его в Национальной ассамблее!
– Вы оба ошибаетесь: я только что проходил через Вандомскую площадь, и он стоял на колонне!
2 декабря 1848 года, предугадывая дальнейшее развитие событий, он рисует «Наполеоновский корабль»: орел тащит Луи Бонапарта, который плывет в своей знаменитой маленькой треуголке, перевернутой наподобие лодки.
Спустя несколько дней – 11 декабря – появился другой рисунок: «Господа Виктор Гюго и Эмиль де Жирарден стараются поднять на щит принца Луи».
К несчастью для Франции, Ратапуаль вскоре победил. Провидение Домье оказалось напрасным.
Баррикады в Париже, расправа солдат с народом на бульваре Мадлен, массовые убийства в провинции Ниверне, восстания в Провансе, Ламбессе… и торжество силы, подкрепленное плебисцитом, обеспечено.
На этот раз прессе заткнули рот еще грубее, чем в худшие годы Июльской монархии. Начиная с рокового дня 2 декабря, Домье был обречен иллюстрировать одни лишь ничтожные события: появление воздушных шаров над ипподромом, фестивали хористов, пребывание алжирских стрелков в лагере Сен-Мор; выступление Жоффруа-Сент-Илера {149} , рекомендовавшего соотечественникам бифштексы из конины. Начиная с этой фатальной даты, он словно утратил почву под ногами. К счастью, он нашел известное утешение в скульптуре, живописи и рисунке.
Впрочем, международные события дают ему много поводов излить свою желчь. Домье рисовал «казаков – пожирателей свечек» и свирепого Николая I, чьи светлые бакенбарды и выпученные глаза, греческий шлем с уткой и серебряную кирасу художник прославил на всю страну; кайзеровских солдат и генералов, подобно опереточным карабинерам у Оффенбаха, вечно всюду опаздывающих, Оноре Домье заставил всю Францию смеяться над ними.
Угнетенные национальности: ирландцы, поляки, жители Венеции – нашли в нем своего защитника. Успехи пруссаков в войне против Австрии подсказали Домье его страшную «Мечту изобретателя игольчатого ружья»: страшный персонаж с болезненным злобным лицом, с улыбкой созерцает громадное поле, усеянное трупами. Художник получил новую записку от Мишле:
Великолепно, дорогой мсье, великолепно! Изобретатель игольчатого ружья! Это самое великое, самое оригинальное Ваше произведение.
Жму Вашу руку.
Ж. Мл
С каждым днем атмосфера становилась все мрачнее, тяжелые, грозные тучи сгущались над Европой, ощетинившейся штыками, усеянной пушками. С пророческим провидением Домье изобразил угрюмый вооруженный до зубов мир в виде «мира, глотающего сабли».
Разразилась франко-прусская война. Домье, воодушевившись надеждой, рисует солдата национальной гвардии 1870 года, которому отдает честь волонтер 1792 года. Потом после всех наших перипетий, он рисует провозглашение республики, всеобщую мобилизацию, батальоны национальных гвардейцев, одетых в блузы, и женщин, идущих за ними, протягивающих к ним детей.
Перед лицом катастрофы старый художник негодует еще более бурно, чем во времена резни на улице Транснонен. Домье показывает нам «Кошмар г-на Бисмарка». Перед государственным мужем, заснувшим в кресле, пляшет язвительно смеющийся скелет на фоне огромного поля битвы, покрытого трупами.
Эти развалины, уголок опустошенной деревни, заставляют вспомнить лучшие рисунки из «Ужасов войны» Гойи {150} . Под рисунком – краткая подпись, цитата из речи Бисмарка в Бордо: «Империя – это мир».
На рисунке «Потрясенная наследством» 1871 год изображен в виде женщины в трауре, закрывающей лицо, чтобы не видеть горы жертв «Страшного года».
1872 год: нужно восстановить поверженную Францию. Но партии дерутся между собой, забыв о высших интересах родины. Домье вразумляет их. У развалин дома каменщики вот-вот вступят в драку: «Если рабочие будут драться между собой, как сделать, чтобы здание было вновь отстроено?»
Чтобы прекратить междоусобицу, художник рекомендует председателю Национального собрания новую модель звоночка в виде прусской каски, «надо напомнить собранию, что землю Франции еще нужно освободить».
Наконец, накануне суда над Базеном {151} , Домье создает рисунок: у дверей военного трибунала собралась толпа свидетелей… скелеты солдат, женщин, детей – гневных обвинителей… Эта литография, оставшаяся неопубликованной, – последняя работа старого мастера.
Жестокое испытание обрушилось на него: борец и знаток нравов никогда больше не увидит сменяющие друг друга картины жизни. Для Домье, как и для многих других художников, напряженно вглядывающихся в движущиеся предметы, в яркие цвета, померк дневной свет.