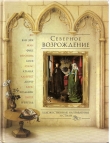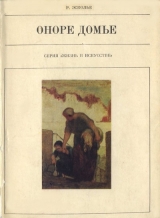
Текст книги "Оноре Домье"
Автор книги: Раймон Эсколье
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Мы уже неоднократно говорили здесь о том, сколь остро и глубоко Оноре Домье ненавидел своих политических противников. Однако это не значит, что создатель карикатуры «Похороны Лафайета» – Домье-полемист – был человеком свирепым и полным яда. Напротив, Домье-человек неизменно отличался ясностью духа и добродушием, что отнюдь не исключало в нем юношеской страстности убеждений, отвращения ко всякой несправедливости, веры в свободолюбивые идеалы.
Эти две стороны характера Домье вдумчиво проанализировал Дюранти {124} :
«Следует уяснить себе, что такое добродушие Домье, и понять, что его уму, его натуре были присущи две стороны: добродушие, о котором уже говорилось, – оно проявлялось в его зарисовках нравов, сцен повседневной жизни. Другой стороной натуры Домье была страстность, резкость. Ее он привносил в свои политические рисунки».
Впрочем, когда враг был повержен, при самой упорной ненависти к нему, Домье великодушно смолкал. После того как свершилась революция 1848 года, Домье, беседуя как-то раз с Шанфлёри, признался ему, что больше не согласен осыпать стрелами свергнутого короля.
– Мне надоели эти выпады против Луи-Филиппа, – сказал он. – Один редактор заказал мне серию карикатур, но я не могу…
Ясность духа – вот главная отличительная черта характера Домье. В своих «Беседах» Жан Жигу, хорошо его знавший, писал: «Домье – прямая противоположность Гаварни: он был прост в обращении, равнодушен к славе. К нему применимы слова, сказанные Беранже об Эмиле Дебро: „Он позволил своей жизни течь, как течет вино из бочки с пробитым дном“.
Прогуливаясь по залам Лувра, Домье любил останавливаться у картины Мурильо „Нищий“ {125} .
– Смотрите, – говорил он сопровождавшему его другу, – видите этого бедного мальчика-нищего? Он калека, лохмотья не защищают его от холода, в кармане у него наверняка нет ни одного лиара, а между тем он смеется!.. Он смеется, так неужели мы, с нашими крепкими руками и ногами, мы, здоровые люди, которые, вопреки трудностям жизни, всегда находим для себя пропитание, так что нам не грозит голодная смерть; неужели мы и те, кто с нами, позволим себя сломить, неужели мы откажемся от этого сокровища – бодрости и ясности духа?»
Смех нищего мальчика с картины Мурильо – это и есть, на взгляд Оноре Домье, высшая мудрость жизни…
ПРЯМО К ЦЕЛИ
«У Домье есть некоторое сходство с Мольером. Подобно ему, Домье идет прямо к цели. Идея выявляется сразу. Взглянул – и понял. Подписи под его рисунками, в общем, не нужны. Как правило, без них можно было бы обойтись. Комическое в его работах вообще неумышленно. Художник не ищет, точнее, можно сказать, что идея возникает у него непроизвольно. Диапазон его карикатуры велик, но в ней нет ни злобы, ни желчи. В основе всего его творчества – честность и добродушие. Он часто – заметьте эту черту – отказывался использовать иные великолепные, но чрезмерно острые сюжеты, могущие дать пищу сатирику, потому, говорил он, что пришлось бы выйти за пределы комического, а это оскорбило бы человеческое сознание.
Когда он огорчает нас или приводит в ужас, это происходит почти помимо его воли. Он нарисовал то, что увидел, и вот что вышло из этого. Он страстно любит все естественное, и потому ему трудно подняться до абсолютного комизма. Он даже тщательно избегает всего, что могло бы не быть мгновенно и отчетливо понято» [13]13
Baudelair Ch. Curiosités ésthétiques. Calmann-Lévy, éditeur.
[Закрыть].
Эти слова Бодлера можно резюмировать так: Домье, как и Мольер, был одним из величайших знатоков человеческой природы. Изображение нравов и характеров, типов, выражающих эпоху, а равно и общих для всех эпох «синтетических» типов – вот из чего слагается творчество Домье, именно это и придает его работам столь яркую и многообразную жизненную силу.
Когда 27 августа 1835 года была запрещена «Карикатюр», а вместе с ней – и политические шаржи, можно было думать, что этим ударом будет подавлено и вдохновение Оноре Домье. Но этого не произошло. Автор «Законодательного чрева», после того как его лишили возможности нападать на Июльскую монархию, стал обличать мир биржевых воротил, который она породила, высмеивал господствовавшую в стране буржуазию, заклеймил судейских, ловивших рыбку в мутной воде нового режима. Все это, как подчеркивает Бодлер, делалось без чрезмерного нажима, с той правдивостью и наблюдательностью, которая убеждает и тем лучше бьет в цель. Уже в силу одного этого созданные Домье зарисовки нравов являются драгоценными историческими документами.
Раньше чем пройтись по этой огромной галерее (литографических работ Оноре Домье насчитывается около четырех тысяч – точное число, по Азару и Луа Дельтейлю {126} , 3958 литографий), необходимо разобраться в вопросе о подписях к рисункам Домье – вопросе, вызывавшем много споров, на что содержится намек в статье Бодлера.
Кто автор этих подписей – сам художник, Филипон или какой-либо другой карикатурист или литератор?
В статье, напечатанной в «Фигаро» 13 февраля 1879 года, Альбер Вольф пишет:
«Эти меткие подписи, которые принесли художнику больше славы, чем его замечательное мастерство, были составлены не им. Домье фиксировал на камне образы людей и явлений своего времени, заботясь только о художественной стороне. Но какой-нибудь изобретательный человек клал перед собой газетный лист с рисунком и подбирал к нему подпись. Скромная роль изобретательного человека сводилась к тому, чтобы сказать: „Вы сейчас увидите то, что увидите“, но сплошь и рядом он при этом полагал, что в силу этого скромного вклада творение Домье принадлежит ему. Так думал Филипон, основатель „Карикатюр“. Всякий раз, как в какой-либо газете упоминали о Робере Макере – герое карикатур Домье, в редакцию тут же приходило письмо от Филипона, требовавшего, чтобы его признали создателем Макера, так как подпись под рисунком сочинил он. Но с тем же основанием все, кто когда-либо сотрудничал в „Шаривари“, могли претендовать на авторство в этих работах Домье. Да меня самого, тогда совсем молодого человека, Луи Юар {127} заставлял садиться к столу с литографиями Домье и придумывать к ним подписи, по цене сто су за штуку».
Версия, изложенная Альбером Вольфом после смерти художника, подтверждается тем, что, по свидетельству друзей, Домье не придавал этим подписям к рисункам никакого значения.
Рисуют ведь не слово – рисуют жест или выражение лица.
– Подпись, – говорил Домье, – никому не нужна. Если мой рисунок ничего вам не говорит, значит, он плох; подпись не сделает его лучше. Если он хорош, то вы поймете его и без слов.
Одно, во всяком случае, несомненно: Домье сам сочинил множество подписей к своим рисункам, которые, как свидетельствует Бернар Добиньи, часто подсказывала ему жена. Видимо, ближе всех к истине Дюранти, когда он пишет:
«Теперь почти повсеместно принято считать, что подписи к рисункам Домье сделаны не им: чаще всего их сочинял Филипон, а также Луи Юар, который сорок лет назад был штатным сотрудником „Шаривари“. Все же Домье немало подписей сделал сам, думаю, ему принадлежат те, что кажутся наиболее „естественными“.
Как мы видим, очень трудно провести грань между тем, что принадлежит Домье, и тем, что сделано Филипоном или кем-либо из его подражателей. Сегодня перед нами все творчество Оноре Домье, и невозможно отделить от него подписи, которые, как подчеркнул Альбер Вольф, обретают смысл лишь благодаря рисунку, под которым стоят. Вывод: подписи под рисунками Домье принадлежат Домье.
После того как перестала выходить газета „Карикатюр“, автор рисунка „Похороны Лафайета“ стал работать только для „Шаривари“. В этом основанном в 1832 году сатирическом листке, где Домье вскоре было суждено встретиться с Гаварни, отныне и до той минуты, когда ослабевшие от лет руки художника выронят карандаш, будет появляться большинство литографий Домье.
Домье дебютировал в „Шаривари“ политическими карикатурами. На одном рисунке он показывает нам „М. де Лобо {128} , который потребовал назначения его главнокомандующим Северной армией в случае, если крепость Антверпен будет атакована с моря“. На другом – маршала Сульта в виде пай-мальчика, на третьем – Мадье де Монжо в виде дурачка, спешащего на придворный бал.
18 августа 1833 года „Шаривари“ опубликовала два великолепных „портрета“ работы Домье: убийц и насильников Бастьена и Робера, представших перед судом присяжных департамента Сена. Под заурядной физиономией первого и страшной головой с приплюснутым черепом второго художник нарисовал скелет жертвы. Краткая подпись под рисунком свидетельствует, что парижанки того времени были столь же любопытны, как и нынешние: „Это зловещее вещественное доказательство вызвало у двухсот дам острый прилив любопытства и побудило их вытерпеть долгое, утомительное и в высшей степени отталкивающее судоговорение“.
20 декабря 1835 года в одном из рисунков серии „Парижские флибустьеры“ под названием „Тираж“ Домье сделал легкий иронический намек на строгости законов о печати, угрожающих „Шаривари“, так же как в свое время „Карикатюр“.
Сцена, как говорится, „схваченная на лету“, переносит нас в магазин издательства Обер, „где накануне Нового года толпится вдвое больше любопытных, чем обычно“. Здесь работают карманные воры, которые притворяются будто их толкают или же сами толкают друг друга и при этом опорожняют карманы простофиль – и спереди и сзади. Этот разбой, утверждает подпись, „показывает, что жулики – единственные люди, которым полиция дает возможность пользоваться свободой печати“ [14]14
Шутка построена на каламбуре. В разговорной французской речи слово «тираж» означает не только тираж газеты, но и tirer – тянуть – прием карманных воров.
[Закрыть].
Эти „Парижские флибустьеры“, где некоторые типы кажутся несколько искусственными, подводят нас к появлению Робера Макера и его приспешника Бертрана.
Кто не знает этих двух неразлучных приятелей, созданных гением Фредерика Леметра и Домье? Уже много раз рассказывалось, как великий романтический актер превращал серьезную мелодраму „Гостиница в Адре“ в „кровавую и фантастическую буффонаду“. В его изображении Робер Манер – это „морализирующий“ каторжник, денди в лохмотьях, свирепый, обаятельный и сумасбродный, в его заурядной трагедии заключена широкая литературная и политическая сатира» [15]15
De Banville Théodore. Mes souvenirs. Paris, Fasquelle, éditeur.
[Закрыть]. Менее известно, как Фредерик открыл тип Манера, чьи «подвиги» впоследствии иллюстрировал Домье. Об этом поведал нам Банвиль: «Как-то раз Леметр, весьма недовольный своим костюмом и к тому же весьма голодный, пересек бульвар, чтобы купить в лавке кусок пирога. Вдруг актер остановился в радостном изумлении: какой-то покупатель, пришедший сюда раньше него, тоже поедал кусок пирога у входа в лавчонку. Какими впечатляющими мазками, в каких героических победоносных позах, какими яркими красками, замешанными на свете и крови, будет изображаться тот человек в грядущие годы!..
Прекрасный, как Антиной, как юный Геркулес, неизвестный прохожий, в серой продавленной шляпе на великолепной всклокоченной шевелюре, стоял и ел пирог. Один его глаз прикрывала черная повязка. На нем было кашне, завязанное наподобие длинного галстука, который, по тогдашней моде, целиком закрывал рубашку. Но в данном случае ярко-красное шерстяное кашне, доходившее до подбородка, как раз скрывало отсутствие рубашки. На его белом жилете болтался на черном шнурке круглый лорнет из фальшивого хрусталя и поддельного золота. Из одного кармана его зеленого фрака с длинными фалдами, украшенного посеребренными пуговицами, но более истертого и испещренного дырами, чем стены Ниневии {129} , желтыми и красными волнами ниспадали лохмотья, некогда бывшие шейным платком.
На правой руке неизвестного, в которой он держал пирог, торчал обрывок, точнее, призрак изодранной в клочья белой перчатки, которую он, казалось, гордо выставлял напоказ, а другой – голой – рукой он сжимал огромную, изогнутую, диковинную палку, какую носили щеголи времен Директории. Все это вызывало восхищение, но не это было главное: его штаны из красного сукна – вот чем следовало любоваться, не произнося ни слова, вот что надо было лицезреть, упав на колени! Когда-то это были военные брюки с кожаными леями, но теперь кто-то бесстыдно залатал их кусками материи самых неподходящих цветов; и каким приемом, каким волшебством, каким чудом эти кавалерийские штаны, явно скроенные широкими и просторными, были превращены в штаны, сидевшие в обтяжку!
Из-под этого чуда выглядывали белые чулки, на которые наползали своего рода котурны с блестящим матерчатым верхом; на ногах фантастического незнакомца, евшего пирог, были женские туфли! Он был красив, как бог, бесстыден, как Диоген, франтоват, как светский гуляка, безмятежен, как дитя, и он пожирал свой пирог с величественным изяществом Аполлона, вкушающего амброзию. Фредерик молчал, пораженный, с восхищением и ужасом, не смея пошевельнуться. Он не спросил у этого человека, представлявшего собой некую помесь герцога Лозена {130} с каторжником: „Из какой тюрьмы вы сбежали?“ Он не спросил ничего, ничего не сказал незнакомцу. Фредерику нечего было ему сказать, он довольствовался тем, что продолжал разглядывать его, в душе вознося ему хвалу… Он нашел, увидел во плоти существо, которое он – поэт и актер – должен был ввести в воображаемый мир, того, кого будет потом рисовать Домье; того, кто станет Сидом и Сканеном {131} современного театра, – словом, он нашел Робера Макера».
Однажды вдруг прошел слух, что правительство собирается прекратить представления пьесы, в которой Фредерик Леметр с триумфом выступал каждый вечер. Редакторы «Шаривари», почуяв, что в образе Робера Макера, схваченном Фредериком Леметром, сокрыт огромной силы подрывной заряд, опасный для Июльской монархии, решили, что спектакли будут продолжаться во что бы то ни стало, если не на сцене, то на страницах их газеты.
В ту пору много говорили о собрании сказок под названием «Сто одна». Филипон потребовал от Домье серии «Сто один Робер Макер». И рисунки были сделаны художником, все сто один, в 1836 и 1837 годах, и «даже, – сообщает Дюранти, – издатель Дютак, полагая, что жила еще не иссякла, в свою очередь заказал художнику еще сорок штук, но от этой второй серии пришлось отказаться, так как она в конце концов прискучила публике».
Впоследствии Домье, кажется, был не очень высокого мнения об этой серии Роберов Макеров, хотя она немало способствовала его известности.
– Ну вот, – ворчал он, – что мне все толкуют про моих Роберов Макеров? Это, может быть, самое худшее из всего, что я делал.
Суровая оценка! Бесспорно, слишком суровая. Конечно, как ни старался художник всякий раз по-новому показать главных действующих лиц придуманного им действа, пухлого Макера и поджарого Бертрана, все же беспрестанная демонстрация одних и тех же персонажей вызывает ощущение монотонности, а затем и скуки.
Возможно также, сама тема этих рисунков в какой-то мере ограничивала дальнейшее развитие природной наблюдательности Домье. Слишком часто в его композициях, скорее аллегорических, чем живых, усилия художника пропадают даром: он становится просто иллюстратором подписи, иногда чрезвычайно плоской, – и это очень жаль.
И в то же время, какое глубокое лицемерие, какое коварное плутовство вскрыты в образе Робера Макера – финансиста, политика, врача, адвоката, журналиста, филантропа, во всех случаях обделывающего «дела» в худшем смысле слова, предшественника Исидора Леша – героя Октава Мирбо {132} . И как его ученик, скелетообразный Бертран, робко оглядывающийся на своего учителя, тоже умеет притвориться честным человеком, растерянным и простодушным! Сколько язвительной сатиры в показе этого парада низости, во все времена, включая наше, процветающей за счет «простаков».
В первом листе «Карпкатюраны», вышедшей 20 августа 1836 года, Робер Макер и Бертран размышляют, что делать дальше, беспокоясь за свое будущее, – ведь в театр им отныне вход уже заказан.
– Бертран, я обожаю деловую жизнь, – говорит ему Макер, – хочешь, откроем банк, но, знаешь, настоящий банк! Капитал: сто миллионов, сто миллионов миллиардов акций. А потом – мы накроем Французский банк, накроем банкиров и банкистов, сиречь мошенников, накроем весь мир!
– Да, – отвечает Бертран, – но вот только полиция…
Но Робер с презрением обрезает его:
– До чего же ты глуп! Кто посмеет арестовать миллионеров!..
Газетное дело вступило в период перестройки. Эмиль де Жирарден, своего рода Наполеон от публицистики, основал газету по одному су за номер – информационную и деловую газету. Сидя в своем кабинете, мсье де Робер Макер – или де Жирарден – объясняет свою систему:
– Газета стоит нам 23,50 франка. Мы продаем ее по 20 франков. Чистая прибыль – 3,50 франка. У нас тысяча подписчиков, следовательно, наш дивиденд составляет 3 миллиона 500 тысяч франков; ясно как день! Пусть мне возражают, приводя цифры; иначе я буду привлекать оппонентов к ответственности за диффамацию!
Время, как известно, показало, что Эмиль Жирарден был прав.
Вот Робер Макер высокомерно глядит на толпу подражателей: художников, лавочников, финансистов, музыкантов, адвокатов.
«Все-таки лестно, – восклицает он, – иметь столько учеников! Но досадно, что их слишком много; конкуренция подрывает коммерцию. Если так будет дальше продолжаться, нас захлестнет, мы превратимся в старую ветошь, подохнем с голоду! Да, придется идти в жандармы или в капуцины!»
Иногда фарс перерастает в трагедию, как в литографии с заголовком «Дебют», где мы действительно присутствуем при дебюте Робера Макера и Бертрана на медицинском поприще.
У постели юной больной, прелестной и хрупкой, приятели тихо переговариваются:
« Бертран. Нет, больная слаба… она может не выдержать. Оперировать невозможно!
Робер Макер. Невозможно! Для дебютанта нет ничего невозможного… Слушай, никто нас не знает. Если операция не удастся, мы останемся в тени. Это нам не повредит. Но если вдруг случайно она удастся… Тогда дело сделано, мы входим в моду, наша репутация обеспечена!
Вместе. Будем оперировать! Будем оперировать!»
Или вот Макер, продающий библии и распивающий при этом шампанское с девками. Макер – блудный племянник, душащий в объятиях агонизирующего дядю. Овдовевший Макер, уступающий бедным треть спорного наследства жены при условии, что ему выплатят вперед все остальное. Макер, директор страховой компании, сулит застрахованному – в случае его смерти – золотые горы. Если же компания не выполнит своих обязательств, говорит он, у вас как-никак останутся квитанции и право обратиться в суд.
Это поистине «комедия в ста актах» современного мошенничества. Можно по-разному относиться к этой длинной серии, но вместе с тем надо согласиться с Бодлером, что «Робер Макер положил начало карикатуре нравов… Отныне карикатура пошла новым путем; она уже не избирала для себя специфически политическую форму. Она стала общей сатирой на граждан. Она вступила в область беллетристики».
Позднее, в 1844 году, в серии «Современные филантропы», мы увидим достойных последователей Макера и Бертрана. В этой серии художник резко заклеймил лицемерие тех, кто извлекает выгоду из милосердия, из человеческой солидарности. Это светские дамы, организующие благотворительные базары с единственной целью – показать свои наряды; добропорядочные люди, неплохо зарабатывающие на раздаче дешевых супов. Защитники животных, избивающие возницу, виновного в том, что он перегрузил телегу, которую тащит его лошадь. Щедрые жертвователи, лишающие наследства свою семью в пользу фонда, увековечивающего их память. Нам знакомы все эти благодетели с напыщенными респектабельными манерами и, перелистывая реестр филантропов времен Луи-Филиппа, мы невольно вспоминаем мсье такого-то, мадемуазель такую-то или же мадам…
Романтики провозгласили: прекрасное и уродливое суть одно и то же. Посещение речных купален вдохновило Домье на создание великолепнейшего музея таких анатомических уродств, какие только можно вообразить. Наш идеал женской фигуры рушится перед безжалостными разоблачениями Домье: тяжко глядеть на эти дряблые, распухшие тела, на этих «Купальщиц» с редкими волосами, с выпирающими ключицами, с отвислой грудью, с дряблым толстым животом, с плоскими ляжками, с неимоверно толстыми щиколотками. С большей снисходительностью принимаем мы насмешки над обнаженным мужчиной; вид этих тритонов, добрых буржуа и отцов семейства вызывает у нас меньшее отвращение, чем созерцание парижских наяд. Пошлое, насмешливое и, в сущности, изумленное восклицание купальщика, подсматривающего в щель между неплотно пригнанными досками «„Женской купальни“ по 4 су за вход», могло бы служить эпиграфом к этой прекрасной серии, в которой женщина так или иначе принижена:
«Посмотри-ка, вон толстуха Фифин! Думали, она Венера. Ну и уродина!»
Эти добытые в речных купальнях сведения о человеческих уродствах после Домье-карикатуриста использует и Домье-живописец. Не там ли он увидел эти фигуры с большими животами, с тяжелыми складками жира, которые так охотно изображает Иорданс {133} ? Впрочем, красоту этого безобразия показал и сам Домье в своем «Силене».
Да и нравились ли когда-нибудь Домье гибкие, изящные линии? Короче, любил ли он вообще красоту?
Некоторые критики как будто находили в его творениях прелестные фигурки. Одни при этом ссылались на второй лист из серии «Разводки», на котором молодая мать играет со своим ребенком. Другие указывали нам на влюбленную пару, радующуюся, что ускользнула от ревнивого мужа. В действительности же редко встречающиеся фигуры этого рода всегда второстепенны, чаще всего едва намечены.
Могучего рисовальщика, создателя «Улицы Транснонен», не привлекали грация, миловидность.
Это неопровержимо доказано тем, что ему не удалось по-настоящему передать обаяние двух по самой природе своей обаятельнейших существ – молодой женщины и ребенка.
Детей Домье изображал довольно часто в серии «Отцы», в «Добрых буржуа» и «Учителях и малышах». По художник всегда придавал ребенку черты, не свойственные его возрасту, изображал его преждевременно состарившимся.
Посмотрите на новорожденных Домье: тело их слишком мускулисто, в их лицах нет ничего детского, рот искажен старческой гримасой. Это не дети, а карлики.
Хорошенькие, элегантные молодые женщины Гаварни, с их стройными ножками, обтянутыми атласными гетрами, с тонкой талией, проступающей в широком платье из цветастого муслина, женщины с нежными лицами, улыбающимися из-под огромных шляп а-ля Памела. Иногда, правда, в «Супружеских нравах» мы замечаем мимолетную, отдаляющуюся фигуру – приятный силуэт неверной жены какого-нибудь мелкого буржуа, но чаще всего мы видим ее только со спины, скрытую плащом из крепа, закутанную в шаль.
Как истинный карикатурист, Домье задерживал свое внимание только на некрасивых и смешных женщинах. Этих-то, конечно, он знал хорошо. Когда он пишет их, ему нет равного. В общем, он милостив к нежным супругам шляпочников и бакалейщиков, которые живут бесхитростной, но здоровой жизнью. Его острая ирония, подкрепляемая здравым смыслом, действительно проявится только за счет женщин, которые пытаются уклониться от чисто женских обязанностей: так, он свирепо набросится на «Синие чулки» (1844) и «Разводок» (1878).
Талантливые женщины, составляющие в наше время славу французской литературы, должны с этим примириться. Оноре Домье был ожесточенным противником писательниц своего времени, хотя в их первом ряду и блистала Жорж Санд.
Художник видел в них разрушительное начало семьи. Он показывает нам «синие чулки», интригующие в редакциях, чтобы протиснуть там что-нибудь из своего изобилия рукописей, держащие мужей под каблуком, заставляя их считать белье, чтобы самим не отрываться от своих литературных трудов, курящие опиум, чтобы доставить себе экзотические ощущения.
Вот одна из них, которая скоро подарит мужу ребенка, а публике – роман, говорит: чтобы дать имя каждому из этих творений, ей необходимо прежде всего посоветоваться со своим соавтором.
Вот другая женщина: она стремится ограничить рост семьи; у нее нет желания терпеть крики еще одного ребенка, когда она размышляет о поэзии.
– О чем ты думаешь, отчего ты бродишь по ночам? – спрашивает у жены внезапно разбуженный добряк.
– Я ищу новый способ убивать мужей; я не лягу спать, пока не найду его!
Испуганный муж восклицает:
– Только бы она не испробовала его на мне!..
В другом рисунке Домье дает нам представление о системе воспитания, выдвигаемой этими эмансипированными женщинами:
– Ах, моя дорогая, – возмущается одна из них, – какое странное воспитание вы даете вашей дочке! Да я в двенадцать лет уже написала роман в двух томах, и, когда он был закончен, моя мать даже запретила мне его читать, настолько он показался ей смелым для моего возраста!
Доходили ли эти нападки до наших писательниц? Вероятно, да, судя по следующей выразительной подписи:
«Как! Сегодня опять карикатура на нас в „Шаривари“! Ну и дела! Надеюсь, это уже последняя! Если когда-нибудь этот Домье попадется мне, он дорого поплатится за то, что поднял руку на синие чулки!»
Революция 1848 года, так глубоко захватившая все умы и давшая нам «Вулканических женщин», воспетых Шамом и Бомоном {134} , заставила «синие чулки» перейти из редакционных кабинетов на открытые трибуны. На бурные проповеди феминисток Домье ответил серией «Разводки».
Прежде чем перелистать ее, необходимо перечитать следующее место из воспоминаний Шанфлёри, актуальное и поныне.
«Кто присутствовал на странных представлениях, устраиваемых женским клубом, тот сочтет насмешки карикатуриста, в общем, довольно умеренными. Выступать публично, взойти на трибуну, произнести речь – как женщины всем этим гордились! Но как несчастные поплатились за недостаток стыдливости!
Перо бессильно передать, как публика извращала смысл некоторых безобидных слов, внезапно обретавших циничный и непристойный смысл из-за того, что ораторов беспрерывно прерывали криками…
Бедные женщины! В душе каждый жалел, что они стали мишенью жестокого бесстыдства. Но надо ли было их жалеть? Они гордились своей ролью мучениц!
С высоко поднятой головой, сверкающими глазами, стояли они на трибуне, тщетно пытаясь прекратить беспорядок и шум. Они покидали трибуну, со своей председательницей во главе, под свист и крики, чтобы на следующий день опять раскрыть двери клуба, и снова толпа обрекала их на ту же кару.
Борьба волновала этих женщин. Они играли роль в революции! Оскорбления скользили по ним, не задевая их гордости [16]16
Champfleury. Histoire de la Caricature modem. Dentu, éditeur.
[Закрыть].
Иссохшие, снедаемые тщеславием существа, презирающие своих мужей, старавшиеся как можно скорее избавиться от бремени материнства, эти женщины, идущие против природы, вдохновили Домье на создание одной из самых удачных и уничтожающих литографий: две „разводки“ в садике, примыкающем к скромному загородному домику, с надменным презрением смотрят на молодую мать, играющую со своим мальчуганом. Одна из них – рослая, толстая, причесана на китайский манер. Другая – тощая, с волосами, висящими, как ветви плакучей ивы.
Эти бесполые матроны, осужденные своими теориями и своим безобразием на безбрачие, созерцают – в ярком пятне света – безмятежную радость природы, песнь жизни.
– Сколько еще во Франции, – восклицает одна из „разводок“, – грубых и отсталых людей! Вот женщина: в торжественный момент, который мы переживаем, она занята глупыми хлопотами о своих детях!»
Насколько снисходительнее был Домье, в конечном счете, к своей излюбленной модели, честному и посредственному человеку, незабываемые портреты которого он нам оставил, – к парижскому обывателю!
«Никто, – пишет Бодлер, – не знал и не любил обывателя, как предмет изображения, так, как он. Этого обывателя, ставшего своего рода готической руиной буржуа, с его нелегким бытом, – тип одновременно банальный и эксцентричный. Домье близко знал его, наблюдал и днем и ночью; художнику были ведомы его альковные тайны, поведение его жены и детей, он знал форму его носа и головы, знал, какой дух царит в его доме».
В «Добрых буржуа», в «Днях холостяка», в «Парижских лодочниках», в «Супружеских нравах», «Отцах», в «Радостях охоты и загородных прогулок», в замечательных «Пасторалях» – всюду Домье верно, почти не шаржируя, рисует нам вульгарные черты, испуганный при малейшем волнении взгляд, удовлетворенное тщеславие парижского мелкого буржуа. Юмор художника свободен от горечи; он вовсю смеется над своей моделью, и мы смеемся вместе с ним.
Во «Французских типах» (1835) Домье знакомит нас с бывалым человечком – владельцем скобяной лавки. У этого человека есть «рента в две тысячи франков, собака, кошка, канарейка и садик на подоконнике».
Буржуа далеко не всегда отказывается от надежды нравиться женщинам. На одном из рисунков серии «Кокетство» миловидная молодая женщина завязывает галстук очень некрасивому и очень грузному человеку, больше всего похожему на разбогатевшего коммерсанта.
– Вот, мсье, – говорит она. – Теперь вы можете отправиться ухаживать за другими!
А вот старый буржуа, подцепивший даму, усаживает эту приятную, покладистую особу в карету и, перед тем как сесть самому, велит кучеру ехать помедленнее. На это кучер насмешливо отвечает:
– Не беспокойтесь, буржуа, я все понял. Я повезу вас шагом, как будто это ваши похороны.
Но амур редко благоволит мелкому рантье. На лоне природы, как и в городе, в поле или в кабриолете, за рессору которого буржуа отчаянно цепляется, – повсюду он созерцает супружеское бесчестие и убеждается в слабости женского характера. Даже когда он наряжается в мундир бойца Национальной гвардии, мысль об этой слабости отравляет его военные будни.
Вот два великолепных «национальных гвардейца», прихлебывающих кофе; один из них отвечает на признания другого:
– Как у меня, совсем, как у меня!.. Все мои беды от Национальной гвардии. Как-то раз я был в ночном дозоре… Захотел зайти домой… И вот… все это я видел так, как сейчас вижу вас.
Наверно, Дидину рассмешил этот рисунок.
Буржуа – «национального гвардейца», у которого из-под мохнатой шапки вылезает ночной колпак, Домье прославил с еще большим блеском, чем Луи Рейбо. «Национальный гвардеец» на рисунке Домье, бредущий ночью по снегу и бормочущий «О, Родина!», забавен и схвачен очень верно. Чтобы найти модель, Домье на этот раз не нужно было выходить за пределы острова Сен-Луи, где орудовала рота Бутареля – типичная рота Национальной гвардии. Ее командир, имя которого впоследствии было присвоено одной из улиц острова, на свои средства одевал роту, сам делал рисунки формы рядовых и на смотрах пускал своих солдат первыми, с мешками на спинах. Легендарная рота, обессмертившая имя своего историографа, Жермена Патюро!
Но сатирик вовсе не намерен чрезмерно искажать истину ради того только, чтобы вызвать смех. Бывают у буржуа неверные жены, но в среде мелких рантье, коммерсантов встречаются также крепкие, достойные уважения семьи; с ними Домье знакомит нас почти с нежностью.