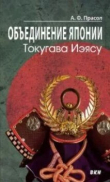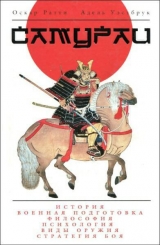
Текст книги "Самураи"
Автор книги: Ратти Оскар
Соавторы: Уэстбрук Адель
Жанры:
Прочая научная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Интенсивное и пространное использование определения «воинские» западными авторами при обсуждении искусства боя (хотя чаще всего оно основано на японских источниках) способно ввести в заблуждение. Например, мы легко можем прийти к ошибочному заключению, что воин (буси)феодальной Японии – прототип профессионального военного – был единственным создателем этих искусств и что только он один их практиковал. Совершенно очевидно, что термин «воинские» связан с войной, воинами, военными занятиями и солдатами. Отсюда мы можем сделать вывод, что боевые искусства являются искусствами войны, и, следовательно, они в большей степени связаны с массовыми сражениями на поле боя, чем с индивидуальными поединками. Однако ни одно из этих предположений не будет полностью правильным. Прежде всего японский воин феодальной эпохи был не единственным, кто практиковал будзюцу, и тем более не он один являлся создателем его специализаций. Его доминирующее положение в качестве человека, владеющего оружием, можно проследить с достаточной точностью до 1600 года, когда к власти пришел воинский клан Токугава и насильственно перевел все остальные кланы в другой класс, обладающий иными обязанностями, правами и привилегиями. Таким образом, все члены клана Токугава были поставлены, де-юре и де-факто, выше членов всех других социальных классов. Но японская история содержит множество свидетельств того, что до 1600 года, в эпохи существования древних родовых общин ( удзи) и господства придворной аристократии ( куге)Нара и Киото (Хэйан), различия между такими членами клана, как крестьяне, ремесленники и торговцы, с одной стороны, и воины – с другой не в являлись такими же разительными и непреодолимыми, как в эпоху развитого феодализма.
В исторические периоды, предшествовавшие консолидации страны в жестко стратифицированное общество эпохи сёгуната Токугава, что сделало переход из одного класса простолюдинов ( хэймин) в другой крайне трудным, а принятие члена другого класса в класс военных (буке)почти невозможным, демаркационные линии между классами не были слишком строгими. Как указывает Коле, в своей работе, посвященной жизни Киото в период Момояма, до самого конца шестнадцатого века «любой человек, наделенный способностями, мог самостоятельно сделать себе карьеру» (Cole, 58).
Указ о разоружении всех простолюдинов и духовенства, изданный в восьмой день седьмого месяца эры Тэнсё (1588) преемником Ода Нобунага, Хидэёси, является ясным и красноречивым доказательством того, что многие простолюдины имели в своей собственности такое оружие, как луки, копья и мечи, и, по всей видимости, достаточно хорошо умели им пользоваться. «Обладание… орудиями войны», честно признает этот декрет, «затрудняет сбор налогов и приводит к вспышкам восстаний». Такое положение дел вынудило Хидэёси лишить все остальные классы тех боевых средств, которые его собственный класс умел использовать с большой эффективностью. На самом деле, в течение веков, предшествовавших абсолютному доминированию воинского сословия, право военных на власть оспаривалось достаточно часто, особенно воинственными сектами буддистских священников и монахов, что в конечном итоге привело к их массовому истреблению при сёгунате Асикага (период Муромати) и в период Момояма, после чего они перестали представлять собой серьезную угрозу.
Предположение, согласно которому члены воинского сословия были единственными, кто использовал и развивал будзюцу, будет еще менее справедливым в отношении второстепенных методов единоборств, связанных с использованием в качестве главного боевого оружия таких инструментов, как посох (или само человеческое тело).
Многочисленные методы использования подобного оружия широко применялись в феодальной Японии, особенно после прихода к власти военной диктатуры Токугава. Школы боевых искусств, посещаемые самураями, часто включали подобные методы в свою тренировочную программу, но в доктрине будзюцу также существуют многочисленные свидетельства того, что их с не меньшим рвением и энтузиазмом практиковали и представители других общественных слоев.
По преданию, даже знаменитый поэт Басё мастерски владел посохом ( бо), а бесчисленные отшельники, монахи и философы, так же как и обычные простолюдины, могли со смертоносной эффективностью использовать в бою свои веера и курительные трубки – даже против мечей. В некоторых случаях эти люди были основателями конкретных стилей боевых единоборств, которые были признаны настолько действенными, что даже члены воинского сословия включали их в собственные программы военной подготовки.
Искусное владение собственными кулаками и ногами представителей некоторых религиозных сект было многократно зарегистрировано не только в китайских хрониках, но и манускриптах японских мастеров, которые, по их собственному утверждению, обучались своим методам невооруженного боя непосредственно в Китае.
На самом деле, даже в отношении тех боевых искусств, которые по закону могли практиковать только профессиональные военные – таких, как кэндзюцу (владение мечом) и яридзюцу (владение копьем), – мы находим свидетельства того, что представители других классов практиковали и применяли их против самих воинов, хотя лишь они имели законное право владеть подобным оружием. По всей видимости, многие из этих нелегальных владельцев были изгнанниками из воинского сословия, и именно они составляли костяк знаменитых отрядов профессиональных бойцов, которых нанимали торговцы для защиты своих товаров при перевозке от банд разбойников или охраны складов. Они также формировали группы профессиональных телохранителей, предоставлявших свои услуги всем, кто мог себе это позволить, в том числе и крестьянам, которые нанимали их для охраны урожая. Однако далеко не все эти наемные бойцы были выходцами из военного сословия (хотя, вполне естественно, такие люди являлись основным источником пополнения рядов наемников).
Так, например, «главный босс Токайдо», Дзирото Симидзу (1820–1893), который на закате эры Токугава контролировал там подпольный игорный бизнес, принадлежал к классу торговцев. Но происхождение одного из его лейтенантов, весельчака Исимацу, смерть которого после продолжительного боя на мечах в лесу от рук наемных убийц дорого обошлась последним, было настолько неясным, что о нем даже не осталось никаких упоминаний.
Как было отмечено в предыдущих разделах, прилагательное «воинские» семантически связано с воинскими занятиями и, таким образом, с главной функцией военных как класса: ведением войны. В таком случае, можем ли мы сказать, что все специализации боевого искусства являются частью искусства ведения войны? Даже после поверхностного знакомства с разнообразными специализациями и подвидами, представленными нами в ознакомительной таблице, становится очевидным, что далеко не все эти методы можно эффективно использовать на поле боя; таким образом, всеобъемлющее определение «воинские» либо является неточным, либо оно основано на предпосылках, не связанных напрямую с практической эффективностью в широкой области военной науки.
В конце концов, в древних хрониках будзюцу проводится определенное разграничение, когда в них в качестве основных навыков воина, а значит, и разновидностей воинского искусства, упоминаются следующие боевые специализации: стрельба из лука, владение копьем, владение мечом, верховая езда, строительство укреплений, владение огнестрельным оружием и морское дело (куда входило и плавание). Среди методов невооруженного боя, используемых воинами в качестве вспомогательного средства, те же самые хроники упоминают искусство податливости, или джиу-джитсу (дзюдзюцу).
Значительное количество специализаций опущено в этих военных хрониках – факт, который не должен вызывать у нас удивления, поскольку, с точки зрения воина, искусство обращения с боевым веером вряд можно сравнить со стрельбой из лука, а искусство владения деревянным посохом – с наукой огнестрельного оружия. Тогда откуда в общей доктрине будзюцу взялась эта решительность, широко демонстрируемая мастерами почти всех стилей и разновидностей боевых единоборств, в использовании прилагательного «боевой» (бу)при описании всех без исключения специализаций?
Как нам кажется, по крайней мере частичный ответ на этот вопрос может дать изучение причин той особой важности, которую придают японцы военным традициям в истории своей страны. Однако, прежде чем перейти к изучению этих традиций в следующих разделах, мы должны коротко повторить, что искусство войны, связанное с широкомасштабной конфронтацией большого количества людей на поле боя, не является частью данного исследования. Наш интерес сосредоточен главным образом на боевых единоборствах – искусстве прямого и персонального поединка между двумя (или несколькими) людьми, а также на их оружии, технических приемах и общей позиции. Мы не намерены здесь погружаться в теоретические дебаты о степени развития японского военного искусства, которое, по мнению некоторых авторов, было рудиментарным. Так, например, Бринкли, отзываясь о японских воинах, пишет, что это были «лучшие боевые единицы на Востоке, возможно, одни из самых лучших солдат в мировой истории», но далее, в том же самом разделе, он добавляет: «возможно, именно из-за высокого воинского мастерства отдельных солдат их командиры оставались посредственными тактиками» (Brinkley 1, 172). В трудах по истории военной науки часто говорится о высоком уровне развития военного искусства в Древнем Китае и его знаменитых теоретиках, таких, как Сунь-Цзы [1]1
Сунь-Цзы, или Сунь У – знаменитый древнекитайский стратег и военный теоретик, живший на рубеже VI–V вв. до н. э., автор трактата по военному искусству. (Здесь и далее – прим. пер.)
[Закрыть], который неоднократно подчеркивал социальный, массовый характер сражений на войне, а также абсолютное доминирование таких факторов, как дислокация войск и тыловое снабжение в победе над врагом. Но в века, предшествующие периоду Момояма (1568–1600), японские армии все еще «состояли из маленьких, независимых отрядов солдат, которые сражались скорее сами по себе, чем как подразделения в составе общего тактического построения» (Wittfogel, 199).
Так японские воины из одного клана сражались против воинов из другого клана; так они воевали с корейцами во время их первого легендарного вторжения на Азиатский континент; и именно так они встречали вторжение монгольских орд в 1274 и 1281 годах. Индивидуальный характер японского военного искусства, по свидетельству англичанина Уильяма Адамса (1564–1620), был заметен даже в крупнейшем сражении при Сэкигахара в 1600 году и при осаде замка в Осаке в 1614–1615 годах. «Феодальная Япония, – возможно, несколько поспешно заключает Уиттфогель, – подобно феодальной Европе не сумела основать собственную военную науку» (Wittfogel, 199).
Индивидуальный характер военного искусства в феодальной Японии, с таким романтизмом описанный в национальных сагах и исторических хрониках, на самом деле упрощает для нас исследование конкретных специализаций будзюцу, поскольку он позволяет нам ограничить область наших интересов, полностью сосредоточившись на индивидуальностипрямой, личной конфронтации. В свою очередь, основой нашего подхода к рассмотрению всевозможных прикладных аспектов будзюцу будет столкновение в ближнем бою – будь то на полях сражений или на улицах густонаселенного города, на пустынной горной дороге, в храме или даже в ограниченном пространстве человеческого жилища. И, кроме того, данное обстоятельство помогает нам с большей легкостью включать в текст описание всех видов оружия, технических приемов и психологических установок, изобретенных для решения проблем индивидуальной конфронтации.
Военные традиции в истории ЯпонииШирокое использование в доктрине будзюцу определения «воинский», по всей видимости, можно объяснить тем огромным, по мнению некоторых авторов, даже чрезмерным уважением, с которым японцы и поныне относятся к военным традициям, роли воинского сословия в определении судьбы нации и к этике, принятой этим классом для оправдания своего существования и своей политики. Это уважение основано на том факте, что всякий раз, когда мы говорим о боевом опыте Японии, мы говорим об одном из самых длительных и древних национальных опытов в данной области.
Как метко заметил Лафкадио Хирн, «почти вся достоверно известная нам история Японии состоит из одного большого эпизода: подъема и падения ее военной мощи» (Hearn, 259).
Панорамный обзор событий, через который эта мощь проявляла себя с различной степенью интенсивности на протяжении почти девяти веков, можно найти в таблице 2, а их более подробное описание – в части 1.
Таким образом, на протяжении веков вся внутренняя основа японской нации была насыщена идеями, этикой и чувством долга, присущими представителям воинского сословия. Эти элементы, заставившие бусивыйти на историческую сцену, основаны на твердой вере японцев в свое божественное происхождение, решимости отстаивать эту веру силой оружия и даже отдать за нее собственную жизнь, а также кодексе поведения, требующем беспрекословного повиновения приказам непосредственного начальника, который представляет собой связующее звено с божественным прошлым и поэтому знает все тайные пути к успешному выполнению миссии.
За многие века эти истины, как и продиктованный ими образ жизни, сформировали характер японцев, пропитав все слои общества и окрасив все стадии национального развития. Это был процесс жесткого диктата сверху как сознательного, так и бессознательного, который начался со всей серьезностью в конце эпохи Хэйдзё (710–784), с появлением воинских кланов, чьи услуги оказались бесценными (хотя в конечном итоге обошлись крайне дорого) для враждующих кланов придворной аристократии (куге)и императора ( тэнно) во время их ожесточенной борьбы за власть. Бусипринесли с собой свое собственное понятие о совершенстве, основанном на таких простых идеях, как личная преданность непосредственному начальнику и готовность сражаться и умереть без малейшего колебания. Эти идеи, согласно общепризнанным историческим источникам, представляли собой разительный контраст со сложными, интроспективными традициями культуры императорской столицы.
Контраст и появившиеся вследствие его трения в конечном итоге были устранены силой оружия. Многие аристократические кланы были полностью уничтожены, а те немногие представители знати, которые выжили, были лишены всяких средств влияния, будучи ограничены чисто представительскими должностями при императорском дворе. Были уничтожены огромные монастыри и библиотеки, содержавшие квинтэссенцию японской культуры эпохи Хэй-ан, – рукописи, хроники, произведения искусства. К 1600 году пространство было почти полностью расчищено.
С этого времени Путь Воина начал жестоко и в то же время незаметно внедряться в сознание всего населения: крестьянин, выращивающий рис, большую часть которого у него забирали вассалы местного даймё, или провинциального правителя, отрывал взгляд от своей мотыги, чтобы посмотреть на отряд самураев, ритмично марширующих рядом с направляющимся в Эдо паланкином.
Случайный путник замирал у обочины дороги и становился безмолвным свидетелем дуэли, часто смертельной, между двумя мастерами меча; во время празднеств, устраиваемых в течение всего года, толпы оживленных, суетящихся простолюдинов широко открытыми глазами наблюдали за показательными выступлениями мастеров боевых искусств, которые часто являлись кульминацией таких событий. По всей стране драма потенциально смертельной конфронтации между одним человеком и другим разыгрывалась снова и снова, пока эта конкретная форма человеческого опыта не отпечаталась почти неизгладимым клеймом в душе японцев.
На самом деле, в течение периода Токугава традиции воинского сословия под предлогом сохранения обычаев древней культуры в такой сильной степени определяли национальный характер, что у западных наблюдателей того времени возникло впечатление, будто японский народ «обладает врожденной воинственностью». Интенсивность войн и народных волнений в Японии поражала даже наблюдателей, прибывших из Европы, которая, о чем не следует забывать, в то время (как, впрочем, и в любое другое) вовсе не была мирной гаванью.
В статье, представленной Азиатскому обществу Японии в 1874 году, Гриффис отметил то, насколько военные действия привычны для жителей Японии, поскольку война была для них «нормальным», а мир «исключительным условием» (Griffis, 21). Тот же самый автор подчеркивает контраст между тем удовольствием, которое получают японцы, называя свою страну Земля Большого Мира, и, например, названиями улиц в Эдо, – такими, как «Панцирь», «Шлем», «Стрела», «Лук» и «Колчан». В своем анализе японского национального характера Бринкли отметил следующее:
«За видимой любовью ко всему возвышенному и утонченному скрывается сильное пристрастие к пышности военных парадов и к стремительности смертоносной атаки; и точно так же, как сёгун старался продемонстрировать гражданам своей столицы чарующую картину безмятежного мира, хотя это была всего лишь декорация для обширных военных приготовлений, так и японцы всех времен любили переключать свое внимание от школы фехтования к икебане, от поля боя к саду камней, подучая удовольствие от опасностей и борьбы первого и в то же время наслаждаясь изяществом и спокойствием последнего» (Brinkley 2, 11).
Так удалось ли военному сословию полностью пропитать национальное сознание своей особой интерпретацией сущности национального японского духа, навязав собственные ценности остальной части общества и заморозив историю на той стадии общественного развития, которую ученые называют феодальной? Ответ на этот вопрос может дать только исследование периода японской истории, начавшейся в 1868 году, после Реставрации Мэйдзи. Такое исследование поможет понять, прервались ли военные традиции и влияние воинского сословия с восстановлением власти императора или же они были только завуалированы. Здесь существует общее согласие между японскими и западными историками в том смысле, что ни одна нация не может пережить бесследно те многовековые жестокие условия, в которых существовала Япония в течение всей феодальной эры. Никто не выразил эту мысль лучше Рейсхауэра:
«Два века искусственного мира под бдительным оком и строгим контролем правительства Эдо оставили неизгладимый след на людях. Воинственные, безрассудно смелые японцы шестнадцатого века к девятнадцатому веку’ превратились в послушный народ, покорно ожидающий от своих правителей всех руководящих указаний и безропотно выполняющий все приказы, поступающие сверху» (Reischauer 1, 93–94).
Люди привыкли «инстинктивно» прислушиваться к наставлениям военных лидеров страны, считая, что в силу своего положения эти лидеры «всегда искренни и честны». Тот же самый автор делает следующий вывод: «Семь веков доминирования воинского сословия в феодальную эпоху сформировали шаблоны мышления и поведения, от которых оказалось непросто избавиться в новое время, и даже сегодня они еще не стерты полностью». (Reischauer 1, 55).
Таким образом, главное действующее лицо на исторической сцене в течение длительного периода, который Хирн назвал «вся достоверно известная нам история Японии», воин феодальной Японии достиг такого высокого положения, что его влияние не было полностью устранено даже после того, как военной диктатуре могущественных феодальных правителей был официально положен конец в 1868 году. После этого общество получило более широкую и прочную базу за счет широкомасштабной образовательной программы, нацеленной на заложение основ Специальных знаний, необходимых для процветания страны в индустриальную эпоху с ее обостренной конкурентной борьбой. Однако, воспользовавшись тем ловким способом, с помощью которого прочно укоренившаяся властная структура, принимая новые обличья, но чаще всего расширив свою базу поддержки среди всех слоев общества, чтобы большее число граждан начало отождествлять себя с ней, ухитряется пережить зарю новой эры, воинское сословие Японии сумело сохранить значительную часть своего влияния.
Могущество клана Токугава и его союзников было сильно подорвано за счет усилий других влиятельных военных кланов, которые обеспечили «новую» Японию кадрами для императорских военно-морских сил, познавших в последующие десятилетия как славные победы, так и горькие поражения. Таким образом, Реставрация по своей сути представляла собой ритуальную «смену караула», в ходе которой новая волна военных хлынула из провинции в столицу, где они подвинули, а затем и сбросили с насиженных мест старый привилегированный класс воинов. Как нам рассказывает Язаки (300), правительственные чиновники, входившие в состав Государственного совета ( дайдзёкан) созыва 1867–1868 годов, имели следующий процентный состав по своему происхождению: 78,9 % принадлежали к воинскому сословию, 18,1 % – к высшему классу даймё, 1,8 % – к древнему императорскому двору, недавно возвращенному (вместе с императором) к власти, и 0,7 % – к простолюдинам.
Следовательно, именно эти «новые» лидеры привели нацию к свободным временам современной эпохи. Чтобы выполнить свою задачу с максимальной эффективностью, они предпринимали фантастические усилия, стараясь изменить концепцию традиционной лояльности японцев, расширив ее от узкой преданности собственному клану до горизонтов всей нации, и увеличить, фокус беспрекословного повиновения непосредственному начальнику и феодальному правителю, включив в него слепую и абсолютную преданность императору. Курзман отмечает, что «если человек готов добровольно умереть за своего господина, простого смертного по происхождению, то его преданность императору, потомку Солнечной Богини, можно легко довести до такой же крайности» (Kurzman, 41).Соответственно, после Реставрации Мэйдзи:
«В классных комнатах и армейских бараках молодых японцев учили почитать древние военные традиции. У них вырабатывалась твердая убежденность в том, что смерть на поле боя за императора – это самая славная участь для мужчины, и они начинали верить в уникальные достоинства неясно определенной «национальной структуры» и еще более расплывчатого «японского духа». Правительство и армия сумели за несколько десятилетий превратить среднего японца в фанатичного националиста и выработать в нем еще более фанатичную преданность императору, которая культивировалась историками, пропагандистами синто и поощрялась окружавшими трон олигархами» (Reischauer 1, 129–130).
По мнению Менделя, это было возможно из-за неопределенности Конституции Мэйдзи в вопросе о «месте политической власти» – неопределенность, которой военные, имевшие прямой доступ к трону, быстро воспользовались. Они получили «особые привилегии» и по большей части игнорировали недавно созданный гражданский кабинет, построенный по образцу западных правительств. Такая независимость действий в вопросах управления страной привела к появлению «двойной дипломатии», и ее результатом стало давление на членов гражданского кабинета, которые в конечном итоге не смогли перевести в более мирное русло национального развития идеи расового превосходства, необычайно популярные у военных.
Члены воинского сословия продолжали преследовать цели, достижение которых они считали своей судьбой, а следовательно, и судьбой всей страны с незапамятных времен. В результате представители всех классов японского общества почувствовали в себе право называть такую судьбу своей собственной. К началу двадцатого столетия процесс милитаризации на национальном уровне достиг такого масштаба, что власти
«даже сумели убедить этих потомков крестьян, которые почти три века были лишены нрава владеть оружием, в там, что они не угнетаемый класс, а члены расы воинов. Японская политическая и военная пропаганда сработала здесь очень тонко и необычайно успешно». (Reiscbauer 1, 130).
Она успешно работала и в течение периода Токугава, когда военные традиции навязывались сверху и получали нужную реакцию снизу. На протяжении всей феодальной эпохи многочисленные простолюдины ( хэймин) не раз совершали попытки подняться до привилегированного положения воинов. Хотя подобные амбиции не имели официальной поддержки, возможность принятия в военный клан все-таки существовала – многие богатые торговцы были готовы расстаться со значительной суммой в обмен на право носить на рукавах своей одежды вышитую эмблему военного клана.
Когда желаемый статус сам по себе был недостижим, все, что его напоминало, пусть даже отдаленно, служило для удовлетворения этих чаяний. Все ассоциации простолюдинов – крестьян, торговцев или ремесленников (и даже духовенства) – были организованы в соответствии с жесткой вертикальной иерархией военного клана, иерархией, которая связывала структуру старинных родовых общин с современностью, таким образом наделяя ее аурой глубокой древности и, следовательно, некой божественностью.
Даже до Реставрации Мэйдзи военные традиции наполняли жизнь японцев до такой степени, что они порой теряли чувство классовой принадлежности. Они вошли в жизнь каждого японского подданного, и доказательством этого может служить тот факт, что, когда воинское сословие снова попыталось отнять власть у императора, армия «носящих мечи самураев» была разбита на поле боя императорской армией, чьи ряды составляли призывники из всех общественных классов, включая большое количество крестьян. Как отметил Браун, поражение одного из таких восстаний после 1868 года
«означало нечто большее, чем крушение феодальной оппозиции правительству и новому порядку. В этом конфликте солдаты регулярной армии, такие, как Хидэнори Тодзё, и призывники, сражавшиеся рядам с ним, доказали, что отвагу и боевые навыки, сделавшие представителей самурайской элиты грозными бойцами, можно встретить во всех слоях общества» (Browne, 17).
Впоследствии, ради практической целесообразности, лидеры воинского сословия постепенно согласились с тем, что каждый японец наследует традиции, которые они в течение многих веков считали своими собственными, и начали внушать своим соплеменникам, что Япония является страной воинов. В то же самое время они обнаружили новые, эффективные способы преобразования этих традиций в стереотипы социального поведения, которые нация приняла и применяла с неукротимым рвением в таких странах, как Маньчжурия, Китай, Малайзия и Филиппины.
Эти стереотипы сохранялись почти без изменения вплоть до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года, когда стало очевидным, что поражение японского милитаризма вызвало крушение не только твердой веры в конкретную политику правительства, но вместе с ней и всей морально-этической системы японской нации. Отождествление правительственной политики, находящейся в зависимости от непредсказуемых изменений политической и военной конъюнктуры и более устойчивой морали нации, имеющей коллективные интересы, которые нужно отстаивать и защищать, было в Японии настолько абсолютным, что поражение на поле боя оставило большинство японцев «полностью дезориентированными» (Dore 1, 162). Они просто не могли поверить в то, что такая участь постигла наследников божественного прошлого, нацию, которая прослеживает свое происхождение до зари человеческой истории, и в то, что «путь» их расы ( мичи) не смог одержать триумфа над всеми остальными, которые, будучи чужеземными, автоматически считались несовершенными.
В сегодняшних исследованиях самого разного рода – антропологических, социологических, политических и религиозных – отмечается (и продолжает отмечаться) поразительная скорость восстановления Японии после разрушительных эффектов Второй мировой войны. Позитивная сторона их традиций помогла японцам «перенести непереносимое», то есть отважно встретить и пережить оккупацию, сомкнуть свои поредевшие ряды, восстановить индустрию из руин и быстро вернуть лидирующее место в современном мире. Воинские добродетели прошлого, которые делали японцев грозными врагами на поле боя, применялись с аналогичным рвением при восстановлении экономики, что сделало их неутомимыми и опасными конкурентами на мировых рынках.
Но дух бусипродолжает неугомонно мерцать в темных тайниках японской души. В своем исследовании городской жизни Японии Доре детально описывает огромные трудности, с которыми сталкиваются японцы, пытаясь переместить свои моральные принципы и систему традиционных ценностей с социальной этики страны, основанной на той интерпретации реальности, что была навязана бусив феодальную эпоху, на индивидуальную мораль, основанную на личной интерпретации реальности и персональной ответственности человека в ней. Даже сегодня жизнь японского подданного регулируется обществом примерно так же, как жизнь рядового солдата регулируется армией.
Замкнутое японское общество, возможно, как нигде в мире, подобно современной армии (или военному клану далекого прошлого), держит своих граждан в прочных защитных объятиях, диктуя им сверху и извне, во что нужно верить, указывая пути, по которым следует строить связи, и объясняя, как должен вести себя человек, чтобы выполнять свои обязательства. Обязанности японцев по-прежнему подчеркиваются, в то время как их права до сих пор ясно не определены, ожидая своего конкретного выражения в новых законах или обычаях, и, самое главное, во внутренней вере в ценность отдельной личности и ее независимость в составе общества, происходящей из глубины души, – вере, которая поддерживает человека, когда общество и его лидеры в процессе исторического развития проходят через трагические кризисы, охватывающие все общественные слои. Эта внутренняя убежденность не должна находиться в согласии с внешними требованиями общества, выраженными в законах или обычаях, и порою даже может находиться в оппозиции к заявлениям, сделанным от имени общества его лидерами. В Японии, как, возможно, ни в одной другой развитой культуре прошлого и настоящего, «моральные принципы исходят не из глубин человеческой личности» (Maruyama, 9), а их источник все еще находится где-то в обществе, поэтому его легко отождествить с внешней силой и заменить ею. Однако здесь следует добавить, что японское общество далеко не единственное из тех, кому пришлось столкнуться с данной проблемой.
Таким образом, классические традиции, а следовательно, и военные традиции страны продолжают и сегодня оказывать глубокое влияние на японцев. Художественное отражение этих традиций способно сказать о многом. Бесстрашный вассал феодального правителя, знаменитый самурай, или независимый воин, не имеющий господина, ронина,по-прежнему прокладывают себе путь мечом через лабиринт зла в театре кабуки и в бесчисленных остросюжетных кинофильмах.