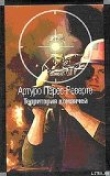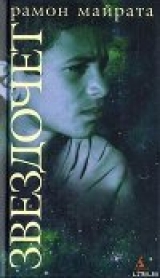
Текст книги "Звездочет"
Автор книги: Рамон Майрата
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
5
Дом тих и пуст, как тарелки после ужина. Правда, снаружи доносится пение и хлопанье флагов: толпа прощается с итальянскими легионерами. Но с того времени, как Звездочет вернул отцу фрак и тот вышел немного развеяться после еды, мальчик слышит у себя за спиной навязчивый посвист тишины. Он оборачивается и узнает эту пустоту, это одиночество, что сопровождало его всегда. Тревожное одиночество, в котором отдаются удары его сердца. Поэтому слова отца о несуществующей руке очень его задели, ведь в этом доме он часто ощущает присутствие того, что, по идее, не существует.
На самом деле он знает только одну вещь, которая точно и определенно не существует, – это смерть. Потому что, когда он задумывается о своем прошлом, в котором была уже смерть близкого человека, он не может ее себе представить достоверно и ощутимо. В какой бы угол он ни направил взгляд, погрузившись в воспоминания, всегда его притягивает литографическая афиша одного из выступлений его матери с ее единственным сохранившимся изображением. Он видит молоденькую женщину, почти девочку, глубокие драматические глаза орехового цвета, густые блестящие брови, черный локон на лбу, овальное лицо, полные губы, белые зубы, выступающие скулы, широкий курносый нос, мягкую золотящуюся кожу, родинку у рта, ямочку на подбородке, черные волосы, пробор слева, аккуратные ушки, аквамариновый цветок в волосах, крепкий бюст и шею; фигура облачена в накидку, льющуюся, как бледное старое золото, которая слегка натягивается на остриях девчоночьих сосков, венчающих ее груди, и прихвачена на талии, подчеркивая ее изящество. И внизу подпись: «Ателье Басольса, Валенсия».
На фотографии удивительной женщины-девочки не отыщешь никаких материальных следов того, что дает пищу смерти, – ни физического изъяна, ни примет скорби или болезни.
Она умерла, когда ему не было и года. В его памяти ничего не сохранилось от ее болезни и ухода. Он представляет себе, как в определенный момент она должна была проститься с ним. Он также хорошо представляет, что факт ее смерти должен был потрясти этот дом – еще прежде, чем Великий Оливарес потерял руку, еще прежде, чем война завладела судьбами людей. Но это все догадки, не подтверждаемые ни какими-либо впечатлениями, ни хотя бы намеками памяти.
Конечно, смерть матери была для него очевидностью, но в то же время чем-то, что случилось еще до начала времен, ужасным событием, из которого росла его собственная жизнь. Туманным и далеким допущением, как собственное зачатие. Потому что после ее смерти он продолжал чувствовать ее присутствие – такое физически реальное, каким, наоборот, никогда не ощущалось ее отсутствие. В расположении мебели, все эти годы остающейся на тех местах, где она была расставлена ею. На плоской крыше дома, облюбованной стрижами, где из горшочков и вазонов торчат сухие стебли растений, по– саженных ею. В корзинке для шитья, где сохраняются цветные ленты и пуговицы, с каждым годом все более выходящие из моды и употребления. В пудренице, едва початой. В романе, где он однажды обнаружил ее закладку за несколько страниц до финала.
Это физическое присутствие того, кто уже не существует, но чей след тянется во времени и отказывается покидать дом, вырывается внезапно из глубины комода – в виде разрозненных жемчужин бывшего ее ожерелья, которые со стуком раскатываются по дну, когда открываешь ящик. Оно обнаруживает себя в незаконченной тетрадке с кулинарными рецептами, где на синей обложке в масляном пятнышке отпечатался ее палец. В маленьком ручном зеркальце, которое использовала только она, но которое упрямо продолжает созерцать мир холодным и безразличным взглядом с туалетного столика. Это ее присутствие много лет спустя после смерти заставляет его трепетать, как если бы его погладила несуществующая рука, о которой только что говорил отец.
А кроме того, сохраняется ее голос. Он не знает, что думать о своей матери-девочке как о певице. Запись нечеткая и делает голос неестественным. Ему верится, что эта детская страсть и взрослое бесстыдство – та смесь, которая может покорять, заражать чувством. Он начал играть на гитаре совсем ребенком, чтобы аккомпанировать этому голосу, доносившемуся из дальней дали. Как будто бы она его звала и он отвечал. Всегда одна и та же песня. Чудесная гуахира:
Я женщина, что в стоне
свои изводит силы.
Как мак, что у могилы
свою головку клонит.
Мне сердце песня полнит,
лишь на порог ступаю —
о милом вспоминаю.
Меня одну он бросил,
без паруса, без весел,
он злою смертью отнят.
С балкона дома невозможно различить берег моря, загороженный огромными итальянскими судами. Церемония прощания с фашистским легионом, кажется, никогда не закончится. Ее кульминацией должен был стать момент, когда крестная мать войны, королева красоты Мартина Теллес, Мисс Пуэрто-де-Санта-Мария-1939, итальянцами называемая Bocucha di Rosa, а испанцами – Мисс Губки-бантиком, целует генерала Гамбарру, таким образом символически прощаясь со всем экспедиционным войском разом. Но солдаты требуют, чтобы она поцеловала всех и каждого из двенадцати тысяч легионеров с тем же задором и пылом, что и генерала, и фалангисгская партийная шишка, которого назначили произнести в этот момент заключительную речь, уже не знает, что и сказать, потому что ритуал длится второй час. Ну не настолько же крепка испано-итальянская дружба и не настолько же нежно братство двух режимов!..
Население Кадиса, очень ослабленное голодом, давно уже перестало аплодировать этим поцелуям, хотя поначалу приветствовало их с энтузиазмом: по ним соскучились с той поры, как цензура стала вырезать их из фильмов. Некоторые из пареньков, одетых, в подражание фашистской молодежи, в униформу, уже попадали в обморок от усталости, и оркестрик их из корнетов и барабанов сошел на какое-то несвязное бормотание. Кто-то кричит: «Так что же, эти типы, мать их, никогда отсюда не уберутся?» Полиция хватает торговца зеленью, не имеющего никакого отношения к подрывному выкрику. А тем временем слышится ответ: «Пусть идут в задницу!» И до жителей Кадиса как бы вдруг внезапно доходит, что партийные иерархи относятся к ним как к вещам, а не к людям, созывают их для массовости на свои сборища, но нисколько не интересуются ни их жизнью, ни отвратительным духом людского скопища в городе без мыла, ни изможденностью их голодных тел. Жители Кадиса разворачиваются почти как по команде и с необратимостью песка в песочных часах начинают утекать с площади. Они выходят из игры и, разбредаясь по улицам города, перестают вдруг быть толпой и снова превращаются в людей с именами, подчас – с фамилиями, а в большинстве случаев – с прозвищами.
– Пока, Кала! Вижу, ты объелся.
– До свидания, Морда-пробка! Кладу на них с прибором!
– На-ко! А ведь среди них Пако Утюг.
– И что теперь? Меня от него уже тошнит, Мовилья. Он торчал передо мной всю эту фараонскую церемонию.
– Более счастлив я был бы лишь в кровати.
На площади остаются терпеть этот поворотный исторический момент только иерарх, несколько его партайгеноссе и официальные представители властей; нескончаемый же хвост легионеров обвился вокруг Мисс Пуэрто-де-Санта-Мария-1939, чтоб получить свою поцелуйную порцию.
Один генерал вдруг смеется, клацая челюстями. Иерарх прерывает свою речь об испано-итальянских отношениях – он добрался уже до Рима эпохи Адриана и испанского клана – и зыркает на него ненавидящим взглядом.
– Не будем портить праздник, генерал, – мычит иерарх и зажигает сигарету, сложив руки ковшиком, как при ветре, хотя ветра нет: девять теплоходов надежной стеной защищают площадь.
«Похоже, между партией и армией напряженные отношения», – скажет ему на следующий день отец, когда Звездочет расскажет ему этот эпизод, но пока иерарх начинает насвистывать гимн «Лицом к солнцу», перемежая свист с клубами сигаретного дыма. На набережной, лишенной горизонта.
И кстати, эта набережная, горизонт которой заменен пестрой трибуной, наполненной партийными деятелями, военными, священниками, полицией, функционерами, при малозаметном присутствии в углу поэта-лауреата с бабочкой,[1]1
Этот персонаж имеет реальный прототип. Это Хосе-Мария Пеман – поэт (плохой), которого всячески привечал франкистский режим. Автор длинной и скучной эпической поэмы о гражданской войне «Поэма об ангеле и бестии» (название говорит само за себя). – Здесь и далее прим. перев.
[Закрыть] кажется Звездочету совсем не той, какую он привык видеть каждый день. Будто бы она полузатоплена, придавлена какой-то чудовищной тяжестью.
«Вес государства», – объяснит ему несколько дней спустя сеньор Ромеро Сальвадор.
Но в тот момент Звездочет охвачен нежностью к бедняжке Мартине Теллес, Мисс Пуэрто-де-Сан-та-Мария-1939. Он высматривает ее с балкона в половодье легионеров, но не различает среди обезумевшей солдатни. Он не может отвести глаз от места, где, как он полагает, находится несчастная Мартина, погребенная под водопадом свинцовых поцелуев. Час и три четверти длится жертвоприношение, пока наконец последний солдат, дорвавшийся до нее, самый хилый из всех, не выпускает ее из рук и не ступает на трап. Тогда теплоходы разворачиваются в море, иерарх садится в автомобиль, черный, как его думы, власти быстро растворяются, а Мартина Теллес остается недвижна, словно тюк, позабытый на пустой набережной.
По мере того как суда удаляются, а их огни превращаются в падающие звезды, что, как небо, перечеркивают потемневшие воды бухты, ночь, будто безграничное море, затопляет набережную. Какое-то мгновение Мартина Теллес – это лишь стук очень высоких и очень неудобных черных каблуков в ночи без дорог. Звездочет чувствует щепотку любви к этой королеве красоты, чьи прекрасные черты помнит назубок. Он думает о том, что к любви идут такими вот шагами – пересекая темную набережную, наэлектризованную тайной, оставляя шлейф всхлипываний, заглушаемых сиренами итальянских теплоходов, которые приветствуют на выходе из бухты крейсер и эсминцы конвоя. Он не отводит взгляда от этой тени, погружающейся в ночь, а руки его трогают струны гитары, как пустоту бездны. Но аккорды, рождающиеся под его пальцами, – это песня не любви, а печали. Королева красоты останавливается под скудным, как звездочка в ночном небе, огоньком праздничного фонарика и, встрепенувшись, прислушивается к музыке. Она делает жест, будто шлет ему наверх поцелуй, но ее губы ужасно распухли и кровоточат, так что гримаса оказывается жуткой. Звездочету вид беззащитной Мартины приводит на память – как он будет объяснять потом в один из последующих дней сеньору Ромеро Сальвадору – изображения vanitas, висящие в кафедральном соборе, на которых наглядно показано, как все юное и прекрасное портится и разрушается, хотя и не с такой скоростью, как довелось наблюдать сегодня Звездочету. Он видит в ее опухших чертах, в ее глазах, искаженных страхом и слезами, осязаемый образ смерти, так тревожащий его, – лик смерти в смятом лице королевы красоты, которое лишь несколько часов назад было восхитительно и привлекательно и так быстро утратило свою красоту после того, как по ней прошлась толпа солдат.
Потом эта женщина, сплошная рана, растворяется на набережной, слившейся в темноте с морем, а Звездочет продолжает играть на балконе, думая над загадкой неувядающего лица своей матери-девочки. Сумрачные звуки гитары завладевают окружающим миром. Случается то, что может случиться только в Кадисе или в тех местах вселенной, в которых как в зеркале отражается Кадис. В слепой ночи окна открываются, как уши. Сосед с третьего этажа, Ассенс, репрессированный журналист и большой любитель фламенко, говорит своей жене, что может умереть спокойно, потому что эта гитара дерзает сказать то, о чем вынуждены молчать губы и журналистские перья и что никогда не опубликуют газеты.
– Она говорит о том, что происходит, – добавляет он, – но происходит на самом деле, Фелисиана, происходит-проходит, исключенное из официальных речей и даже из самой истории, потому что не оставляет иных следов, кроме незаживающей царапины в сердце. Вот почему, Фелисиана, мне так нравится фламенко.
– Как играет, шельмец, – отвечает Фелисиана.
Девочка с первого этажа слушает в задумчивости, потому что она с некоторых пор с усладой наблюдает за Звездочетом и научилась читать в его сердце. Она знает, что иногда он играет так, будто смерти не существует, и живет как лист на ветру, постоянно с озорными и опасными идеями в голове, вроде того, чтоб идти за город сражаться с быками в компании босяков, которые только о том и мечтают, чтоб сделаться тореро. Не раз она вызывалась зашить ему порванную рубашку. Девочке с первого этажа этой ночью хочется быть лучшей швеей в мире, чтоб воткнуть свои булавки Звездочету в самое сердце.
Даже глухая привратница ощущает волнение воздуха, сотрясаемого звуками гитары. Она приближается к клетке с канарейкой, приставляет ладонь лодочкой к уху и прижимается к прутьям, потому что ей вдруг вообразилось, что она способна услышать пение птицы, с которой делит одиночество своего существования.
– Повтори-ка, кавалер, что ты только что спел, – умоляет она, напрягая свою морщинистую старушечью шею. – Повтори, кавалер, говорю тебе. Хочу услышать тебя еще один раз. Только один разок.
Но напуганная птичка, трепеща, забивается в угол клетки.
Звездочет играет до тех пор, пока ночь не отделяется от воздуха и море не появляется снова, как материальный отпечаток вечности и безграничности, бешено грызя зубцами волн камни причала. К тому времени гитара уже устала, всю ночь звук ее мешался с угрюмыми спорами в прибрежных кабаках, будил воспоминания о любви в сердцах проституток на городских углах, вплетался в рокот невидимых до поры волн. Сейчас ее звуки, будто разбитые лодки, сливаются с журчанием воды, потому что музыка, как и людские эмоции, обречена на угасание в олимпийском безразличии этого моря, которое заново появляется каждый день, словно бы ничего из случившегося ночью не имеет значения, и, чуждое страданиям города, бьет в стены набережной.
«Синий угорь канала связывает две бухты, – процитирует ему позже сеньор Ромеро Сальвадор одного кадисского поэта, уехавшего за океан. – Скажите мне, где вулкан задумчивого лба?»[2]2
Стихотворение из сборника Рафаэля Альберта «Моряк на суше» (1925).
[Закрыть]
Но в тот момент Звездочет видит вовсе не вулкан задумчивого лба, а немецкую субмарину, вынырнувшую в центре бухты среди рыбацких лодок, начинающих выходить в море. Субмарина спускает на воду шлюпку с четырьмя матросами на веслах. Шлюпка доставляет на берег человека, обтянутого кожаным пальто, и возвращается на субмарину, которая тут же погружается в море.
Со скудным багажом в виде кожаного же чемоданчика человек пускается в путь по набережной и на минутку задерживается под балконом Звездочета, чтоб послушать звуки печальной гитары. В этот момент можно рассмотреть его лицо, очень бледное, несмотря на очевидный заряд энергии и решительности, и заметить свастику, болтающуюся на цепочке между кожаными отворотами пальто. Потом человек исчезает в устье одной из улочек, шагая чересчур уверенно для вновь прибывшего, а Звездочет вдруг различает на углу своего отца, обнимающего женщину – ту самую, которая способна проглотить не моргнув глазом полдюжины «порто-флипов». Она и сейчас не моргает, эта женщина с персиковыми волосами, между рук – таких неодинаковых – его отца. Поверх его плеча – которое соответствует невидимой руке – глаза ее широко открыты и пристальны, от них не ускользает ни одна деталь в облике человека в кожаном пальто, который проходит мимо, обращая на парочку не больше внимания, чем на проституток, начинающих уже покидать портовые улицы.
6
Есть в Кадисе поговорка: жизнь и смерть ранят одной и той же рукой. Звездочет уже три месяца играет в оркестре Абрахама Хильды в «Атлантике». Очень скоро он стал понимать, что в городе некоторые люди живут безбедно и вольготно, как бабочки, порхающие на кладбище, и высматривают каждый день жадными глазками хорька, какую еще лодку с сокровищем прибьет к их берегу. Иногда сокровище принимает форму удачной коммерческой операции, иногда – официального поста, или женского тела, или мести кому-то, кто мешает одним фактом своего существования.
Как ни странно, он узнает обо всем или почти обо всем происходящем во многом благодаря тому, что терраса «Атлантики» часто посещается полицией, задающей, как всегда, много вопросов. Но это полиция без сдвинутых бровей, с мягкими руками; она деликатно вмешивается в споры торгового люда, осведомляется о котировке иностранной валюты и обсуждает цены на партии сахарина, перкали, виски, перламутровых пуговиц, окороков, лампочек, шприцев, кожаных пальто, керосина, удобрений, коленчатых валов, конфет, сульфамида, флана в порошке или пластиковых сантиметров для портняжного дела.
Этот список звучит как стихотворение Пабло Неруды, еще одного поэта, который тоже уехал за океан и которого цитирует иногда сеньор Ромеро Сальвадор, чтобы показать, как обожают поэты перечислять вещи, чтоб дать представление об изобилии мира.
– Потому что вещи, – сразу поясняет сеньор Ромеро Сальвадор, – стали невидимыми, с тех пор как появились деньги и финансы. Многочисленные партии вещей пересекают взад-вперед мир, населенный людьми, и никто их при этом не видит, и однажды они испаряются, фантасмагорически превращаясь в сумму, написанную на чеке. Только в глазах поэтов и бедняков вещи обладают материальностью. И парадоксально, что для богачей они лишь абстрактные ценности, выраженные в цифрах.
Как только на террасе «Атлантики» начинается музыкальный вечер, эти тяжелые, как бочки, слова, обозначающие вещи, которых давно уже нет в городе, катятся с одного края площадки для танцев на другой, отвлекая музыкантов и возбуждая их воображение. Слова – пятна теней среди горячего вечернего света, трещины, по которым догадываешься, что есть другой мир, заключенный внутри этого. В отличие от кабаков, в которых он играл, здесь почти никто не обращает внимания на музыку. Посетители «Атлантики» никогда не замолкают. Мелодии Дюка Эллингтона, Гленна Миллера, Бенни Гудмена или их вариации в стиле фламенко и клубы дыма от сигарет «Голд-Флейк», «Крейвен-Эй», «Абдулла» или «Пелл-Мелл» – образуют как бы барьер между оркестром и публикой. Именно публика является истинным героем вечеров. Она говорит на привычном для нее языке, исключая из сферы своего интереса музыкантов, официантов и даже рокот моря, непрерывно доносящийся на террасу.
В этот уголок Кадиса, отделенный от города и помещенный в некую нишу, удаленную от реальности, укрываются, как в монастырь, политики и функционеры новой формации, дипломаты-однодневки, негоцианты, а также рой женщин, которые проскальзывают между всеми этими сеньорами, напряженные и податливые одновременно и чуткие, как охотничьи собаки.
Музыканты рассматривают публику со своих подмостков точно так же, как делали бы это с вершины высокой горы, убеждаясь, что ноты их слетают с инструментов бесшумно, как хлопья снега, и вливаются в многоголосье разговоров. Порой звук гитары или какой-нибудь скрипки вплетается на мгновение в тоску одной из этих женщин – обычно приходящуюся на дни менструации, – однако тут же ею забывается, как странный привкус во рту. Но это лишь одна секунда, одна вспышка, когда музыканты и проститутки разделяют общие чувства. Обычно же музыканты ощущают себя лишь зрителями в присутствии настоящих актеров этого спектакля – публики – и рассматривают свои партитуры как оберточную бумагу для упаковки неясных эмоций, которые сами они разделить не готовы.
И однако они не могут перестать играть. Двадцать еврейских музыкантов, и Звездочет с ними, поклялись никогда не делать пауз.
– Ни за что на свете, герр Звездочет! – восклицает Абрахам Хильда. – Потому что, как только мы замолчим, послышится мрачное рычание наших унылых желудков, едкое всхлипывание неудовлетворенных желудочных соков, возбужденных разговорами о фантастических вагонах с молочными поросятами и бараниной, о трюмах, наполненных Канарскими бананами, о горах масла или сахара, о ящиках, набитых рыбой, как слитками серебра, о сумрачных складах, где блики солнца воспламеняют глянец аргентинского зерна, о реках шоколада или об английском печенье, которое добирается до нас от Гибралтара по течению речки Мьель.
Они любой ценой должны продолжать играть, потому что на террасе «Атлантики» звуки голода – в отличие от музыки – будут услышаны яснее пистолетного выстрела и вызовут неудовольствие и раздражение клиентов – людей если и не счастливых, то по крайней мере близких к тому; заронят подозрения в полицейских, которые по такому случаю снова нахмурят брови, и за вялыми и словно бы безобидными кистями их рук, за обманчиво мягкими пальчиками-финиками вздыбятся, вылезут из узких рукавов их рубашек мощные боксерские запястья.
Когда Звездочет начинает играть, играть по-настоящему, публике слышится будто звон разбитого стекла, и тогда на мгновение воцаряется тишина, но тут же музыка снова распластывается между деловыми разговорами, как начинка между двумя кусками хлеба в сандвиче. Ему обидно не за себя, а за Фалью. Он продолжает считать, что играет на самом деле не кто иной, как Фалья, и что его гитара – нечто вроде раковины, которую достаточно приставить к уху, чтоб услышать тайный урок, нашептываемый учителем. Только женщина с персиковыми волосами сидит как в гипнозе, вяло выпивая один «порто-флип» за другим.
Он замечает, что Фридрих впивается острыми лезвиями полуприкрытых глаз в лопатки этой прекрасной женщины, которые шевелятся, как крылья, в вырезе ее яркого платья, когда она наклоняется над рюмкой. Заметно, что ему не хочется смотреть на нее, но он не может оторваться. На лице его странное отчаяние, будто он столкнулся с задачкой, для которой не находит решения. Какую загадку видит он в прекрасной и пьяной незнакомке? Фридриху примерно столько же лет, как и ему, и Звездочет подозревает, что они разделяют одно и то же чувство одержимости и одновременно подавленности в волнующем присутствии женщин с их обещанием еще не изведанной любви.
Звездочет думает, что поскольку у них обоих нет матерей, то их сближает одинаковое смятение перед женственностью, обрекающее их на похожие чувства. И тем не менее нельзя сказать, чтобы они подружились. Звездочету хотелось бы вдыхать рядом с Фридрихом чистый воздух улиц – подальше от террасы «Атлантики». Но тот всегда ухитряется найти убедительную отговорку, чтобы не принимать его приглашений и не выходить на улицу.
Странный юноша. Совершенно не похож на мальчишек, друзей Звездочета. Он садится на сцене перед ним, спрятавшись среди скрипачей, скукожившись, вжавшись в спинку стула, почти погребенный в его недрах. Хочет быть тенью. Когда он играет на скрипке, рукав фрака прикрывает ему лицо, и Звездочет привык наблюдать его девичий профиль, перечеркнутый смычком, который рассекает его бледные щеки, его крупный нос, торчащий между бесхитростным наивным ртом и меланхоличным светлым локоном, сумрачным и блестящим, как капля золота. Его тела он не видит, но догадывается, что под фраком оно так же тонко, как душа, и, уж во всяком случае, очень отлично от грубых тел его кадисских приятелей. Глядя на Фридриха, он ощущает головокружение, будто заглядывает в устье темного колодца. «Должно быть, другая раса», – говорит себе Звездочет, но объяснение это не очень его убеждает.
Иногда Фридрих поглядывает на своего отца, дирижера, порой – на дверь, будто ему хочется уйти. Редко глаза его останавливаются на публике – разве что на женщине с персиковыми волосами. И уже совсем редко его взгляд пересекается со взглядом Звездочета. Как было, например, сегодня на закате, когда полыхающая пурпуром мантия солнца расстилалась по морю и на террасе отеля «Атлантика» несколько голосов на разных языках почти хором выражали восторг по поводу этого прекраснейшего мгновения дня. Фридрих перестает наблюдать за женщиной с персиковыми волосами, наклоняется вперед и секунду смотрит на Звездочета. Их взгляды сталкиваются. Глаза Фридриха поменяли цвет, должно быть из-за заката, и огонь его зрачков затухает вместе с солнцем. Морщинки вокруг его глаз напрягаются, будто телеграфные провода. Фридрих чувствует себя застигнутым врасплох. Он снова переводит взгляд на женщину с персиковыми волосами, хотя ясно, что смотрит на нее не видя. Затем вдруг опять вперяется глазами в лицо Звездочета, как бы приняв твердое решение не тушеваться, но тут же краснеет, и огоньки его зрачков исчезают, остаются лишь глубокие, темные и непроницаемые глазные впадины. А в это время кто-то запоздало повторяет с заметным немецким акцентом: «О да! Это самый прекрасный миг дня!»
Этот недавно прибывший человек – военный, хотя и без мундира, вооруженный, хотя и без кобуры. Достаточно его мощного туловища и его бедер автоматчика, чтоб вызвать возбуждение на террасе «Атлантики» и череду стратегических перемещений в публике.
– C'est la guerre, – неожиданно по-французски бормочет Абрахам Хильда, но la guerre пересекает в его мозгу Пиренеи, и он продолжает уже по-испански: – Война, которая надвигается на «Атлантику» и на весь мир, занимает позиции.
Фридрих, как кошка, свернулся на стуле. Он боится, нет сомнений. Двадцать евреев трепещут, но они обязаны продолжать играть. Музыка ускоряет свой темп в соответствии со стуком их испуганных сердец. Человек выходит на середину танцплощадки и начинает тяжеловесно танцевать, как камень, который катится во время землетрясения.
– «Лили Марлен»! – приказывает он. И музыканты повинуются.
Янтарная проститутка, прозрачная и голодная, заступает ему путь и поднимает худую руку: «Вива Гитлер! Нет ли у вас табачку, моя пушечка?» Звездочет узнает человека, которого извергла из своего нутра одной почти забытой ночью подводная лодка. А между тем аккорды «Лили Марлен» хрустят, как пустые раковые панцири под ногами посетителей в какой-нибудь грязной таверне.
Официанты не успевают устроить за столики всех, кто хочет переселиться поближе к незримому полю битвы. Публика распадается на две группы. Самая многочисленная, почти единодушная, – те, кто поспешили занять места поближе к столику, предположительно оккупированному вновь прибывшим. Это командный пост. А напротив них, в одиночестве, – женщина с персиковыми волосами, которая, выпрямившись как копье, просит новый «порто-флип», но никто не торопится его принести. По соседству с ней пристраивается шестидесятилетний маркиз из Хереса, сухощавый озорник, нечто среднее между пергаментом и вафлей, со сладким взглядом и развинченными жестами. Маркиз де Сотавенто отряхивается от золотой пыльцы своей легкомысленной и причудливой жизни и намеревается начать сопротивление, приняв сторону женщины с персиковыми волосами.
– Oh, Moncho dear… may I have just a Porto-Flip? [3]3
Мончо, дорогой, можно мне один «порто-флип», всего-навсего?
[Закрыть]
Маркиз потрясает тростью и кричит официанту:
– Эй, малый! Принеси-ка два «порто-флипа»! Превосходный эликсир!
– О, Мончо, dear, и для меня два!
На мгновение все замолкают, но тут же снова разом начинают говорить:
– Сотавенто переходит к союзникам.
– Он втюрился, старый пень.
– У него английские корни, как у многих виноделов.
Нейтральных немного. Народец средней руки с минуты на минуту должен будет покинуть поле битвы, потому что уже раздают меню ужина, а они не могут позволить себе расточительства. Филе камбалы – семь песет. Шатобриан по-бернски – двенадцать. Паштет из утиной печени с трюфелями, лангуста «Кардинал», цыпленок с фермы и крепе «Сусанна» – тридцать пять. Они должны удовлетвориться вечерним аперитивом, уже отправленным в желудки, но им очень не хочется уходить. Снаружи их ждет паек: 50 граммов сала, маниока и хлеб, отдающие потом очередей.
– С «Шато д'Икем» из погребка.
– Но так только здесь внутри. Тут-то всегда едят белый хлеб.
Желтая высохшая женская рука с ногтями, выкрашенными в бледно-фиолетовый цвет, щупает последнюю оливку своего аперитива.
– Испорченная. Я скажу официанту, чтоб мне ее заменили.
Через некоторое время чавканье жующих челюстей завладевает террасой. Только женщина, попросившая оливку, смакует ее теперь, делая паузы, с закрытыми глазами, полностью сосредоточившись на зеленой мякоти, которая тает, наполняя блаженством вкусовые сосочки ее языка.
Музыкантам невыносимо видеть жующих и очень трудно сдерживать слюну. Особенно духовым. Трубач задыхается: пустой желудок переполнил его рот слюной. К счастью, публика не перестает разговаривать, даже с набитыми ртами. С тех пор как появился человек в кожаном пальто – естественно, без пальто, – тема разговоров изменилась. Теперь это война; одни гадания.
– Ты поздравил его с оккупацией Бельгии? Поторопись. Дальше будет Франция.
– Я не теряю времени, болтая о баталиях, если можно поговорить о делах. То, что Винтер ищет в Испании, – это вольфрам. Он считает его стратегическим материалом и хочет подарить первую партию фюреру на день рождения. Все остальное – слухи.
– Так вот, похоже, англичане бегут в беспорядке к Дюнкерку. Скоро у них останется в Европе только Гибралтар.
– Видишь? Это хорошая тема для разговоров с Винтером. И выгодная. Он платит из чистого каприза за любую информацию о Гибралтаре, включая туристическую.
– Туристическую? Как мило! До сих пор мне не приходило в голову, что война – это вид туризма. Но если окажется, что французское войско тоже неуправляемо, немцы без сопротивления дойдут до Парижа. Туристическая прогулка.
– Не валяй дурака. Я хочу сказать, что Винтеру до смерти хочется поковыряться в земле. Он даже надеется, что кто-нибудь проанализирует органические отложения. Вот увидишь. Остатки ракушек, рассыпавшиеся кости доисторических животных – все то, в чем англичане копают свою линию обороны.
– Я и говорю: англичане возвращаются в доисторические времена. Гибралтар уже не назовешь неприступным. Засев в пещере Сан-Хорхе, мало что можешь сделать против современного оружия.
– Не скажи. Все войны ведут свое начало с доисторических времен. Возвращение в пещеры.
– Кто это знает!
– Геологи.
– Двух геологов, которые оказались в зоне, мы расстреляли.
– Ты, поосторожней!
– Какая разница, если скоро мы будем союзниками!
– Дело не в Винтере и не в его людях. Наплевать гестапо на судьбу двух геологов! Дело в наших. Есть вещи, о которых нельзя болтать.
– Ты веришь, что мы вступим в войну?
– Все возможно. Винтер – генерал СС. Как ты думаешь, что делает генерал элитного подразделения на краю земли, когда вся Европа подожжена с четырех сторон?
– Распространяет огонь?
– Вот именно. В направлении к Гибралтару. Это их следующая добыча. Его миссия – скинуть засов со Средиземного моря… А меж тем англичанка напивается.
На женщину с персиковыми волосами смотрят как на проститутку, а Винтер жестоко полосует ее взглядом.
Только дирижер смеет говорить что-то против ужасного немца, хотя и полушепотом, обращаясь только к своим музыкантам.
– Этот служит смерти, – бормочет он сквозь зубы, украдкой, когда темнота опускается огромной птицей и лицо Пауля Винтера блестит, как стальная плоскость топора, прежде чем раствориться в сумерках.