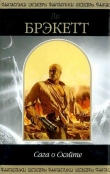Текст книги "Поднявший меч. Повесть о Джоне Брауне"
Автор книги: Раиса Орлова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Конечно, и в Рэндольф изредка доходили вести – газеты, журналы, которые издавались противниками рабовладения; слышал он и о сборнике документов «Рабство, как оно есть», о митингах в Бостоне и в других городах. Но доходило мало, доносились отзвуки. При двойной, тройной передаче многое приглушалось, терялся накал страсти, подчас искажался смысл. В Гудзоне же известно почти все. Слова – умные, верные, добрые, высказанные не за тридевять земель, – рядом.
И в Гудзоне Браун читал не все. Подчас, быть может почти не сознавая, он отстранял кое-что от себя. Потому что, когда прочтет, ему сейчас же, сию минуту надо действовать.
Встречаясь с убежденными, деятельными аболиционистами, Браун вначале испытывал нечто вроде стыда. Недовольство собой. А потом, опять же медленно, стало накапливаться иное недовольство: где же, когда же дело, когда же та отмена рабства, ради которой все это словоговорение?
Впрочем, силу слов он признавал и тогда. Не полностью, но признавал.
В 1843 году он познакомился с негритянским лидером Генри Гарнетом, прочитал его выступление на негритянском съезде: «Лучше все вы погибайте – погибайте немедленно, чем жить в рабстве и передать свое проклятие потомству… Как бы мы все к этому ни стремились, мало надежды на то, что искупление грехов наступит без пролития крови. И если кровь должна пролиться, пусть это произойдет сразу – лучше умереть свободными, чем жить рабами».
Большинство участников съезда не поддержали такой позиции, и съезд решил не публиковать этот призыв.
Браун не разделял в то время взглядов Гарнета, но его сила, его убежденная страстность так захватили его, что он опубликовал брошюру Гарнета на свои собственные средства.
Брауну было необыкновенно трудно, почти невозможно думать одно, говорить одно, а жить продолжать по-прежнему, молча взирать на неизменность сложившихся порядков. Несмотря на слова. Вопреки словам.
От непонимания, что, как надо делать, от бессилия сделать не хотелось ни читать, ни говорить, ни участвовать в собраниях.
Он – делатель. А дела себе по росту еще не видел.
3
Сегодня вечером он не усидит дома. Сегодня все жители, все мужчины во всяком случае, будут смотреть сеанс гипноза.
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В НАШЕМ ГОРОДЕ!
МАГ И ЧАРОДЕЙ РОЙ САНДЕРЛЕНД!
ЧЕЛОВЕКА БУДУТ РЕЗАТЬ, А ЕМУ НЕ БУДЕТ БОЛЬНО! И ВАС ТОЖЕ МОГУТ УСЫПИТЬ!
Входная плата – пятьдесят центов.
Дети и негры – двадцать пять центов.
Ни одной минуты он не верил, что человеку можно внушить: «Тебе не больно». Все это вранье, шарлатанство. Что ж, надо посмотреть самому.
Народу в сарай набилось – не продохнуть. Широкий деревянный помост. На нем кровать. Молодой женщине – ее только что привезли – сейчас будут делать операцию аппендицита. Хирург будет резать, а маски с хлороформом не наденут. И она не закричит, ей не будет больно. Ее усыпят гипнозом.
Этот бородатый Сандерленд думает, что тут одни сельские простаки собрались, всему поверят. Объясняет, как школьный учитель ребятишкам.
– Это внушение, гипноз. Я сейчас буду на нее глядеть и говорить с ней, и я внушу ей, что она должна уснуть и что она не будет чувствовать боли.
Он повернулся к женщине.
Глазищи черные, страшные, взгляд сверлящий. Он не сразу начал объяснять, вышел на помост, выхватил взглядом одного, тот опустил глаза, потом перевел взгляд на девушку, она даже вскрикнула. Джон Браун начал внушать Сандерленду, едва ли не вслух: «Ты на меня посмотри, я-то не опущу глаз».
Но Сандерленд уже начал говорить с женщиной. Сначала так тихо, что в задних рядах не было слышно, народ загудел.
– Молчать! Выгоню!
Словно хлыстом. Сразу тишина мертвенная.
– Усни. Усни. Усни. Усни.
Одно и то же слово повторяет без конца, с разной интонацией. То нежно, то властно, то просительно, то приказывающе. Это продолжается очень долго. Рядом с Джоном Брауном люди начинают засыпать. Что же, за день все наработались. А тут еще душно.
Женщина на помосте закрыла глаза и перестала стонать. Подошли хирурги. В тазу на огне кипятятся скальпели. А Сандерленд продолжает:
– Тебе не больно. Тебе не будет больно. Сейчас тебе разрежут живот и вынут боль. Вынут, и не будет больно. Будут резать кожу, а тебе не будет больно. Пойдет кровь, а ты не бойся, тебе не будет больно.
И разрезали живот. И кровь стекала в таз. И женщина ни разу не вскрикнула. Зрители застыли. Этот Сандерленд, кажется, загипнотизировал чуть ли не весь зал. Нет, теперь они уже не спали, они смотрели широко открытыми глазами.
Скажи он, Сандерленд, им сейчас: «За мной!» – и все, все до одного, пойдут, побегут, не спрашивая куда. Скажи им: «Ату!» – и они бросятся на жертву. Разорвут кого угодно, хоть и эту несчастную на столе.
Нет, невозможно терпеть, смотреть на то, как удав завлекает этих кроликов. Браун расталкивал соседей, выбираясь из рядов, туда, к трибуне. Его не замечали. Словно прикованные, глядели на помост. Он поднялся по дощатым ступеням.
– Вы шарлатан, жулик! Я ничему не верю. Это сплошной обман. Попробуйте мне внушить что-нибудь, я не лягу и не встану по вашему приказу, И еще вопрос, кто кого переглядит.
В зале враждебно зашумели. А Сандерленд ничуть не растерялся.
– Проверим. Отойдите, ждите своей очереди. Вот больную унесут, попробуем на вас.
Потом усадил его на кровать и начал сверлить глазами.
– Спи. Спи. Спи. Спи.
Джон Браун не уснул.
– Вот видите, со мной ничего не выходит. А с той бедной женщиной вы, наверно, просто заранее сговорились и денег ей пообещали.
В зале шумели все более враждебно. Злились не на чужого Сандерленда, а на своего, Джона Брауна.
– Уходите! Не мешайте! Убирайся!
Толпа жаждала чуда. Толпе показали чудо. Толпа поверила в чудо. И вовсе не хотела крушения веры.
Он уходил с помоста чуть ли не под улюлюканье. Вот аптекарь – только вчера Браун покупал у него лекарство для Мэри, как дружелюбно они разговаривали. Вот шорник – сегодня они вместе перебирали сбрую. А с тетушкой Мэг они и шли сюда вместе, она ему приходится дальней родственницей. Сейчас всех не узнать, словно подменили, чужие люди, откуда они такие взялись? Неужели это заезжий фигляр такое с ними сотворил?
А я, я могу внушить людям: «Вставайте. Идите. Боритесь»? Могу?
Одному в тюрьме остаться почти не дают. Каждый день – посетители. Много враждебных взглядов. Полицейским, собранным со всей округи в Чарлстон, разрешалось посмотреть на узников, как на диковинных зверей. Подводили к дверям камеры по пять, по десять человек. Чаще всего – смотреть на него, на Брауна. Простые парни, если б остаться с ними наедине, поговорить – другое дело. А так…
Но Браун не сердится, почти радушен, спокоен. Кое-кому позволяют разговаривать с ним.
Одно из первых писем – от Марии Лидии Чайлд. Очень известная журналистка, писательница, общественный деятель.
Увидел бы Браун ее на улице или в церкви – леди – ни за что не принял бы за единомышленницу. А ведь она еще в 1844 году выпустила «Призыв в пользу той группы американцев, которую называют африканцами». И требовала полного, немедленного освобождения. Браун не знал тогда слов Хиггинсона: «…апостолы истины потому не оказывают воздействия на мир, что как только кто-нибудь начинает проповедовать некие «новые взгляды», начинает утверждать, будто не все обстоит так уж благополучно, то консерваторы, не теряя ни мгновения, указывают на такого пальцем, клеймят его как подстрекателя, фанатика, вольнодумца, как сумасшедшего и прочее, и прочее. Так происходит со всеми реформаторами… Мисс Чайлд давно уже числится в проскрипционных списках…»
Мария Чайлд предложила приехать в Чарлстон, ухаживать за Брауном. Он ответил:
«Мой дорогой друг,
Вы оказались именно другом, хотя мы вовсе незнакомы. Я получил Ваше доброе письмо с Вашим трогательным предложением приехать ко мне и ухаживать за мной. Позвольте мне принести Вам благодарность за сострадание: и в то же время предложить Вам нечто иное, что я постараюсь обосновать. Я оставил дома жену и трех маленьких дочерей, младшей – пять лет, старшей – шестнадцать, а также двух невесток, чьи мужья погибли, сражаясь рядом со мной… Все мои сыновья и зятья, все до единого так или иначе жестоко пострадали… Так вот, мой дорогой друг, могли бы Вы сейчас внести пятьдесят центов и давать примерно такую же сумму ежегодно в помощь этим очень бедным и очень несчастным людям, чтобы они могли обеспечить себя и детей хлебом, самой простой одеждой и чтобы дети могли получить начальное образование? И не могли бы Вы также приложить усилия, чтобы привлечь к сбору денег и других и основать небольшой фонд для указанных целей?.. Я вполне бодр во всех моих несчастьях, сущих и предстоящих, я смиренно верю: «Господь даровал моему сердцу мир, царящий в нем превыше всех разумений». Можете использовать это письмо по своему усмотрению.
Ваш в искренности и правде (да благословит Вас всевышний, да отблагодарит Вас тысячекратно)».
Глава четвертая
Штат Виргиния против Джона Брауна
1
Он написал брату об отцовском наследстве – семья после его казни останется нищей, с долгами. Надо, чтобы брат без формальностей, по совести распорядился остатками. «Здоровье возвращается медленно, и я вполне бодро встречаю мой приближающийся конец, ибо глубоко убежден, что самую большую ценность я буду представлять повешенным…»
И приписал: «Скажи, чтобы мои бедные сыновья ни минуты не скорбели бы из-за меня; и, если кто из вас доживет до того момента, когда вам не придется краснеть за родство со старым Джоном Брауном, это будет ничуть не более удивительно, чем многое из того, что уже произошло. Я в тысячу раз больше печалюсь за моих дорогих друзей, чем за самого себя…»
Он заверял близких, что в душе его воцарился мир и покой, но как раз сегодня не было ни мира, ни покоя. Снова и снова он возвращался к суду.
Как шахматист, заново разыгрывающий партию, он пересматривал множество вариантов, решал за себя и за противника («Я хожу так», «он отвечает так…»).
Раньше, когда хоть на мгновение закрадывалась мысль о поражении, он не сомневался, что погибнет в бою или победившие враги сразу убьют его. До Харперс-Ферри ему и в голову не приходила сама возможность суда. Какой может быть суд на Юге над человеком, который осмелился бросить вызов рабству?
Потом, после приговора, ему объяснил Томас Рассел, что уж если Джона Брауна считать преступником, то его преступление совершено против правительства Соединенных Штатов. В самом деле: арсенал – собственность Соединенных Штатов, стражники, которых они обезоружили, – солдаты США, морская пехота, которую выслали против них, – часть американской федеральной армии. Значит, дело о нападении на арсенал подсудно именно федеральному правительству, а никак не правительству штата Виргиния.
Раненому старому человеку, чей отряд разгромили, человеку, только что потерявшему двоих сыновей, все это казалось ерундой, не имеющей отношения ни к делу, ни к нему, – возня пудреных париков, сцены из дореволюционных колониальных времен. И он весьма резко заявил: «Избавьте меня от этой комедии, от этого издевательства, бросьте вы игру в суд…»
Однако машину запустили, колеса вертелись. Двадцать пятого октября пятьдесят девятого года суд начался. Два дня обсуждали процессуальные вопросы. Судить будет штат Виргиния. Как раз в октябре шла очередная осенняя сессия конгресса.
Избирали присяжных – из двадцати четырех кандидатов надо двенадцать человек. По закону все они должны быть людьми беспристрастными, ведь подсудимый имел право отводить присяжных. Среди них – ни одного из тех, кто сражался в Харперс-Ферри. Может быть, и стоило воспользоваться правом отвода? И что было бы тогда? Все кандидаты в присяжные заявили, что у них еще нет сложившегося мнения – виновен ли Джон Браун или нет. Ну разве не комедия?
Его несли на суд под конвоем восьмидесяти солдат – мрачная толпа окружила здание. Выкрики, угрозы, брань.
Снаружи здание суда охранялось солдатами. Внутрь достопочтенный Паркер ввести солдат не разрешил. Не допустил нарушения статута. Независимый суд.
Независимый? От губернатора Уайза, например. От жаждущих мести плантаторов Виргинии и других южных штатов. Независимый от южной прессы!
И судья Паркер и прокурор Хантер тесно связаны семейными и дружескими узами с влиятельными семьями Виргинии.
В обвинительном заключении три пункта: 1) подстрекательство негров к мятежу, 2) убийство при отягчающих вину обстоятельствах, 3) измена штату Виргиния.
Закон, по которому его судили, был принят после восстания Ната Тернера в 1831 году.
– Кончайте всю эту комедию, да поскорее, – это он сказал в начале суда.
Но едва он заметил, как торопятся его заклятые враги, торопятся до неприличия, не скрывая этого, он перестал спешить. Тогда сам захотел выиграть время.
Он спрашивал себя в первый день суда: почему они так торопятся? Ведь он – в их руках, его можно убить немедленно, сейчас же, сию минуту. Безоружный, закованный, чем он им опасен?
Хотят скорее утолить жажду мести? Да, и это.
Но главное – в другом. Они боятся его слова. Смертельно боятся распространения его взглядов. Они хотят, чтобы люди считали рабовладение законным, а противников рабства – уголовными преступниками, нарушителями закона и порядка. Они должны судить его по закону и, значит, не могут вовсе лишить его трибуны. Но чтобы он успел сказать меньше, чтобы меньше людей узнали о нем, о его товарищах, об их целях, они и хотят ускорить суд.
А он хотел, чтобы его услышали. Чтобы его письма переписывали. Он не имеет права допустить, чтобы его последний бой в Харперс-Ферри был бы замолчан или оболган. В этом его долг перед живыми и перед мертвыми. Итак, суд – продолжение боя. Кто бы ни были судьи, прокурор, присяжные. Не ему выбирать обстоятельства. Ему – сражаться против обстоятельств.
Одни из репортеров писал в «Трибюн», что судьи торопятся, ибо «ходят слухи, будто Браун намерен сделать подробное заявление для прессы о своих мотивах и намерениях, но суд в страхе прекратил всякий дальнейший доступ корреспондентов к нему, он ведь может сказать такое, что отрицательно воздействует на общественное мнение и окажет дурное влияние на рабов…»

Первая схватка – вопрос о защитнике. Ему самому могут не дать говорить, а защитник вправе говорить много. Это он понял еще до суда. Потому двадцать первого октября он написал письмо из тюрьмы – оно было первым – и разослал по трем адресам: Томасу Расселу, судьям Дэниелю Тилдену в Кливленд и Ройбену Чэпману в Спрингфилд. В каждом письме один и тот же текст: «…я обращаюсь к Вам с просьбой – помочь найти умелого и преданного защитника для меня и моих сотоварищей, нас в тюрьме пятеро. Штат Виргиния устами губернатора и других именитых граждан уверяет, что нам обеспечат справедливый судебный процесс. Если у нас не будет такого защитника (не из рабовладельческих штатов), тогда обстоятельства нашего дела не станут известными миру, их нельзя будет использовать, чтобы воздействовать на взгляды людей во время самого процесса…
Можете ли Вы или еще кто-либо из хороших людей приехать сюда немедленно, хотя бы ради молодых заключенных? Мои раны постепенно заживают. Не присылайте аболициониста крайних убеждений».
Но уже двадцать пятого октября суд начался, никто из адресатов не успел даже ответить письмом, Тилден телеграфировал, что приедет, но позже прислал адвоката. Чэпман отказался. Рассел приехал в последний день.
Брауну назначили двух защитников-южан, один из них не захотел защищать того, кто сам его не хочет. Защитником стал Томас Грин, мэр города Чарлстона. Вот тогда Браун и попросил отложить суд на два-три дня, объяснил: его недаром несли в суд на носилках, он еще не может стоять, у него очень болит голова, он плохо слышит. Просто не слышит вопросов, обращенных к нему. И он надеется на приезд адвокатов, которым написал.
Чего он хотел от защитников? Он так определил свои пожелания: «Мы дали многим нашим пленникам полную свободу: надо добыть их имена. Мы разрешили другим пленникам навестить своих родственников, чтобы успокоить их: надо добыть все их имена. Мы разрешили машинисту провести свой поезд по мосту со всеми пассажирами. Я сам вместе с ними перешел мост и заверял пассажиров в их полной безопасности. Надо найти и этого машиниста, и, по возможности, пассажиров. Мы были добры и человечны ко всем нашим пленникам: надо, по возможности, найти их имена. Мы приказывали с первого и до последнего момента, чтобы ни одному безоружному не было бы нанесено никакого вреда, ни при каких обстоятельствах – эти факты надо подтвердить. Мы не нанесли никакого ущерба собственности, ничего не разрушили – это надо подтвердить…»
Защитник поддержал просьбу подсудимого об отсрочке. Но прокурор Эндрью Хантер возразил, – нельзя откладывать ни на день:
– Ему предоставили способного и умного адвоката… и нет оснований ожидать тех джентльменов с Севера, которые обещали приехать. Наш долг перед обществом – избегать всего, что может ослабить нашу нынешнюю позицию и усилить наших врагов за границей…
Хантер очень спешил. Но традиционная процедура предоставляла возможность адвокатам активно участвовать в процессе. Грин цеплялся за противоречия в словах прокурора – обвинение должно еще доказать, что Браун хотел сформировать особое правительство штата Виргиния, свергнув существующее. Статья сорок шестая написанной Брауном Временной конституции будущей свободной республики – текст был найден среди его бумаг – этому противостоит. Она утверждает именно верность государству и флагу, там нет призыва ни свергнуть федеральное правительство, ни даже правительство рабовладельческих штатов. Да и арсенал находится не на территории Виргинии, а на территории штата Мэриленд.
Защитник признавал, что Браун и его товарищи нарушили закон. Но суду предстояло точно выяснить, насколько нарушили, в какой степени.
За дверьми суда бушевала толпа.
– Вздернуть и все тут! Пристрелить, как бешеную собаку! Зачем терять время?!
Особенно усердствовала одна женщина:
– Он оставил мою соседку вдовой! Неужели в штате Виргиния больше нет мужчин?!
Пожилой школьный учитель в очках:
– Послушайте, мэм, но ведь и его сыновей убили, и зятя, и товарищей, и сам он тяжело ранен…
– Его сюда никто не звал! Защищаешь – значит, сам негролюб!
Она кричала неистово, и к учителю начали пробираться угрюмые вооруженные парни. Помогло только то, что внезапно кончилось заседание, из зала начали выходить, и ожидающие кинулись с вопросами:
– Что? Что он сказал? А защитник?
Корреспондент нью-йоркской «Гералд» – он пробрался в Чарлстон с огромным трудом, ибо на суд пускали только сторонников рабства, – потом писал: «Было нестерпимо смотреть на эту толпу, на эти лица, возбужденные лишь одним – ожиданием ужасающего. Только мгновениями можно было дать отдых глазам, остановившись на единственном спокойном лице; и подумать же, что именно он, один из всех, был обречен, что именно над его головой был уже занесен меч».
…Суд называется судом равных. Каждый белый гражданин в Америке имеет право на суд равных. Слова Торо: «Равных Брауну в Америке нет, потому над ним и не может быть никакого суда равных» – были произнесены позже.
На третий день с Севера приехал новый защитник, молодой Хойт. Ему не дали даже нескольких часов, чтобы познакомиться с делом.
Хойт удивленно заметил:
– Но ведь речь идет о жизни и смерти, значит, нельзя торопиться…
Хантер продолжал спешить. Именно потому, что речь шла о жизни и смерти одного человека, Джона Брауна. И всей рабовладельческой системы американского Юга.
Молодой защитник пытался доказать абсурдность обвинения: как же можно изменить штату Виргиния, если ты не являешься гражданином Виргинии?
Пытался, признав один пункт обвинения, но крайней мере отбить другой…
…Справедливый суд. Ему обещали справедливый суд.
Он – подсудимый. Подсудимый ниже суда? Он вовсе не чувствует себя ниже.
Все яснее Браун ощущал – он должен успеть сказать. Раньше он с недоверием относился к словам, презирал слова, которые заменяли дела. Один освобожденный раб значил для него больше, чем тысячи прекрасных слов о свободе. В Канзасе он предпочитал ружья, пистолеты, кинжалы самым красноречивым проповедям. Он и до Канзаса стремился действовать – школа ли, тайная ли дорога. А теперь самое важное, чтобы свершенное дело было выражено, закреплено, многократно усилено именно словом. Поэтому надо выиграть время.
На своей территории он исполнен сил. Его территория горная, воздух разрежен, существовать, дышать простым смертным трудно. Там царят абсолютные истины, там неприемлемы никакие компромиссы. Рабовладение – абсолютное зло, борьба против рабства – абсолютное добро, борцы за свободу черных рабов – единственно праведные люди. И нет никаких перемычек между царством тьмы и царством света. Нельзя быть частично там, частично здесь. А этот суд, эта защита хотят увлечь его к соглашению, к полумерам, к полуправдам. Здесь не его территория, здесь он слаб. С одной стороны, с другой стороны, отчасти так, отчасти этак…
Ну какая разница, был он гражданином Виргинии или нет? Мог и быть.
Да, он нарушил американские законы, об этом и спорить нечего. Но дело в том, что правда на его стороне, а не на стороне закона. Надо изменить законы. И они будут изменены, в этом он неколебимо уверен.
Лежа на носилках перед судьями, он погрузился в свои мысли и вдруг услышал слова помощника прокурора Гардинга. Гардинг возмущался абсурдностью притязаний подсудимого – с ним, видите ли, должны обращаться в соответствии с правилами честной войны. Он, видно, забыл, что возглавлял банду воров и разбойников…
Ну что же, Гардинг по-своему прав. Соблюдения правил честной войны он от них не ждет. Мои ребята не воры, не разбойники – они бросили вызов разбойничьим законам гардингов и хантеров.
Нет, юридическое крючкотворство не для него. Недаром он с юности не любил краснобаев в судейских мантиях. Даже лучшие из них, те, что называют себя его друзьями, подчас сердят больше, чем враги. Но что несет Хилтон, сменивший Хойта защитник?
– Как можно обвинять Джона Брауна в подстрекательстве негров к бунту, когда негры не взбунтовались? Значит, суд штата Виргиния хочет вынести приговор намерениям, а не действиям? Но это противоречит англо-саксонским традициям судопроизводства, противоречит и традициям Юга.
Хилтон движим наилучшими намерениями, а ранит больнее, чем враги. Негры не поддержали. Эта боль притаилась в глубине, он старается приглушить ее, но она есть, он ощущает ее все время, с тех дней, с восемнадцатого, с девятнадцатого октября. Негры не поддержали.
Временную конституцию Хилтон называет химерой, безумием. А Хантер, главный его враг прокурор Хантер, возражает защитнику. Конечно, у него свои цели, он хочет поскорее вздернуть старого Брауна, но именно Хантер говорит, что временное правительство – это не дискуссионный клуб, это реальная угроза. «Их поведение в Харперс-Ферри выглядело безумием, но в брауновском безумии отчетливо проявился определенный метод».
Враг говорит лучше, чем друг. Враг лучше понимает его. Надо запомнить эти слова Хантера. Надо, чтобы эти слова знали.
Ему предоставили возможность говорить неожиданно, он считал, что все его товарищи должны пройти предварительную судебную процедуру.
Он не готовился к последней своей публичной речи, не составлял плана, не сидел над бумагой, не правил. Но он и готовился к этой речи много лет. Она просто выражала его жизненные принципы. Он совершенно не касался юридических тонкостей, он шел прямо к сути.
Его слова на суде записал Рассел, записали корреспонденты, напечатали в некоторых газетах.
Браун говорил, слегка наклонившись, опершись руками о край стола:
– Этот суд, кажется, признает значение закона божьего. Я вижу, здесь клянутся на книге, это, видно, Библия или, во всяком случае, Новый завет. Меня эта книга учит: «Поступай по отношению к другим людям так, как хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе». Она учит меня далее: «Помни о тех, кто в цепях, как если бы ты сам был скован с ними». И я намеревался следовать этим предписаниям… Я считаю, что выступать, как выступал я, – и всегда открыто, – что выступать на стороне угнетенных, на стороне бедняков, что так делать – правильно… Я не испытываю чувства вины… Пусть мои беспристрастные судьи решат, стал ли мир лучше или хуже от того, что я в нем жил.
«Он говорил застенчиво, скромно, слова звучали с особой мягкостью… Невозможно дать вам представление о мягком, даже нежном тембре его голоса в сочетании со спокойствием и мужеством…»
До него долетали обрывки из обвинительного заключения:
– …совместно с другими злонамеренными изменниками, неизвестными судьям, не ведая страха божья, будучи движимы ложными, соблазнительными, дурными советами других злонамеренных измен-пиков и внушениями дьявольскими…
Присяжные совещались сорок пять минут и вошли в залу с вердиктом: «Виновен».
Услышав приговор, он только поправил одеяло.
2
Стивенс спрашивает: а какой у вас был самый страшный день в жизни?
Уж во всяком случае, не день приговора. Этого Браун ждал, был готов…
Самый страшный? Шестнадцать лет тому назад, сентябрь сорок третьего года, он опускает в могилу четвертый детский гробик. В сорок третьем году в семье Браунов было двенадцать детей: старшему – двадцать два года, младшему – год. Больше двенадцати одновременно уже не было.
Дизентерия. Сначала заболел шестилетний Чарльз, умер через неделю. Мэри заледенела, едва не лишилась речи, молилась вместе с ним, но как-то деревянно, повторяла движения, шептала слова.
Смерть и раньше входила в его дом. Умер маленький Фредерик. Умерла первая жена Диана. Он уже омывал покойников, ужо закрывал невидящие глаза, уже опускал гробы в землю. Но ему показалось, с Мэри началась совсем другая жизнь. А тут смерть опять на пороге.
Похоронив Чарльза, возвращались с кладбища, дорогу перебежала черная кошка. Мэри не успела отпрянуть. Она слушалась Джона, но суеверий не могла побороть. Как он ни уговаривал ее: «Значит, ты ангелу-хранителю не доверяешь», она соглашалась, обещала, но это было сильнее ее.
Дома – трое в жару: Остин, Питер, Сара. Остину только год, орет благим матом, ничего еще не понимает. А Саре уже девять, она понимает все. Большие грустные глаза. «Ничего, папочка. Мне ничего не надо. Вы сами отдохните».
Джон оглядывается, словно хочет запомнить их. Он их всех укачивал, пел песни, чаще не колыбельные, просто свои любимые. Даже военные марши.
Сейчас он выносит горшки и тазы. Понос и рвота. Понос и рвота. Он падает с ног от усталости, но взваливает на себя еще и еще. Понимает, что это не только из любви к детям, но и потому, что боится. Боится остаться наедине с Мэри, наедине со своими мыслями. И врача поблизости нет.
– Может, я съезжу за доктором?
– Поезжай, – роняет Мэри безучастно.
Как их одних оставить? Четырнадцатилетняя Рут возится по дому, но все-таки девочка. Остальных здоровых – Фредерика, Салмона, Оливера, Уотсона – надо кормить, да и оградить от болезни. И самим есть. И дом. А этим, заболевшим, видно, уже не поможешь.
Двадцать первого сентября – Остин. Утром на рассвете вздохнул, как взрослый, заплакать не успел – и нет его. Джон ладил гробик, поставил на стол, на следующий день хоронить. А назавтра – Питер. До трех лет не дожил. Какие характеры разные даже у маленьких, и умирали по-разному. Питер стал биться, на губах выступила черная пена. Мэри отерла пену чистой белой тряпочкой, затих. Так и остался скрюченный. Когда обмывали, распрямили ручки и ножки. Второй гробик. Сара все видит, умница, лучше бы не была она такой умницей. Соседские старушки давно вздыхали, глядя на нее: «Не жилица на этом свете». Смотрит большими глазами, похожа на его мать. Джон все время читает ей из Библии.
– Вы не устали, папочка?
Она очень стыдится поноса и рвоты. Стесняется, что за ней надо убирать. Только они отвернутся, пробует сама встать, идти сама, а ноги не держат.
Она давно уже помогала матери, ухаживала за малышами. Остина особенно любила. Когда гроб с его телом вынесли из комнаты, она ему помахала – вроде бы «до встречи!».
Умирала ясная, просветленная. Сама благословила родителей: «Будьте счастливы».
Острая боль и мгновенный приступ гнева, бешенства.
– За что? Не хочу, как Иов! Ты уже взял троих!
Нет, не вслух, он вслух не посмел бы: рядом Мэри, рядом другие дети. Да и сама Сара.
Так же просветленно умирала его мать – первое его детское горе. Ему было чуть меньше лет, чем сейчас Саре. Но он не смиренный, он и тогда бунтовал, выкрикивал что-то.
Три гробика в одну могилу. Засыпали землей. Он обнял Мэри за плечи. Она уже не плачет. Почерневшее лицо, сухие глаза, темные круги. Когда Чарльза хоронили, плакала. Казалось, все слезы выплакала двенадцать дней тому назад. Нет, век тому назад. А сейчас – нет слез. Он знает, что со слезами ей было бы легче, пытается заговаривать с ней, вызвать слезы.
– Помнишь ножки его толстые в перетяжках? Помнишь, как ты учила Сару говорить «дай», а она тебе протягивает пряник обратно и говорит: «На… тебе…»?
Мэри молчит отчужденно. Собирает на стол. Поминки. Двенадцать дней тому назад он сидел здесь же, на своем месте, были поминки по Чарльзу. И тогда было очень больно. Каждый ведь особенный. Но такого, как сейчас, не было. Моровая язва.
За что?
Мэри он говорит: «Бог дал, бог и взял». Она молчит.
Соседи разошлись, вымыла, как всегда, посуду. Сидит на кровати. Руки висят. Старая. Мэри старая? Десять лет они женаты. Ей двадцать семь. Она носила, рожала, кормила, теперь они – в могиле. Четверо.
Мэри так и не ложится. Просидела всю ночь. Он то засыпал тяжелым сном, то мгновенно просыпался, ему слышались зовы. Нет, теперь никто не зовет. Здоровые дети крепко спят. Джон-младший уехал, он помог бы. Из старших детей дома только Джейсон. Но он не женат, детей своих еще нет, не может до конца понять, что это такое – смерть ребенка.
Джон следит за взглядом Мэри. Она неотрывно смотрит на свой живот. Семимесячная беременность. Эти дни боялся: выкинет.
«Нет, нет, Мэри, – заклинает он ее, – нет, Мэри, не смей так думать. Надо рожать. Надо обязательно рожать. Ты умница, ты мужественная. Ведь четверых потеряли».
Они оба молчат. Это все он про себя говорит, молча внушает ей. Мэри научилась слышать его и без слов. Зачем же рожать, чтобы потом хоронить?
Сара мечтала о сестренке. Назвать новорожденную, если будет девочка, Сарой? Нет, страшно. Лучше – Энн, как давно хотели. Только бы доносила.
Доносила. Энн выросла и помогала на ферме Кеннеди, перед нападением на арсенал.
Как трудно было с ними со всеми. Как Мэра уставала. А потом стало легко. Опустелый дом. Утро, когда не хочется вставать.
Может, бог и впрямь такую черную весть нам послал, – не рожайте, мне ваши дети неугодны? Нет, быть того не должно, нельзя позволять себе так думать. А отсюда надо переезжать. Гиблое место. Это Мэри ему внушила.