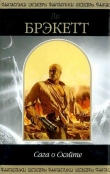Текст книги "Поднявший меч. Повесть о Джоне Брауне"
Автор книги: Раиса Орлова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Он считал, что учит поркой. Но сыновья и дочери запомнили, как нежен, как почтителен был их отец с дедом, особенно когда Оуэн стал глубоким стариком. Никогда не позволял себе даже раздражения. Тщательно хранил все отцовские письма.
Когда дети болели, Джон целыми ночами не спал, носил их на руках, читал басни Эзопа, укачивал, пел им песни.
«Трубите, трубы» – старый гимн – любимая его песня. Все дети помнят, как отец пел, расхаживая по комнате. Вовсе и не колыбельная, слова не детские и не успокаивающие. «Трубите, трубы». «Зачем мы начинаем? Почему не боимся смерти?» В самом деле – почему? Это он себя спрашивал.
Глуховатый голос, размеренный ритм, ребенок, даже и больной, понемногу засыпал…
Учил старших сыновей выпиливать.
– Плохо. Никуда не годится. Снова.
Переделывают в третий раз. В этом улье нет трутней. Значит, если не вышло, придется и в четвертый, и в пятый. Жена уже давно, так ей кажется, пилит проклятым этим лобзиком, она бы сделала за детей, но в доме есть хозяин. Она не смеет перечить ему, только приласкает наказанного потом, попозже, тайком.
– Фред, ты опять не убрал куртку.
– Извините, отец, сейчас.
– Кому нужны твои извинения? Разве в этом дело? Ты сам обязан убирать, без напоминаний. Не видишь разве, сколько дел у матери.
– Да, сэр.
– Что «да»? Вот ты сейчас соглашаешься, а завтра опять забудешь и все раскидаешь.
– Нет.
Фредерик с трудом скрывает раздражение. Отец продолжает негромко, на одной ноте. Домашние спешат незаметно скрыться.
Наступает пятница, он уводит Джона-младшего в сарай. Читает по бухгалтерской книге, словно судебный приговор. А у мальчика одно: «Скорее бы. Скорее бы. Пусть больно, но хоть без длинных этих слов, от которых мутит».
Мальчик кричит. Десять розог. Отец бьет не торопясь. Десятая. Наконец-то! Мальчик спускает рубашку, хочет бежать подальше, как он ненавидит отца!
– Подожди.
(«Господи, что еще?»)
Джон Браун поднимает свою рубашку.
– А теперь ты бей меня. Нет, не так. Сильнее! Еще сильней. Я тебя выпорол потому, что ты заслужил. Грех требует наказания. Но моя душа болит за тебя, я хочу разделить твою боль.
Свистит розга, мальчик видит кровавые полосы на костлявой спине, не хочет, не может смотреть на них, но и ослушаться еще нет ни сил, ни смелости. А гнев постепенно почему-то утихает…
Браун воспитывал и жену. Диана боялась лошадей. Он подводил необъезженную лошадь и приказывал: «Садись!» Она бледнела, медлила, надеялась: вдруг его отвлекут и он забудет про нее.
Но он повторял неумолимо: «Садись!»
Она взбиралась на седло, лошадь рвалась. Диана падала, несколько раз сильно расшибалась. Она так и. не научилась ездить верхом.
Как это можно – бояться лошади? Самое благородное животное на свете. Мальчиком он едва дождался того дня, когда отец разрешил ему сесть в седло. Он и не помнит, чтобы его кто-то учил, вроде родился в седле. Сливался с седлом, с крупом лошадиным – шаг, рысь, галоп, препятствия, прыжок. Если на свете есть счастье, то вот оно – мчаться верхом, ветер в лицо, ты свободен…
Значит, все должны это испытать, прежде всего самые близкие. Ничего, не надо поддаваться умоляющему взгляду жены, еще одна попытка, пусть пока неудачная, в конце концов она научится.
Все должны быть счастливы, как он. Все должны быть свободны, как он. А если люди не понимают, как для них лучше, надо их твердой рукой вести к лучшему. Потом поймут.
В 1832 году Диана умерла при родах. Джон страшно горевал. Закаменел, сидел часами неподвижно, уставившись в одну точку. Из дому не выходил. Но детям нужна мать, в доме нужна хозяйка, и через год он женился вторично. Мэри-Энн было семнадцать лет. Она лошадей не боялась. Но когда детей пороли, и ей было больно. Не зажмуривалась от свиста розог. Тихо, но упрямо говорила мужу: «Не надо». Кроткая, безропотно послушная, тут она оказалась твердой: «Не надо бить детей». Он скорее удивился, чем рассердился. Понял – мачеха, ей сложнее со старшими. «Я хочу, чтобы твое лицо постоянно излучало свет, даже когда мое – темно, облачно», – писал он ей.
По большим религиозным праздникам детям запрещалось не только бегать по дому, но даже и разговаривать.
Джон Браун-младший сказал отцу, когда он жил уже отдельно:
– У нас в доме всегда так мрачно было, будто висело что-то.
– А кто тебе обещал, что будет по-иному? Кто сулил безоблачное счастье? Я, во всяком случае, никогда не обещал… Мир этот – юдоль скорби.
Но потом над словами сына с горечью задумался. И писал Мэри: «Я часто сожалею, что не умею вести себя более мягко, чаще проявлять мою любовь к близким…»
Когда его дочь Рут выросла, стала матерью, отец говорил ей, чтобы она была терпимее со своими детьми, не била бы их, лучше всего вообще не наказывала. «Если бы я мог снова прожить свою жизнь – это уже в одном из поздних писем, – я совсем по-другому обращался бы со своими детьми. Я и тогда хотел как лучше, теперь я понимаю, что все это было неправильно».
В те ранние годы весенними и зимними ночами волки выли почти у самых окон. Он с сыновьями зажигал факелы, заряжал ружья картечью – огнем и выстрелами отстаивали свой дом.
Летом дети подчас прибегали из лесу бледные от ужаса – медведь!
И в Северной Эльбе сразу за домом – дикая степь, дикие горы, дикие леса.
Все дети были еще крупнее отца и все были мягче. Он это понимал. В письме из тюрьмы, адресованном единомышленнице и другу, госпоже Спринг, он подробно рассказывал о сыне Джейсоне: «…он хороший садовник, винодел, умеет выращивать плодовые деревья, но никогда не хвастается делами рук своих, всегда недооценивает себя, очень застенчив и медлителен; отнюдь не склонен (подобно его отцу) командовать и диктовать. Он очень щепетилен в отношениях с людьми и бесконечно щадит чужие чувства, никогда поэтому не добивается того, чего он достоин…»
Вырастая, сыновья подчас бунтовали против «верховной» власти в семье.
А он – он воспитывал до последнего вздоха. В письме из тюрьмы – до казни оставалось шестнадцать дней – он писал жене: «Теперь несколько слов о воспитании наших дочерей. Я больше не в состоянии в этом участвовать и, таким образом, не мне диктовать. Я с благодарностью передоверяю это дело тем, чья щедрость приведет к желанной цели, но мне лишь хотелось еще раз выразить свою волю в надежде, что к ней будет проявлено должное уважение. Ты, моя жена, прекрасно знаешь, что я всегда был сторонником очень простого и вместе с тем практичного образования и для сыновей, и для дочерей. Я имею в виду, конечно, не то мизерное образование, которое получили мы с тобой, и не то, которое пришлось на долю некоторым нашим детям. Когда я говорю простое, но практичное, я имею в виду школу, которая поможет им в дальнейшем вести жизнь в достатке и уважении; я хочу, чтобы они получили деловые навыки, готовящие мужчин и женщин к тому, чтобы они могли противостоять жестокой реальности, оставаясь при этом мягкими, чтобы они всегда могли приносить пользу, хоть и в бедности. Ты хорошо знаешь: я всегда считал, что надо при всех обстоятельствах научиться музыке метлы, тряпки, иглы, прялки, корыта и т. д. прежде, чем музыке фортепиано. Так лучше и для тела, и для ума… Многолетний опыт и размышления привели меня к выводу, что простое и практичное образование в детстве и создает настоящих людей…»
Гнев, который пробудился у двенадцатилетнего мальчика, он, уже взрослый, хотел передать детям. Передать так, как передают сыну отцовскую одежду. Долго не понимал, что сыновья в решительный момент встали рядом с ним не потому, что он их порол, не потому, что он читал им многословные нравоучения, а потому, как он жил. Она, жизнь, и воспитывала.
Гроздья гнева созревали у Джона Брауна медленно. Медленно, но неотвратимо.
Глава третья
Торжественно присягаю
1
В очередном письме из тюрьмы жене и детям он писал: «Ежедневно я стараюсь выбрать из развалин все то немногое, что можно: я намерен писать тебе настолько часто, насколько у меня хватит сил (и насколько мне будет позволено). Будьте бодры; несчастья в этом мире – удел людской. Многие нити из тех, что связывают тебя и меня с землей, уже порваны. Примем же с искренней благодарностью все то, что отец наш небесный может послать нам, ибо все, что он творит, – благо… Я хотел бы, чтобы Рут или Энни переписывали все мои письма (если они могут) и пересылали их своим горюющим братьям… Я не могу писать ни им, ни друзьям, у меня нет сил…»
Странные посетители приходят в тюрьму. Сегодня был Хью Крайфилд. Много лет тому назад они встречались как торговцы шерстью. Крайфилд с тех пор стал богачом.
Гладок, доброжелателен и все спрашивал:
– Почему вы бросили заниматься бизнесом? Ведь ваше имя уже вошло в поговорку: «Предприимчив и честен, как Джон Браун». Стадо Брауна лет десять подряд считалось лучшим в округе. Я знаю, вам очень не везло, но еще немного терпения, и вы добились бы успеха.
– А что такое «успех»?
Крайфилд крякнул.
– Вот моя жизнь – пример успеха.
– Видите ли, мы по-разному понимаем, что такое успех. По просьбе одного хорошего мальчика, сына моего друга («имени Стирнса сейчас называть не надо…»), я два года тому назад написал ему о себе. Я старался передать ребенку, как важно избрать путь жизни. Это и для ребенка, и для взрослого важно – знать, что наши планы верпы сами по себе. И я утверждал, что обычно я достигал поставленной мною цели, в своих начинаниях преуспевал.
А уже здесь, в тюрьме, пришлось на эту же тему писать моему двоюродному брату, преподобному Лютеру Хэмфри. Он мною недоволен, прислал мне длинное назидание. Как и многие другие, он хочет меня, уже далеко не мальчика, воспитывать. И торопится – у них действительно не так много времени осталось.
Я ответил Хэмфри: «Я радовался жизни, такой, какую прожил, я поразительно преуспел, очень рано научившись рассматривать успехи других людей как свои собственные».
Вот что такое успех по-моему, вот его секрет. Я тогда так думал, так думаю и сейчас.
Крайфилд закрыл и снова широко открыл глаза. Наяву? Во сне? Об успехе говорит человек старый, раненый, потерпевший разгром, обреченный на мучительную гибель, и дни его сочтены.
Крайфилд пришел в камеру утешать, решил даже денег послать семье Брауна, пришел, очень гордый своей храбростью. Жена отговаривала: ты не у себя дома, ты на Юге. А этот узник, кажется, вовсе не нуждается в утешении, нисколько не оценил его мужества, уверен в себе, продолжает поучать.
…Важно знать: «наши планы верны сами по себе». Браун, когда писал, когда говорил это, еще и не осознавал полностью, как именно важно. Раз планы верны сами по себе, то поражение и не так уж отличается от победы. Рабство – грех? Грех. Зло? Зло. Позор. Преступление. Значит, не он, так другой, после него, одержит победу над злом. А он – он начал.
– Я счастлив, что успел начать. Мог бы и не успеть, сколько месяцев, лет потратил зря! Вы упрекаете меня за то, что я бросил бизнес, я упрекаю себя за то, что слишком долго им занимался. То, что мне удалось начать Главное Дело, – это и есть мой успех. И не только мой.
Крайфилд теряет благодушие.
– Вы, Браун, стремились к тому, чтобы сокрушить рабовладение. Не буду говорить, какое это безумие – двадцать два человека против мощного государства, – об этом вам и без меня уже сказали, скажут еще много раз и вам, и про вас. А я – о другом. Жизнь-то изменяется не речами, не митингами, не переворотами и менее всего выстрелами. Если хотите, то истинные реформаторы, даже истинные революционеры – это мы, деловые люди. Не качайте головой, именно мы. Вспомните, какой была Америка в дни нашей с вами юности: дикие леса, индейцы, неосвоенные земли. А сейчас – города, фабрики, железные дороги, порты. Кто это все сделал? Мы.
Брауну в большом городе, как в сюртуке, тесно, душно.
Крайфилд продолжал.
– Что вы оставите после себя, Браун? Я оставлю хлопкопрядильные фабрики.
– Я оставлю память о Харперс-Ферри. Это первая настоящая битва против рабовладения, начатая революционерами. Причем белыми, свободными. Первая, но не последняя.
– Промышленное развитие – вот настоящая угроза рабовладению.
– Эта угроза еще лет на двести, а то и больше так и останется угрозой. Кому нужны города и фабрики, когда люди по-прежнему в цепях, в рабстве?
– Рабовладение обречено и погибнет не потому, что несколько сот рабов убегут в Канаду, не потому, что несколько сот аболиционистов, пытаясь замаливать общие грехи, будут созывать все новые митинги протеста, обращаться с петициями к конгрессу, выпустят еще газеты, не потому, что вы убьете несколько рабовладельцев. Оно погибнет, потому что оно невыгодно экономически. Когда погибнет, на этот вопрос не мне отвечать. Но и не вам. Жизнь изменяет тот, кто изобретает, кто торгует, кто строит.
Сейчас из-за вас, из-за Харперс-Ферри мы отброшены назад. Вы дали в руки южанам-экстремистам козыри – они уже путают на всех углах восстанием рабов, теснят нас, северян, нас, ни в чем не повинных бизнесменов.
– Вы что, хотите, чтобы я вас пожалел?
На мгновение Крайфилд смутился.
– Мне очень жаль вас, Браун, я ведь христианин, потому и пришел, но дело ваше вредное.
– То, что изначально зло, то не может стать добром, сколько бы ни прошло времени, сколько бы ни принималось законов, сколько бы ни было построено фабрик. Зло можно только уничтожить.
Наконец ушел.
Ох, как Браун устал от этого разговора. Легче объяснить тюремщику, судье, прокурору. Рабовладельцу какому-нибудь, и то было бы легче объяснить. А этот Крайфилд округлый, как шар, и слова стекают с него, нигде не задерживаясь. За деньги для Мэри спасибо. А разговоры такие ни к чему. Мало времени осталось. Надо успеть рассказать о главном и тем людям, которые поймут.
Но разговор с Крайфилдом застрял, невольно потянул за собой нить воспоминаний.
…Кончились многомесячные и бесплодные поездки того злосчастного тридцать девятого года. Большая семья – десять человек, а содержать ее как следует не может: долги, долги, горькое ощущение невыполненных обязательств. На душе тяжко. Мэри молчит. Она не упрекает его. Она еще очень молода – двадцать три года, не понимает, как это стыдно – постоянное безденежье.
Ему хочется наряжать свою Мэри. Вот он – торговец шерстью, а жене платка не привез.
Одну – и большую – часть жизни больно и совестно вспоминать. Иногда он пропускал десятилетия, и получалось: детство – скачок – клятва посвятить всю жизнь борьбе против рабства – скачок – Канзас и Харперс-Ферри. А на самом деле тянулись долгие годы, больше трех десятилетий. Тянулись бессмысленно, медленно. Это теперь, на тюремной койке, не успеешь на другой бок повернуться, а десятилетия уже прокрутились.
А тогда – одна коммерческая сделка за другой. Чем он только не занимался кроме шерсти – и сапоги тачал, и виноторговое дело завел, – чуть ли не все перепробовал. Начал очень рано – шестилетним: нарезал ремни для кнутов и продавал их. И словно кто предрешил, так одинаково все происходило. Вначале – бурный энтузиазм: вот оно, нашлось дело, теперь-то я наконец выберусь из долгов, сведем концы с концами, перестану просыпаться и засыпать с проклятой, унизительной мыслью – где достать денег? Он загорался, зажигал других, знакомых и незнакомых, профессиональных опытных бизнесменов и таких любителей, как он сам.
Он был не одинок, строилась молодая Америка, тогда еще не было произнесено магическое заклинание: «Каждый чистильщик сапог, каждый разносчик газет может стать миллионером». Но все для этого уже готовилось, зарождалось, возникало, казалось, стоило нагнуться – руда, нефть, а то и золото… Многие нагибались. Немногие находили. Еще меньше людей становились богатыми. Но кто-то же становился! Вот Крайфилд, например.
Энтузиазм у Брауна быстро остывал. Упрямый, ничьих советов никогда не слушал. В бизнесе неловкий. Прямолинейный. Совершенно не умеющий хитрить, хотя не всегда честный. Разорялся сам, тянул за собой других. Если можно представить себе сочетание черт, вместе составляющих «антибизнесмена», – это и будет он, Джон Браун.
Но он не умел посмотреть на себя со стороны и долго не знал, что идет по чужому пути, идет, бежит, тащится, что его волокут обстоятельства. Около двадцати коммерческих начинаний, в шести штатах, при участии разных людей. А конец один и тот же – крах. Уже не хватит жизни, чтобы отдать долги.
Едва, не выкарабкался в 1840 году. Оберлинский колледж – его отец был одним из его попечителей – послал Брауна в Виргинию, там у колледжа были неосвоенные земли, можно ли их обработать, пустить в дело? Но и тут последовал крах. Правда, в первый раз увидел Виргинию – ту землю, где ему предстояло совершить подвиг.
Биржевые паники, экономические кризисы – кто-то наживался, а Браун неизменно терял.
В 1842 году – банкротство. Несостоятельный должник. Имущество описали: две коровы, две лошади, семь овец, семь ягнят, девятнадцать кур, одиннадцать экземпляров Библии, три ножа. Посадили в долговую тюрьму. Совсем другая тюрьма. Решетки, они, конечно, везде решетки. Но сейчас, в Чарлстоне, в Виргинии, он – герой, сколько людей о нем думают, к нему пишут, приходят, спрашивают совета, едва ли не постоянно он ощущает поддержку. И современников, и предшественников.
Читает Гиббона, читает Карлейля о Французской революции, читает о Туссен-Лювертюре, о восстании негров на Гаити. Не просто читает книги, чувствует родство с людьми, давно умершими. Эстафета не прервалась, он принял ее из достойных рук.
А тогда ничего, кроме Библии, не читал, и святая книга не приносила утешения. Тогда – только стыд. Закрыть глаза. Но и смерть не смел звать – кто будет кормить детей, кто позаботится о семье, на которую он навлек позор? Иногда не выдерживал и все-таки звал смерть. Но она не приходила.
Неудачник. Пожалуй, и тогда, спрашивая себя, а что такое удача, он смутно ощущал, что, поменяйся он местами с теми, кто гребет золото лопатой, радости он бы вовсе не испытал. Хотел ли он когда-нибудь в жизни быть вроде Крайфилда? Нет.
…Болото. Несколько раз и теперь ему снилось болото – хлипкая трясина затягивает неумолимо. Тошнота, рвота, болото. Так – в прошлом.
Теперь – горы. Камера хоть и небольшая, а воздух словно чистый, знакомые строфы Библии читаются по-новому, приобщенно, с гордостью.
Но слабый луч светил и в том давнем болоте…
2
Воскресенье. Он проходит мимо негритянской церкви. Поют духовные гимны – спиричуелз. Он останавливается и невольно слушает. Голоса возносятся высоко, выше, еще выше, кажется, уже некуда, еще выше – к небу, к небу… В его церкви, в белой церкви, нет такого пения. Нет ярких платьев, все – в черном, нет россыпи звуков – монотонная, бесцветная, протестантская церковь.
Как они поют, черные, с какой тоской:
Let my people go…
Отпусти мой народ…
И тот негр, который недавно провел три ночи в его тайной комнате, его переправили в Канаду, и он тихонько, едва ли не про себя пел:
Let my people go…
Вот его и отпустили. Отпустили из рабства с помощью проводников тайной дороги, с помощью Джона Брауна и других белых американцев. Отпустили? Скорее – вытащили.
Почему они просят? Почему только просят, умоляют, заклинают?
Let my people go…
Горе, боль, сила, радость. Да, сила и радость тоже, как разлилась песня, какие мощные голоса, вот если бы всю эту силу да не в песню…
Почему они только просят? И к кому они обращаются? Разве наши властители добровольно отпустят? Они скорее удавятся, чем отпустят.
Горькая-горькая нота, дух захватывает от высоты, и все отходит, сердце переполняется милосердием, жалостью, радостью.
Аллилуйя! Славься, славься, господи.
Что они прославляют, чему могут радоваться? Почему в этих песнях мало гнева?
Аллилуйя! Отмахнуться от захватывающей этой музыки не может, она втягивает, связывает. Она против свободы, эта музыка… Что за чушь лезет ему в голову?
Отпусти мой народ…
Уже совсем тихо.
Он отошел, музыка доносится глуше и глуше. Нет, нельзя просить, нельзя стоять на коленях – бесполезно. Даже вредно.
Может, надо «мы уйдем!» или «мы будем сражаться», «мы одолеем»?
Для этого кто-то должен выйти вперед. Кто-то должен сказать: «Идите за мной». Какой негр это скажет? Или это скажет не черный?
Белый скажет! Белый должен взять на себя, белый должен отмолить грехи этих нечестивцев-рабовладельцев. Как некогда Христос взял на себя грехи тогдашних рабовладельцев.
Он уходил, а песня нагоняла его, мелодия не отпускала, пели опять громче, дуэт – сопрано и бас, а потом соло, потом хор, покрывающий все мощный хор, – песня тянет, тянет, нет, я вырвусь, я все равно вырвусь.
Белый человек должен сказать: «Идите за мной». Сказать и белым, и черным. Сказать с такой же силой и убежденностью, как эта колдовская песня.
Это я должен сказать. Я, Джон Браун Пятый, сын аболициониста Оуэна Брауна, внук воина американской революции Джона Брауна. Я скажу: «Идите за мной. Идите сражаться против рабства». И они пойдут.
Он занимался бизнесом, карабкался наверх, соскальзывал вниз, он содержал огромную свою семью, содержал, учил, наставлял, подобно древним патриархам. И он все еще был далек от мысли, что общественная система, в которой он существует, сама по себе – порочна. Но удары кнута надсмотрщика он, свободный белый американец, живущий на Севере, ощущал так, словно это его бьют, словно кровавые полосы появляются на его собственной спине. И это ощущение не притуплялось с годами, а, наоборот, постепенно обострялось.
Мальчиком он впервые спросил себя: разве негры не дети божьи? Вопрос остался без ответа.
Катилась обычная жизнь, скольких обкатала, а ему – все хуже, все нестерпимее.
Он с семьей каждое воскресенье ходит в церковь. Он член церковного совета. У Браунов – своя скамья. Лица в церкви только белые. Нет, так неправильно.
Обычное воскресенье. Браун надевает праздничный черный сюртук, углы белой сорочки топорщатся. Мэри в длинном черном платье, в нарядном чепце. И дети прибраны, одеты по-праздничному.
Взглянул на своих:
– Давайте-ка возьмем с собой негров.
Идет в мастерскую, приглашает работников. Неловкое молчание, мнутся: непривычно, боязно. Но хозяина не ослушаешься. А двоим, самым бойким, еще и очень хочется – черным да в белую церковь?!
Торжественно проходят к своей скамье. Браун – впереди, он еще не капитан, но идет, словно полководец, маленький отряд – за ним. Впрочем, какой же это отряд? Жена, дети, работники…
Вокруг – гул неодобрения, шелка женщин шелестят негодующе.
Пастор протирает глаза – действительно черные или это ему мерещится, перехватил вчера лишку? Сбивается, путает, торопливо кончает проповедь. Решительно подходит к Брауну:
– Что это вы придумали, сэр? У негров своя церковь, у нас – своя. Вот уж не ожидал от вас…
– И от Христа, наверно, не ожидали, что он выгонит менял из храма…
– Как вы осмеливаетесь сравнивать себя со спасителем?
– Ответьте мне, в чем суть христианства? Настоящего, то есть для всех? Неужели только в соблюдении обрядов, а не в том, чтобы стараться, насколько это доступно, подражать Христу? Вы упрекаете меня в гордыне, но если не делать, как он учил, не любить ближнего, как самого себя, то зачем же и молитвы, и церковь, и вот эта ваша проповедь?
– Мудреные вопросы вы задаете…
– Что же в них мудреного? В нашей Декларации независимости прямо сказано, что все люди сотворены равными. Все, значит, и черные тоже. В чем мой проступок? Я не солгал, не украл, не убил, даже, – глядя на красный нос пастора, – не выпил… Я привел в божий дом божьих детей.
– Мои прихожане не хотят видеть черных.
Браун круто повернулся. С того дня ни он, ни его семья в этой церкви больше не были.
В часовне колледжа шло собрание памяти Лавджоя. Илайя Лавджой – редактор аболиционистской газеты. Южане трижды выбрасывали в реку его типографские станки. А когда прибыл четвертый станок, напали снова. Осажденные сторонники редактора забаррикадировали дверь. Началась перестрелка. Дом подожгли. Лавджоя убили.
Президент колледжа – он сам объездил всю округу, созывал на это собрание – говорил первым:
– Настал момент кризиса. Теперь перед американскими гражданами не стоит вопрос: «Можем ли мы освободить рабов?» Теперь стоит другой вопрос: «Сами-то мы свободные люди или рабы – рабы южных законов?»
Хорошо говорит президент. Он не просит: «Отпусти мой народ». Он говорит о долге белого человека.
В часовне много людей. Они исполнены благородных намерений. Многие уже подписывали петиции аболиционистов. Многие читают гаррисоновский «Либерейтор».
Но вот кончится собрание, они разойдутся по домам, и каждый займется своими делами. Нельзя же перестать жить потому, что черные люди в рабстве. Нельзя перестать есть, спать, влюбляться, работать, рожать детей, ссориться, пить вино, танцевать, зарабатывать деньги.
Есть и такие, кто боится: ведь южане совсем рядом, рукой подать, Лавджоя-то убили. Боятся, но преодолевают страх – пришли. Есть такие, кто считает, что негры не равны белым. Конечно, и они думают, что никого нельзя бить, тем более нельзя убивать, христиане так не должны поступать.
Убили Лавджоя, прекрасного, мужественного человека. За что? Только за то, что он в газете призывал к отмене рабства.
Весть об убийстве пробудила гнев, тот давний, детский гнев. Он должен излиться, этот гнев. Излиться поступком.
Поступком может быть и слово.
Джон Браун поднялся:
– Здесь, перед богом, в присутствии свидетелей, я клянусь, что с этого момента посвящу всю мою жизнь уничтожению рабства! (Кто-то должен сказать: «Идите за мной!» Я скажу. И они пойдут.)
Вслед за сыном на кафедру взошел его отец, Оуэн Браун, и поддержал сына.
Джон Браун поклялся. Но ведь он связан по рукам и ногам. У него большая семья. Всех надо кормить. А денег нет, есть только долги. Хорошо, что отец сразу понял.
А жена и старшие дети, они поймут, поддержат?
В доме Браунов очень рано ложились и очень рано вставали.
Так было необходимо, коров доить надо рано.
И по вечерам никогда никого не будили. Но на этот раз Джон Браун нарушил все обычаи. Разбудил Мэри и трех старших сыновей, позвал в общую комнату, к столу. Рассказал им о том, что произошло в часовне.
– Я поклялся перед богом и людьми, что посвящаю свою жизнь, посвящаю целиком и полностью борьбе против рабства. Я прошу вашего сочувствия и вашей помощи. Если вы согласны со мной, пусть каждый присягнет.
На столе – семейная Библия.
Мэри подошла первая:
– Я, Мэри Браун, перед богом и людьми клянусь, что посвящу всю мою жизнь борьбе против рабства…
Лампа на столе, тени на стенах, руки странно увеличены, словно это не руки, а крылья большой птицы.
– Я, Джон Браун-младший, перед богом и людьми клянусь…
– Я, Оуэн Браун…
– Я, Фредерик Браун…
Их было пятеро. Они присягнули.
Много лет спустя в письме к Хиггинсону он написал о себе: «…одно неизменное правило – не предпринимать ничего, пока я не пойму, что именно надо делать».
Он мало знал себя, он казался себе очень практичным, но попять, что надо делать, – это ему всегда необходимо. В тот момент он почувствовал, что необходимо дать торжественную клятву. Сначала на людях, а потом дома, со своими, но тоже – торжественно.
Джон Браун с детства заучил: вначале было слово. Ему надо было понять и произнести слово. Вслух. Он присягнул, и на душу снизошел мир.
Впервые за долгие месяцы, засыпая, он не думал ни о шерсти, ни о долгах.
Он поклялся. И оставшиеся ему двадцать два года был верен клятве.
А жизнь в доме шла своим чередом.
Как бы рано Джон ни вставал, Мэри уже на ногах. В детстве, просыпаясь, первую видел мать. Засыпая, последнюю видел мать. Так теперь и с Мэри. Волосы гладко зачесаны, платье темное, скромное, но всегда чистое, выглаженное. И в доме, на плите все блестит. В хлеву так чисто, что и гостя, кажется, уложить не грех.
Какое это разумное, всегда необходимое дело – домашний женский труд. Он слышал за стеной, как соседка жаловалась Мэри:
– Готовишь, готовишь, орава моя набросится, и опять ни крошки нет, все сначала и так три раза в день. Стираешь, стираешь, а грязная одежда не переводится.
А его Мэри, умница, учила эту дуреху-распустеху. Вот и у них шаром покати, нет готовой еды. Мэри возится, быстро-быстро снуют руки, топочет, как ежиха, звякают кастрюльки, стучат горшки – глядь, полный стол еды.
Самому малому – восьмимесячному Уотсону – отгородила уголок какими-то чурками, вроде загончика для молодняка, хорошо придумала. Серьезный человечек, на игрушки внимания не обращает, впрочем, игрушек мало, это для них роскошь. Отец сам что-нибудь мастерит малышу. Уотсон ухватился за чурку, – качается, укрепить надо, это Мэри не сообразила, сейчас вбить пару гвоздей. Мальчуган смеется. Тянется, тянется, покраснел, нет, не буду помогать, сам сынок, сам. Встал. И упал. Не заплакал, лишь сморщился весь и снова ухватился за чурку. Кажется, только что родился, лежал, запеленатый как кокон, на деда, на старика Оуэна, похож. Восемь месяцев – и встал. Что он знает о свободе, о мире, о неграх? Что его ждет, какую судьбу ему готовит время, родители? Взял сынишку на руки, подкидывает к потолку. Мэри боится, а Уотсон смеется. Храбрый растет. Это всегда нужно – храбрость. Мужчине – тем более.
Так почему же тебе больше всех надо? У тебя такая славная семья – вот заботься о них. Сейчас ему радостно, и все вокруг – и жена и ребята – светятся.
Он писал как-то Мэри: «Когда долго пробудешь в отсутствии, только тогда можешь по-настоящему ощутить спокойствие дома. Только тогда услышишь ни с чем не сравнимую музыку своего дома, оценишь ее».
Мэри свое женское дело отлично делает, а ты свое мужское – не очень. Но если будешь думать только о своих, как выполнишь клятву?
Из Рэндольфа семья Браунов переехала в Гудзон, в штат Огайо.
Какая большая, какая еще пустынная страна. Осваивается целый континент – это мы все сообща делаем его своим. И предки ехали сюда из тесной уже Европы не только от нужды, не только от политических и религиозных преследований, ехали еще и потому, что жаждали простора. Это, наверно, всегда человеку нужно, чтобы вокруг тебя было хоть какое-то свободное пространство, свободное от домов, от других людей.
На месте Гудзона еще не так давно – у многих на памяти – было пустое место. Назвали город по имени его основателя. Гудзон строился, расширялся гораздо быстрее, чем Рэндольф. Это не тихая провинция – один из интеллектуальных центров, один из центров аболиционизма. Его отец Оуэн Браун – казначей гудзоновского общества противников рабства.
Это в Гудзоне, в Оберлинском колледже, был провозглашен высший нравственный закон. Ему должен следовать хороший человек, а не людским установлениям, часто несправедливым, часто меняющимся. В этот колледж принимали негров и женщин.
Попытки Брауна в Рэндольфе были попытками одиночки. Ни школу для негров, ни общие службы в церкви так никто и не поддержал. А здесь, сколько людей здесь на много лет раньше, чем он, поняли, что рабовладение – грех.