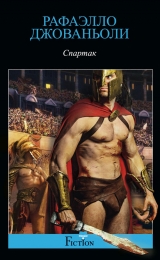
Текст книги "Спартак"
Автор книги: Рафаэлло (Рафаэло) Джованьоли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Не успел он еще закончить ужин, как в триклиний вошла Эвтибида, бледная, но спокойная; в руках она держала свиток папируса в обложке из пергамента, раскрашенного сурьмой; этот свиток был перевязан льняной тесьмой, скрепленной по краям печатью из воска с изображением Венеры, выходящей из пены морской.
Метробий, несколько смутившийся при виде письма, спросил:
– Прекраснейшая Эвтибида… я желал бы… я хотел бы знать… кому адресовано это письмо?
– И ты еще спрашиваешь?.. Конечно, Луцию Корнелию Сулле…
– О, клянусь маской бога Мома, не будем спешить, обдумаем получше наши решения, дитя мое.
– Наши решения?.. А при чем здесь ты?..
– Но да поможет мне великий всеблагой Юпитер!.. А что, если Сулле не понравится, что кто-то вмешивается в его дела!.. Что, если он, вместо того чтобы разгневаться на жену, обрушится на доносчиков?.. Или, что еще хуже, – а это вероятнее всего, – он разгневается на всех?..
– А мне-то что за дело?
– Да, но… то есть… Осторожность не мешает, дитя мое. Для тебя, может быть, безразличен гнев Суллы… а для меня это очень важно…
– А кому ты нужен?
– Мне, мне самому, прекрасная Эвтибида, любезная богам и людям! – с жаром сказал Метробий. – Мне! Я очень себя люблю.
– Но я даже имени твоего не упоминала… Во всем том, что может произойти, ты ни при чем.
– Понимаю… очень хорошо понимаю… Но, видишь ли, девочка моя, я уже тридцать лет близок с Суллой…
– Знаю, знаю… и даже более близок, чем это нужно для твоей доброй славы…
– Это не важно… Я хорошо знаю этого зверя… то есть… человека… При всей дружбе, которая нас связывает уже столько лет, он вполне способен свернуть мне голову, как курице, а потом прикажет почтить мой прах пышными похоронами и битвой пятидесяти гладиаторов у моего костра. Но, к несчастью, мне-то самому уж не придется насладиться всеми этими зрелищами!
– Не бойся, не бойся, – сказала Эвтибида, – ничего плохого с тобой не случится.
– Да помогут мне боги, которых я всегда чтил!
– А пока воздай хвалу Бахусу и выпей в его честь пятидесятилетнего фалернского. Я сама тебе налью.
И она ковшиком налила фалернского в чашу комедианта.
В эту минуту в триклиний вошел раб в дорожной одежде.
– Помни мои наставления, Демофил: до самых Кум нигде не останавливайся.
Раб взял из рук Эвтибиды письмо и, засунув его между рубашкой и верхней одеждой, привязал у талии веревкой, потом, простившись с госпожой, завернулся в плащ и ушел.
Эвтибида успокоила Метробия, которому фалернское развязало язык, и он снова пытался говорить о своих страхах. Заверив его, что они завтра увидятся, она вышла из триклиния и возвратилась в конклав, где Лукреций, держа в руке дощечку, перечитывал написанное им.
– Прости, я задержалась дольше, чем предполагала… но, я вижу, ты времени не терял. Прочти мне твои стихи. Я знаю, ты можешь писать только стихами, и стихами прекрасными.
– Ты и буря, что бушует сегодня, вдохновили меня… Ты права, я должен прочесть эти стихи тебе первой. А потом, возвращаясь домой, я прочту их буре.
Лукреций встал и с необычайным изяществом продекламировал:
Ветер, во-первых, морей неистово волны бичует,
Рушит громады судов и небесные тучи разносит,
Или же, мчась по полям, стремительным кружится вихрем,
Мощные валит стволы, неприступные горные выси,
Лес, низвергая, трясет порывисто: так, налетая,
Ветер, беснуясь, ревет и проносится с рокотом грозным.
Стало быть, ветры – тела, но только незримые нами.
Море и земли они вздымают, небесные тучи
Бурно крутят и влекут внезапно поднявшимся вихрем;
И не иначе текут они, все пред собой повергая,
Как и вода, по природе своей хоть и мягкая, мчится
Мощной внезапно рекой, которую, вздувшись от ливней,
Полнят, с высоких вершин низвергаясь в нее, водопады,
Леса обломки неся и стволы увлекая деревьев.
Крепкие даже мосты устоять под внезапным напором
Вод неспособны: с такой необузданной силой несется
Ливнем взмущенный поток, ударяя в устои и сваи.
Опустошает он все, грохоча; под водою уносит
Камней громады и все преграды сметает волнами.
Так совершенно должны устремляться и ветра порывы,
Словно могучий поток, когда, отклоняясь в любую
Сторону, гонят они все то, что встречают, и рушат,
Вновь налетая и вновь; а то и крутящимся смерчем
Все, захвативши, влекут и в стремительном вихре уносят.
Как мы уже говорили, Эвтибида была гречанка, притом гречанка, получившая хорошее образование. Она не могла не почувствовать и не оценить силу, красоту и гармонию этих стихов, тем более что латинский язык в то время не был совершенен и, кроме Энния, Плавта, Луцилия и Теренция, не имел других поэтов, которые пользовались бы известностью.
Эвтибида выразила свое восхищение словами, полными искреннего чувства, на что поэт, прощаясь с ней, сказал с улыбкой:
– За свое восхищение ты поплатишься дощечкой: я уношу ее с собой.
– Но ты мне сам принесешь ее, как только перепишешь стихи на папирус.
Пообещав Эвтибиде вскоре прийти к ней, Лукреций удалился. Душа его была полна только что созданными стихами, их подсказало ему наблюдение над природой, поэтому они получились такими сильными, звучными и полными чувства.
Эвтибида как будто была вполне удовлетворена. В сопровождении Аспазии она удалилась в свою спальню, решив перед сном подумать на свободе и вкусить всю несказанную радость мести. Но, к ее великому удивлению, эта радость оказалась совсем не такой полной, как она думала, и она удивлялась, что чувствует столь слабое удовлетворение. Совсем неожиданные мысли осаждали ее, когда она ложилась. Она приказала Аспазии удалиться, оставив зажженным ночной светильник, лишь слегка затемнив его.
Долго перебирала она в памяти все, что ею было сделано, и размышляла над возможными последствиями своего письма. Быть может, Сулла сумеет сдержать свой гнев до глубокой ночи, выследит любовников и, застав их в объятиях друг друга, убьет обоих…
Мысль о том, что она скоро узнает о смерти и позоре Валерии, этой надменной и гордой матроны, которая смотрела на нее свысока, хотя сама была порочной и презренной женщиной, лицемеркой, в тысячу раз более преступной и виновной, чем она, Эвтибида, – эта мысль наполняла душу куртизанки радостью и смягчала муки ревности, все еще терзавшей ее. Но чувства ее к Спартаку были совсем иные. Эвтибида старалась оправдать его проступок и, хорошенько подумав, даже решила, что фракиец менее виновен, чем Валерия. В конце концов он только бедный рудиарий и жена Суллы, хотя бы даже и некрасивая, должна была казаться ему богиней. Эта подлая женщина, наверно, обольстила его ласками, околдовала, довела до того, что у него не было сил сопротивляться… Наверно, все случилось именно так, а не иначе. Разве сам по себе гладиатор осмелился бы поднять глаза на жену Суллы? А снискав ее любовь, бедный Спартак, естественно, оказался в полной ее власти и уже не мог, не смел даже на мгновение подумать о другой любви, о другой женщине. Смерть Спартака теперь не казалась Эвтибиде заслуженной карой, – нет, ее ничем нельзя было оправдать.
Эвтибида долго не могла уснуть и ворочалась с боку на бок, погруженная в печальные думы, охваченная самыми противоречивыми чувствами, горько вздыхала, трепеща от страшных мыслей. Время от времени, побежденная усталостью, она забывалась дремотой, но потом, вздрогнув, снова начинала метаться в постели, пока наконец не уснула тяжелым сном. В комнате воцарился на некоторое время покой, нарушаемый лишь прерывистым дыханием спящей. Вдруг Эвтибида вскочила и в испуге закричала голосом, полным слез:
– Нет, Спартак!.. Нет, это не я убиваю тебя… это она… Ты не умрешь!..
Несчастная была поглощена неотвязной мыслью, которая во время короткого сна перешла в видение; образы, отягощавшие ее мозг, претворились во сне в один образ Спартака, умирающего и молящего о пощаде.
Вскочив с постели, бледная, с искаженным от страдания лицом, она накинула широкое белое одеянье, позвала Аспазию и велела ей разбудить Метробия.
Немалых трудов стоило ей уговорить актера немедленно отправиться в путь и, догнав Демофила, взять у него обратно письмо, написанное ею три часа назад, – теперь она не хотела, чтобы оно попало в руки Суллы.
Метробий устал с дороги, осоловел от выпитого вина, разнежился в приятном тепле постели, и Эвтибиде понадобилось все ее искусство и чары, чтобы через два часа он решился отправиться в путь.
Буря прекратилась, все небо было усыпано звездами и только свежий, но довольно резкий ветерок мог потревожить нашего путника.
– Демофил опередил тебя на пять часов, – сказала гречанка Метробию, – поэтому ты должен не скакать, а лететь на твоем коне.
– Да, если бы он был Пегасом, я заставил бы его лететь.
– В конце концов так будет лучше и для тебя!..
Через несколько минут послышался стремительный топот лошади, скакавшей во весь опор; он будил сынов Квирина; они настороженно прислушивались, а потом снова закутывались в одеяла и, с наслаждением вытягиваясь в теплой постели, радовались ей еще больше при мысли, что многие несчастные находятся сейчас в поле, в пути под открытым небом и мерзнут на холодном ветру, который яростно завывает на дворе.
Глава седьмая
КАК СМЕРТЬ ОПЕРЕДИЛА ДЕМОФИЛА И МЕТРОБИЯ
Всякому, кто выезжал из Рима через Капенские ворота и, проехав по Аппиевой дороге, после Ариции, Сутрия, Суэссы-Пометии, Таррацины и Кайеты, добирался до Капуи, где дорога разветвляется (направо она идет на Беневент, а налево – в Кумы) и затем сворачивал в сторону Кум, открывалась картина несравненной красоты.
Путешественнику, который мог бы охватить взглядом окрестные холмы, оливковые и апельсиновые рощи, виноградники, фруктовые сады, плодородные нивы в золоте урожая, зеленые луга с буйными благоухающими травами – излюбленные пастбища многочисленных стад овец и коров, оглашающих окрестности призывным блеянием и тоскливым мычанием, представилось бы все чудесное солнечное побережье, тянущееся от Литерна до Помпеи.
Там, на этих благодатных берегах, словно по какому-то волшебству, неподалеку друг от друга возникли Литерн, Мизены, Кумы, Байи, Путеолы, Неаполь, Геркуланум и Помпея, а вокруг них выросли богатые храмы, роскошные виллы и термы, веселые солнечные сады, многочисленные деревни, озера – Ахерузское, Авернское, Ликоли, Патрия и многие другие, дома и фермы. Все это побережье казалось единым огромным городом, а дальше виднелось спокойное лазоревое море, покоящееся в объятиях берегов залива, заботливо охраняющих его, а еще дальше – кольцо прелестных островов с термами, дворцами, роскошной растительностью: Исхия, Прохита, Несида, Капрея. И все это богатство, вся красота природы, сосредоточены в цветущем уголке земли, которому боги и люди, казалось, уговорились дать все, что существует в мире наиболее прекрасного и пленительного, в цветущем уголке, залитом солнцем и овеваемом ласковым дуновением мягкого, теплого ветра.
Весь этот пейзаж был поистине сказочно прекрасен! Недаром об этих местах в те времена сложилась легенда, что именно здесь умерших поджидал со своей лодкой Харон, перевозивший их из этого мира в элисий.
Приехав в Кумы, путешественник видел великолепный, богатый, густонаселенный город, расположенный частью на крутой, обрывистой горе, частью на ее пологом склоне и на равнине у моря. В сезон купаний сюда съезжались римские патриции; некоторые из них, у кого не было в окрестностях Кум своей виллы, проводили здесь также часть осени и весны.
В Кумах имелись все удобства, роскошь и уют, которыми богачи и знать того времени могли окружить себя в самом Риме, – были там и портики, и базилики, и форумы, и цирки, грандиозный великолепный амфитеатр (развалины его сохранились и доныне), а на горе, в Акрополе, высился чудесный храм, посвященный богу Аполлону, один из самых красивых и роскошных в Италии.
Кумы были основаны в очень отдаленные времена. Известно, что за пятьдесят лет до основания Рима Кумы были уже в таком расцвете и так могущественны, что переселенцы из этого города основали в Сицилии город Занклу, который позже стал называться Мессана. Несколько позже была основана другая колония, Палеополис, – очевидно, нынешний Неаполь.
Во время второй Пунической войны Кумы были независимым городом, дружественно настроенным союзником, а не данником Рима. Хотя в это время многие другие города Кампаньи перешли на сторону карфагенян, Кумы остались верны Риму, – поэтому Ганнибал, собрав большие силы, напал на них. Но консул Семпроний Гракх пришел им на помощь и разбил Ганнибала, истребив великое множество карфагенян.
С тех пор римские патриции оказывали предпочтение Кумам, хотя в эпоху описываемых событий знатные люди стали больше посещать Байи, и вследствие этого Кумы начали постепенно приходить в упадок.
Недалеко от Кум, на чудесном холме, откуда открывался великолепный вид на побережье и на залив, стояла роскошная вилла Луция Корнелия Суллы. Все то, что тщеславный, сумасбродный, одаренный безудержной фантазией Сулла мог придумать в смысле удобств и роскоши, было осуществлено на этой вилле; сады ее простирались до самого моря, и в них диктатор велел устроить специальный бассейн для прирученных рыб, за которыми был установлен самый тщательный уход.
Вилла Суллы не уступала в роскоши римским домам. Там была баня – вся из мрамора, с пятьюдесятью отделениями для горячих, теплых и холодных ванн, на устройство которых Сулла не пожалел средств. Были на вилле теплицы с редкими цветами и вольеры для птиц, были заповедники, где жили олени, козули, лисицы и разная дичь.
Всемогущий диктатор уже два месяца уединенно жил в этом очаровательном уголке, где воздух был необычайно мягок и полезен для здоровья.
Своим многочисленным рабам он приказал проложить дорогу, которая ответвлялась от Аппиевой дороги, на небольшом расстоянии от того места, где та сворачивала на Кумы, и вела прямо на виллу.
Здесь Сулла проводил свои дни в размышлениях и писал «Воспоминания», которые собирался посвятить – и впоследствии действительно посвятил – Луцию Лицинию Лукуллу, известному богачу, который в это время вел успешные войны, а тремя годами позже был избран консулом и одержал победу над Митридатом в Армении и в Месопотамии; впоследствии он стал знаменит среди римлян, и память о нем дошла до потомков, хотя прославился он не столько своей доблестью и победами, сколько утонченной роскошью, которой окружил себя, и неисчислимыми своими богатствами.
На вилле в окрестностях Кум Сулла проводил все ночи в шумных и непристойных оргиях; солнце не раз заставало его еще возлежащим за столом, пьяным и сонным, среди еще более пьяных мимов, шутов и комедиантов, обычных участников его кутежей.
Время от времени он совершал прогулку в Кумы, а иной раз в Байи или Путеолы, хотя там он бывал значительно реже. И всюду граждане любого сословия выказывали ему знаки уважения и почтения, не столько за его великие деяния, сколько из страха перед его именем.
Три дня спустя после событий, описанных в конце предыдущей главы, Сулла вернулся в колеснице из Путеол, где он улаживал спор между патрициями и плебеями; он уже приезжал сюда десять дней назад для той же цели; в этот же день он в качестве арбитра скрепил акт соглашения.
Вернувшись под вечер, он приказал приготовить ужин в триклинии Аполлона Дельфийского, самом обширном и великолепном из четырех триклиниев огромного мраморного дворца.
При свете факелов, горевших в каждом углу, среди благоуханных цветов, возвышавшихся пирамидами у стен, среди сладострастных улыбок, манящей прелести полунагих танцовщиц и веселых звуков флейт, лир и цитр пиршество вскоре превратилось в разнузданную оргию.
В обширной зале вокруг трех столов было установлено девять обеденных лож; на них возлежали двадцать пять пирующих, не считая самого Суллу. Место любимца Суллы, Метробия, оставалось пустым.
Бывший диктатор, в белоснежной застольной одежде, в венке из роз, занимал место на среднем ложе у среднего стола, рядом с любимым своим другом Квинтом Росцием, который был царем этого пира.
Судя по громкому смеху Суллы, «речам и частым возлияниям, можно было подумать, что бывший диктатор веселится от души и никакая печаль, никакая забота не терзают его.
Но внимательный наблюдатель легко заметил бы, как он постарел и похудел за эти четыре месяца, стал еще безобразнее и страшнее. Его лицо исхудало, и кровоточащие нарывы, покрывавшие его, увеличились: волосы из седых, какими они были за год до этого, стали совсем белыми; на всем его облике лежал отпечаток усталости, слабости и страдания – это были последствия бессонницы, на которую он был обречен мучившим его страшным недугом.
Тем не менее в его проницательных серо-голубых глазах – и даже больше, может быть, чем всегда, – горела жизнь, сила, энергия и всепокоряющая воля. Усилием воли он старался скрыть от других свои нестерпимые муки и успешно добивался этого, – иногда, в особенности в часы оргий, он, казалось, даже сам забывал о своей болезни.
– А ну-ка, расскажи, расскажи, Понциан, – сказал Сулла, поворачиваясь к патрицию из Кум, возлежавшему на ложе за другим столом, – я хочу знать, что говорил Граний.
– Я не расслышал, что он говорил, – сказал Понциан, побледнев и, в явном замешательстве, не зная что ответить.
– Ты ведь знаешь, Понциан, у меня тонкий слух, – промолвил Сулла спокойно, но грозно нахмурив при этом брови, – я ведь слышал то, что ты сейчас сказал Элию Луперку.
– Да нет же… – возразил в смущении патриций, – поверь мне… счастливый и всемогущий… диктатор…
– Ты вот что сказал: «Когда Грания, теперешнего эдила в Кумах, заставили уплатить в казну штраф, наложенный на него Суллой, он отказался сделать это, заявив…», но тут ты поднял на меня глаза и, заметив, что я слышу твой рассказ, вдруг замолчал. Предлагаю тебе повторить точно, слово в слово, все сказанное Гранием.
– Сделай милость, о Сулла, величайший из вождей римлян…
– Я не нуждаюсь в твоих похвалах, – вскричал Сулла хриплым от гнева голосом, и глаза его засверкали; приподнявшись на ложе, он с силой стукнул кулаком по столу. – Подлый льстец! Похвалы себе я сам начертал своими деяниями и подвигами, все они значатся в консульских фастах,[138]138
Консульские фасты – списки высших должностных лиц, которые велись из года в год.
[Закрыть] и я не нуждаюсь, чтобы ты мне повторял их, болтливая сорока! Я хочу услышать слова Грания, я хочу их знать, и ты должен их мне повторить, или, клянусь арфой божественного Аполлона, моего покровителя, – да, Луций Сулла клянется тебе, – что ты живым отсюда не выйдешь и твой труп послужит удобрением для моих огородов!
Призывая Аполлона, которого Сулла уже много лет назад избрал особым своим покровителем, диктатор дотронулся правой рукой до золотой статуэтки этого бога, которую он захватил в Дельфах и почти всегда носил на золотой цепочке тонкой работы.
При этих словах, при этом движении Суллы и его клятве все друзья его побледнели и умолкли, растерянно переглядываясь; утихла музыка, прекратились танцы; шумное веселье сменилось могильной тишиной.
Заикаясь от страха, незадачливый Понциан произнес наконец:
– Граний сказал: «Я сейчас платить не стану: Сулла скоро умрет, и я буду освобожден от уплаты».
– А! – произнес Сулла, и багровое его лицо вдруг стало белым, как мел, от гнева. – А!.. Граний с нетерпением ждет моей смерти?.. Браво, Граний! Он уже сделал свои расчеты. – Сулла весь дрожал, но пытался скрыть бешеную злобу, сверкавшую в его глазах. – Он уже все рассчитал!.. Какой предусмотрительный!.. Он все предвидит!..
Сулла умолк на миг, затем, щелкнув пальцами, крикнул:
– Хрисогон! – и тут же грозно добавил: – Посмотрим! Не промахнуться бы ему в своих расчетах!
Хрисогон, отпущенник Суллы и его доверенное лицо, приблизился к бывшему диктатору; Сулла мало-помалу пришел в себя и уже спокойно отдал какое-то приказание; отпущенник, наклонив голову, выслушал его и направился к двери.
Сулла крикнул ему вслед:
– Завтра!
Повернувшись к гостям и высоко подымая чашу с фалернским, он весело воскликнул:
– Ну, что же вы? Что с вами? Вы все словно онемели и одурели! Клянусь богами Олимпа, вы, кажется, думаете, трусливые овцы, что присутствуете на моем поминальном пире?
– Да избавят тебя боги от подобных мыслей!
– Да пошлет тебе Юпитер благополучие и да покровительствует тебе Аполлон!
– Многие лета могущественному Сулле! – в один голос закричали почти все гости, подымая чаши с пенистым фалернским.
– Выпьем все за здоровье и славу Луция Корнелия Суллы Счастливого! – воскликнул своим чистым и звучным голосом Квинт Росций, подымая чашу.
Все провозглашали тосты, все пили, и Сулла, внешне снова веселый, обнимая, целуя и благодаря Росция, крикнул кифаристам и мимам:
– Эй вы там, дураки, что делаете? Умеете только пить мое фалернское и обкрадывать меня, проклятые бездельники! Пусть вас сейчас же охватит вечный сон смерти!

Едва лишь смолкла площадная ругань Суллы, – он всегда отличался грубой речью и плоскими шутками, – музыканты снова заиграли и вместе с мимами и танцовщицами, которые подпевали им, принялись отплясывать комический и непристойный танец сатиров. По окончании танцев на среднем столе, за которым возлежали Сулла и Росций, появилось невиданное жаркое: орел в полном оперении, точно живой; в клюве он держал лавровый венок с пурпуровой лентой, на которой золотыми буквами было написано «Sullae, Felici, Epafrodito», что означало: «Сулле Счастливому, Любимцу Венеры». Прозвище «Любимец Венеры» особенно нравилось Сулле.
Под рукоплескания гостей Росций вынул венок из клюва орла и передал его Аттилии Ювентине, хорошенькой отпущеннице Суллы, сидевшей с ним рядом; она и несколько патрицианок, приглашенных из Кум, возлежали рядом с мужчинами на обеденных ложах, что и составляло одну из главных приманок пиршества.
Аттилия Ювентина возложила поверх венка из роз, уже украшавшего голову Суллы, лавровый венок и нежным голосом сказала:
– Тебе, любимцу богов, тебе, непобедимому императору, эти лавры присудил восторг всего мира!
Сулла несколько раз поцеловал Аттилию, присутствующие зааплодировали, а Квинт Росций, встав со своего ложа, продекламировал своим чудесным голосом, с чувством и жестами, достойными великого актера:
. . . Увидел он над Тибром,
Как повелитель жезл схватил, которым
Владел когда-то, в землю водрузил.
И вот дала побег верхушка жезла,
Оделась ветвь его листвою пышной
И землю всю квиритов осенила.
Искусно введенные в текст намеки показывали, что Росций был не только незаурядным актером, но и человеком тонкого ума. И снова в триклинии раздались рукоплескания, еще более шумные.
Тем временем Сулла ножом надрезал орла в том месте, где была зашита кожа нафаршированной птицы, и на блюдо выпало множество яиц, которые тут же были поданы гостям; в каждом яйце оказалось мясо жареного бекаса под острым соусом. Все смаковали изысканное кушанье, превознося щедрость Суллы и искусство его повара, а двенадцать красивых рабынь-гречанок в очень коротких голубых туниках обходили стол, наливая в чаши чудесное фалернское.
Немного спустя была подана новая диковинка – огромный медовый пирог, на корке которого с изумительной точностью была вылеплена из теста круглая колоннада храма, и как только пирог был разрезан, оттуда вылетела стая воробьев – по числу гостей. У каждого воробья на шее была ленточка, а к ней был прикреплен подарок с именем гостя, которому он предназначался.
Новые рукоплескания и новый взрыв восхищений встретили это поразительное произведение искуснейшего повара Суллы. Долго шла шумная погоня за птицами, тщетно пытавшимися улететь из наглухо запертого зала, наконец диктатор прекратил эту охоту. Оторвавшись на мгновение от поцелуев Ювентины, он воскликнул:
– О, нынче вечером я в веселом расположении духа, и мне хотелось бы потешить вас зрелищем, редким на пирах… Послушайте меня, любимые друзья мои… Хотите увидеть в этом зале бой гладиаторов?
– Хотим! Хотим! – закричало пятьдесят голосов со всех сторон, потому что такого рода зрелище любили не только гости Суллы, но и кифаристы и танцовщицы, которые с восторгом отвечали: «Хотим! хотим!», позабыв, что вопрос был предложен не им.
– Да, да, гладиаторов, гладиаторов! Да здравствует Сулла, щедрейший Сулла!
Немедленно послали раба в школу гладиаторов, находившуюся здесь же при вилле, с приказом Спартаку привести в триклиний пять пар гладиаторов. Тем временем многочисленные рабы освободили часть зала, где должен был происходить бой, и перевели танцовщиц и музыкантов в другой конец комнаты, ближе к столам.
Хрисогон ввел в зал десять гладиаторов: пятерых в одежде фракийцев и пятерых в одежде самнитов.
– А где же Спартак? – спросил Сулла Хрисогона.
– Его нет в школе. Должно быть, он у сестры.
В эту минуту в триклиний вошел запыхавшийся Спартак. Приложив руку к губам, он приветствовал Суллу и его гостей.
– Спартак, – обратился Сулла к рудиарию, – я хочу оценить твое искусство в обучении фехтованию. Сейчас посмотрим, чему научились и что умеют делать твои гладиаторы.
– Они всего только два месяца упражняются в фехтовании и еще мало чему успели у меня научиться.
– Посмотрим, посмотрим, – сказал Сулла; затем, повернувшись к гостям, добавил: – Я не внес ничего нового в наши обычаи, устраивая бой гладиаторов во время пира; я только возродил обычай, который существовал два века назад у обитателей Кампаньи, ваших достойных предков, о сыны Кум, первых жителей этой области.
Спартак установил сражающихся; он был бледен, волновался, заикался и, казалось, плохо соображал, что делает и что говорит.
Это утонченное варварство, эта умышленная жестокость, эта отвратительная сладострастная кровожадность, обнаруженная столь откровенно и с таким зверским спокойствием, возбудили ярый гнев в сердце рудиария. Невыносимо мучительно было для него сознавать, что не злая воля толпы, не звериный инстинкт неразумной черни, а каприз одного свирепого и пьяного человека и подлая угодливость тридцати паразитов обрекли десять несчастных гладиаторов, честных и достойных, здоровых и сильных юношей, драться без какой-либо неприязни или вражды друг к другу и бесславно умереть гораздо раньше срока, назначенного им природой.
Кроме этих причин, было еще одно обстоятельство, усиливавшее гнев Спартака: на его глазах подвергался смертельной опасности его друг Арторикс, двадцатичетырехлетний галл необыкновенно благородной внешности, чудесно сложенный, с бледным лицом и светлыми вьющимися волосами. Спартак очень любил его, предпочитая всем гладиаторам из школы Акциана. Арторикс тоже был сильно привязан к Спартаку. И как только рудиарию предложено было перейти в школу Суллы, он попросил купить Арторикса, объясняя это тем, что галл необходим ему как помощник по управлению школой.
Расставляя бойцов одного против другого, Спартак в сильном волнении спросил шепотом молодого галла:
– Почему ты пришел?
– Несколько времени назад, – ответил Арторикс, – мы бросили кости, чтобы решить, кому идти последним навстречу смерти, и я оказался в числе проигравших: сама судьба хочет, чтобы я был среди первых десяти гладиаторов Суллы, которые должны сражаться друг с другом.
Рудиарий ничего не ответил, но через минуту, когда было все готово, подошел к Сулле и сказал:
– Великодушный Сулла, разреши послать в школу за другим гладиатором, чтобы поставить его на место вот этого, – и он указал на Арторикса, – он…
– Почему же он не может сражаться? – спросил бывший диктатор.
– Он много сильнее остальных, и отряд фракийцев, в котором он должен сражаться, будет значительно сильнее отряда самнитов.
– И ради этого ты хочешь заставить нас ждать еще? Нет, пусть сражается и этот, мы больше не желаем ждать. Тем хуже для самнитов!
Видя овладевшее всеми нетерпение, которое ясно можно было прочесть в глазах гостей, Сулла сам подал знак к началу сражения.
Борьба, как это можно было себе представить, длилась недолго: через несколько минут один фракиец и два самнита были убиты, а двое других несчастных лежали на полу тяжело раненные, умоляя Суллу пощадить их жизнь, и им была дарована пощада.
Последний самнит отчаянно защищался против четырех нападавших на него фракийцев, но вскоре, весь израненный, поскользнулся в крови, растекшейся по мозаичному полу, и его друг Арторикс, глаза которого были полны слез, желая избавить умирающего от мучительной агонии, из сострадания пронзил его мечом.
Переполненный триклиний загремел единодушными рукоплесканиями.
Их прервал Сулла, закричав Спартаку хриплым, пьяным голосом:
– А ну-ка, Спартак, ты самый сильный, возьми щит одного из убитых, подыми меч этого фракийца и покажи свою силу и храбрость: сражайся один против четырех оставшихся в живых.
Предложение Суллы встретили шумным одобрением, а бедный рудиарий был ошеломлен, как будто его ударили дубиной по шлему. Ему показалось, что он потерял рассудок, ослышался, в ушах у него гудело, он застыл, устремив глаза на Суллу и шевеля губами, тщетно пытаясь что-то сказать; бледный, он стоял неподвижно и чувствовал, как по спине его катятся капли холодного пота.
Арторикс видел ужасное состояние Спартака и вполголоса сказал ему:
– Смелее!
Рудиарий вздрогнул при этих словах, огляделся вокруг несколько раз и опять пристально поглядел в глаза Суллы; наконец, сделав над собой страшное усилие, он проговорил:
– Но… преславный и счастливый диктатор… Я позволю себе обратить твое внимание на то, что я ведь больше не гладиатор; я рудиарий и свободный человек, а у тебя я исполняю обязанности ланисты твоих гладиаторов.
– А-а! – закричал с пьяным сардоническим смехом Луций Корнелий Сулла. – Кто это говорит? Ты, храбрый Спартак? Ты боишься смерти! Вот она, презренная порода гладиаторов! Нет, погоди! Клянусь палицей Геркулеса Победителя, ты будешь сражаться! Будешь!.. – повелительным тоном добавил Сулла и, сделав короткую паузу, ударил кулаком по столу. – Кто тебе даровал жизнь и свободу? Разве не Сулла? И Сулла приказывает тебе сражаться! Слышишь, трусливый варвар? Я приказываю – и ты будешь сражаться! Клянусь богами Олимпа, ты будешь сражаться!
Смятение и тревога, овладевшие чувствами и мыслями Спартака в эти мгновения, были ужасны, и как молнии в грозу – то вспыхивают, то гаснут на небе, мелькают чередой и скрещиваются на тысячу ладов, – так на лице его отражалась буря, бушевавшая в душе! Глаза его сверкали, по лицу то разливалась восковая бледность, то оно все чернело, то багровый румянец покрывал щеки, и под кожей перекатывались желваки мускулов.
Уже несколько раз Спартаку приходила мысль схватить меч одного из мертвых гладиаторов, с быстротою молнии, с яростью тигра броситься на Суллу и изрубить его на куски, прежде чем пирующие успели бы подняться со своих мест. Но он каким-то чудом сдерживал себя. Всякое новое оскорбление, которое выкрикивал Сулла, вызывало у гладиатора негодование, и ему приходилось усилием воли подавлять неудержимое желание растерзать диктатора на части.








