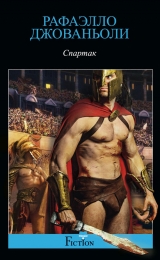
Текст книги "Спартак"
Автор книги: Рафаэлло (Рафаэло) Джованьоли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Глава восьмая
ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕРТИ СУЛЛЫ
Слух о смерти Суллы с быстротою молнии разнесся по всей Италии. Легче себе представить, чем описать, волнение, поднявшееся повсюду и в особенности в Риме.
На первых порах все были поражены, и весть о кончине Суллы была принята молча. Затем пошли толки, расспросы – как, почему и когда произошла эта внезапная смерть.
Партия олигархов, патрициат и богачи оплакивали смерть Суллы как народное бедствие и непоправимую утрату. Испуская громкие вопли, они требовали, чтобы при похоронах герою были оказаны императорские почести, воздвигнуты статуи и храмы, как спасителю республики и полубогу.
Им вторили десять тысяч освобожденных Суллой рабов. В честь Суллы и его имени, после победы его партии, они составили трибу из десяти тысяч Корнелиев,[139]139
Корнелии – так назывались отпущенные на волю и получившие права гражданства рабы осужденных и погибших во время сулланских проскрипций. Через них Сулла оказывал давление на народные собрания.
[Закрыть] и Сулла наделил их частью имущества, конфискованного у жертв проскрипций.
Эти десять тысяч человек, всем обязанные Сулле, всегда стояли за него из благодарности, из боязни, что после его смерти у них будут отняты все его щедрые даяния.
В Италии еще было более ста двадцати тысяч легионеров, сражавшихся на стороне Суллы против Митридата, а затем в гражданской войне – против Мария. Множество этих легионеров осело в городах, поддерживавших Мария: Сулла во время борьбы с Марием истреблял или изгонял коренных жителей этих городов, а легионерам раздавал имущество побежденных. Эти сто двадцать тысяч солдат боготворили своего вождя и благодетеля и готовы были оружием защищать все дарованное им Суллой.
Итак, огромная и могущественная партия приверженцев Суллы скорбела о его смерти. Зато ликовали тысячи высланных, тысячи жертв его лютости, все многочисленные и сильные сторонники Мария, открыто проклинавшие убийцу их родственников и друзей, отнявшего все их достояние. Они жаждали перемен, волновались, взывали к мщению и надеялись отомстить. К ним присоединились плебеи, ибо Сулла отнял у них многие права и немаловажные привилегии, которые они хотели вернуть себе. Словом, известие о смерти бывшего диктатора вызвало в Риме брожение, толки, оживленное движение на улицах, равного которому не замечалось уже много лет.
На Форуме, в базиликах, под портиками, в храмах, в лавках, на рынках – повсюду собирались люди всех возрастов и званий и сообщали друг другу новости. Кто громко оплакивал несчастье, а кто еще громче благословлял богов, пославших смерть тирану и освободивших, наконец, республику от порабощения. Поднимались ссоры, раздавались взаимные угрозы, вспыхивали затаенные обиды, скрытая ненависть, разгорались страсти, возникали противоречивые желания, опасения и надежды.
Волнения разрастались и становились все серьезнее. Поскольку консулы принадлежали к двум враждующим партиям и с давних пор вели скрытую борьбу между собой, теперь страсти забурлили, противники приготовились к бою. Обе партии имели вождей, равных по своему значению и влиянию. Таким образом, гражданская война была близка и неизбежна.
Пользовавшиеся авторитетом граждане, сенаторы и консулары[140]140
Консулары – бывшие консулы.
[Закрыть] старались унять волнение, обещая провести реформы, издать новые законы, возвратить плебеям старинные привилегии, но речи их имели мало успеха: страсти все разгорались.
Многие сенаторы, граждане и отпущенники из трибы Корнелиев в знак траура не брили бороды, надели темные тоги и ходили по городу с унылым видом; женщины, тоже в трауре, с распущенными волосами, бегали из одного храма в другой, призывая покровительство богов, – как будто со смертью Суллы Риму угрожала небывалая опасность.
Их осыпали упреками и насмешками враги Суллы, которые весело прогуливались по Форуму и улицам Рима, радуясь смерти диктатора.
Через три дня после смерти Суллы в центральной части города, на мраморных досках и преторских альбумах,[141]141
Альбум – покрытая белым гипсом доска, на которую заносились преторские распоряжения.
[Закрыть] где обнародовались распоряжения, висевшие там в течение трех базарных дней, появилась следующая эпиграмма:
Диктатор Сулла гордый
Намеревался править Римом твердо.
За это сей наглец
Наказан был богами наконец.
В мечтах высокомерных
Он видел павшим Рим к его стопам.
Для мук неимоверных
За то был отдан на съеденье вшам.
В других местах можно было прочесть: «Долой законы о расходах на роскошь!» – в этих законах особенно явно проявился ненавистный всем деспотизм Суллы. На стенах зданий было написано: «Мы требуем неприкосновенности трибунов!» – эта неприкосновенность была уничтожена Суллой. Иногда появлялась надпись: «Слава Гаю Марию!»
Все эти факты и дерзкие выходки доказывали, что настроение умов резко изменилось.
Вот почему Марк Эмилий Лепид, при жизни Суллы не скрывавший своей неприязни к нему, теперь стал действовать и говорить еще более открыто, хорошо зная, что за него партия Мария и народ.
В противоположность ему, другой консул, Лутаций Катулл, человек известный своим умом и добродетелями, хотя и был связан с партией олигархов, давал понять, не прибегая к дерзким выступлениям и подстрекательствам, что он будет твердо стоять на стороне сената и закона.
В смуту, конечно, впутался и Катилина: он поддерживал хорошие отношения с Суллой, но честолюбивые помыслы, долги и страсти толкали его на поиски чего-то нового, – а тут он мог извлечь многие выгоды, сам ничего не теряя. Поэтому он и его молодые пылкие друзья суетились и возбуждали недовольных, подливая масло в огонь, разжигая ненависть к олигархии.
Курион и Лентул Сура, Цетег и Габиний, Веррес и Луций Бестиа, Писон и Порций Лекка старались поднять народ и, распаляя его гнев, обещали мщение, возмездие, восстановление в правах, призывали к резне.
И только Гней Помпей и Марк Красс употребили всю свою огромную популярность и авторитет, чтобы всеми средствами внести мир и успокоение в умы, внушить гражданам уважение к законам, призывали пожалеть родину и республику, которым новая гражданская война принесла бы только урон.
Сенат собрался в курии Гостилия, чтобы обсудить, какие почести воздать умершему триумфатору, победителю Митридата.
Курия Гостилия, воздвигнутая царем Тулом Гостилием примерно за пятьсот шестьдесят лет до того времени, когда произошли описываемые нами события, была расположена у подножия Палатинского холма, вход в нее был обращен в сторону комиций. В этой курии обычно собирался сенат, и хотя она не была храмом, на нее смотрели как на священное место. Вход устроен был под портиком, напоминающим преддверие храма, сама же курия состояла из большой квадратной залы, со всех четырех сторон украшенной колоннадой, над которой тянулась галерея. В важных случаях – таких, как описываемые нами события, – на галерею разрешался доступ гражданам.
Внизу находились расположенные полукругом три ряда мраморных скамей для сенаторов; они покрыты были шелковыми тканями или звериными шкурами, и на них лежали подушки. Напротив входной двери стоял мраморный стол и два роскошных курульных кресла, предназначавшиеся для консулов; в глубине мраморного полукруга, в середине верхнего ряда скамей, было отведено место старшему из сенаторов; напротив консулов, спиной к входной двери, сидели народные трибуны,[142]142
Народные трибуны. – Первоначально не имели права выступать в сенате. Им разрешено было находиться только перед входом в комиций, где происходило заседание сената. С середины IV в. трибуны пользовались уже правом входа в сенат, участия в прениях и даже созыва сенатских заседаний.
[Закрыть] которые только лет сто тому назад получили место в курии, – прежде их кресла стояли в портике перед входом в курию, где обсуждались постановления сената.
В тот день, когда сенат должен был обсуждать вопрос о почестях, которые следовало воздать умершему Сулле, галерея курии Гостилия была переполнена. Переполнены были и комиции, где собралось четыре или пять тысяч человек из трибы Корнелиев, с небритыми бородами и в темных туниках; они шумно восхваляли Суллу, тогда как остальные семь или восемь тысяч граждан, по большей части неимущее простонародье, ругали и проклинали его.
На скамьях сенаторов царило необычайное оживление.
Председательствовал Публий Сервилий Ватий Исаврийский, бывший консул, известный своими доблестями и мудростью. Открыв заседание, он предоставил слово консулу Квинту Лутацию Катуллу. В скромной и благожелательной речи, ничем не задевая противников Суллы, Катулл напомнил о славных деяниях, совершенных умершим, – о Югурте, взятом в плен в Африке, об Архелае, разбитом при Херонее, о Митридате, побежденном и отогнанном в глубь Азии, о взятии Афин, о прекращении гибельного пожара гражданской войны. Катулл обратился к сенату с просьбой, чтобы такому человеку были оказаны почести, достойные его и народа римского, вождем и полководцем которого он был. В заключение Катулл предложил перевезти останки Суллы из Кум в Рим с торжественной пышностью и похоронить его на Марсовом поле.
Краткая речь Катулла была встречена шумным одобрением почти на всех сенаторских скамьях и бурным порицанием на галерее.
Когда шум постепенно утих, выступил Лепид.
– Сожалею, – сказал он, – горько сожалею, отцы сенаторы, что должен сегодня разойтись во мнениях с моим именитым сотоварищем Катуллом, в котором я первый признаю и ценю доблесть и благородство души. Но я считаю, что только по своей бесконечной доброте, а не в интересах и не к чести нашей родины, он внес предложение не только неуместное, но даже пагубное и нарушающее справедливость. Только по своему великодушию счел он возможным привести именно те доводы в пользу умершего Луция Корнелия Суллы, которые могли бы побудить высокое собрание согласиться оказать праху усопшего императорские почести и устроить царские похороны на Марсовом поле. От избытка доброты своей мой сотоварищ напомнил нам только заслуги и благородные деяния Суллы, но он позабыл, – вернее, пожелал забыть – обо всех несчастьях и бедствиях, причиненных этим диктатором нашей родине, обо всем горе, всех смертях, в которых он повинен, и – скажем откровенно, без боязливого притворства и смущения, – забыл о преступлениях и пороках, запятнавших его имя, о таких злодействах, что даже одного из них было бы достаточно, чтобы навсегда изгнать из нашей памяти все его доблестные деяния и одержанные им победы.
На этот раз сенаторы отозвались сильным ропотом, а галерея шумно рукоплескала.
Ватий Исаврийский подал знак трубачам, и звук труб призвал народ к молчанию.
– Да, будем откровенны, – продолжал свою речь Эмилий Лепид, – имя Суллы звучит зловеще для Рима. Пороками и преступлениями он так запятнал свое имя, что стоит только произнести его, как всем вспоминаются попранные законы отечества, втоптанные в грязь авторитет трибунов и достоинство консулов, деспотизм, возведенный в принцип управления, беззаконные убийства тысяч и тысяч неповинных граждан, позорные, проклятые проскрипции, грабежи, изнасилования, хищения и прочие деяния, совершенные по его приказу и во имя его, во вред родине, в целях уничтожения республики. И такому человеку, имя которого каждому честному гражданину напоминает только о несчастьях, человеку, который любую свою прихоть, все свои страсти возводил в закон, – такому человеку мы сегодня хотим воздать торжественные почести, устроить царские похороны и объявить всенародный траур по нем?
Как же так? Неужели мы похороним Луция Суллу, разрушителя республики, на Марсовом поле, где высится всеми почитаемая могила Публия Валерия Публиколы,[143]143
Публий Валерий Публикола – по преданию, содействовал изгнанию рода Тарквиниев, которые своими бесчинствами вызвали в Риме восстание. Одновременно с этим было положено основание республике (510 г. до н. э.). Прозвище «Публикола», то есть друга народа, он получил за то, что ограждал интересы народа, способствуя своими законами упрочению республики. Римский народ почтил его память торжественным погребением на Марсовом поле.
[Закрыть] одного из основателей республики? Возможно ли допустить, чтобы на Марсовом поле, где по особым постановлениям сената погребены останки наиболее знаменитых и выдающихся граждан прошлых времен, покоилось тело того, кто отправил в ссылку или убил самых благородных и выдающихся граждан нашего времени? Разве мы имеем право сегодня отмечать порок тем, чем наши отцы в прошлом вознаграждали добродетель? И почему, во имя чего мы станем совершать такое дело, низкое и противное достоинству нашему и совести нашей?
Может быть, из страха перед двадцатью семью легионами, сражавшимися за его дело и готовыми сейчас выступить за него, которых он расселил в самых красивых местностях Италии – там, где он больше всего и сильнее всего проявил свою жестокость? Или же мы поступим так, испугавшись десяти тысяч подлых рабов, освобожденных им по личному произволу и деспотическому капризу, вопреки нашим обычаям и законам, и возведенных в самое почетное и уважаемое звание римских граждан? Я допускаю, что вследствие упадка духа нашего или страха, внушаемого роковым самоуправством Суллы, при его жизни никто не решался призвать народ и сенат к соблюдению законов нашей родины, но, во имя всех богов покровителей Рима, спрашиваю я вас, отцы сенаторы, что же теперь принуждает нас признавать справедливым несправедливого и прославлять как человека высокой души того, кто был порочным и гнусным гражданином? Декретировать воздаяние почестей, которых достойны только великие и добродетельнейшие, самому худшему и мерзкому из сынов Рима?
О дайте, дайте мне, отцы сенаторы, возможность не отчаиваться за судьбу нашей родины, дайте мне возможность питать надежду, что мужество, добродетель, чувство собственного достоинства и совесть еще присущи этому высокому собранию! Докажите мне, что не низкий страх, а высокое чувство собственного величия преобладает еще в душах римских сенаторов. Отклоните этот повод для новых гражданских смут, которые разгорятся, словно факел. Отклоните, как недостойное и бесчестное, предложение о погребении Луция Корнелия Суллы на Марсовом поле с почестями, подобающими великому гражданину и знаменитому императору.
Шумными рукоплесканиями были встречены слова Марка Эмилия Лепида. Аплодисментами воздали хвалу этой прочувствованной и смелой речи не только плебеи, сидевшие на галерее, но и многие сенаторы.
Действительно, слова Марка Эмилия произвели большое впечатление на собрание и вызвали волнение, которого никак не ожидали и не желали сторонники Суллы.
Поэтому, как только утих шум после речи консула, Гней Помпей Великий поднялся со своего места. Это был один из наиболее молодых, любимых и уважаемых государственных деятелей Рима и самый популярный из всех сенаторов. В своей речи, не столь плавной и изящной, – он не был красноречив, – но полной чувств, словами, идущими прямо от сердца, воздал Помпей посмертную хвалу Луцию Корнелию Сулле. Он не превозносил его блестящие подвиги и благородные деяния, не защищал и не порицал позорные действия, – он обвинял в них не Суллу, а те ненормальные условия, в которых оказалась пришедшая в расстройство республика, властную необходимость, диктуемую тем ужасным временем, когда Сулла стоял во главе государства, привычное нарушение законов, бешеный разгул страстей в делах общественных и развращенность нравов как простого народа, так и патрициев.
Откровенная, простая и проникновенная речь Помпея произвела на всех, а в особенности на сенаторов, большое и сильное впечатление. После речи Помпея все выступления были излишни, но все же против предложения консула Квинтия Лутация Катулла блестяще говорил Лентул Сура и очень неудачно – Квинт Курион. Предложение Катулла было поставлено на голосование. За него голосовали четыре пятых присутствовавших сенаторов; среди них были Публий Ватий Исаврийский, Гней Помпей, Марк Красс, Гай Скрибониан, Курион, Гней Корнелий Долабелла, Марк Аврелий Котта, Гай Аврелий Котта, Марк Туллий Декула, Корнелий Сципион Азиатский, Луций Лициний Лукулл, Аппий Клавдий Пульхр, Кассий Варр, Луций Геллий Попликола, Квинт Гортензий и множество других людей консульского звания, известных своими деяниями и добродетелями.
Среди голосовавших против предложения Катулла были Марк Эмилий Лепид, Сергий Катилина, Лентул Сура, Луций Кассий Лонгин, Цетег, Аутроний, Варгунтей, Ливии Анний, Порций Лекка и Квинт Курион. Все они впоследствии участвовали в заговоре Катилины.
По требованию некоторых сенаторов было произведено тайное голосование. Оно дало следующие результаты: триста двадцать семь голосов за предложение Катулла и девяносто три против.
Победу одержали сторонники Суллы. После этого собрание было закрыто. Весь народ охватило крайнее возбуждение; волнение распространилось повсюду: из курии Гостилия оно перебросилось в комиции, оно проявилось в бурных манифестациях различных партий. Одни аплодировали Лутацию Катуллу, Ватию Исаврийскому, Гнею Помпею, Марку Крассу – то были явные приверженцы Суллы. Другие еще более шумно и торжественно приветствовали Марка Эмилия Лепида, Сергия Катилину и Лентула Суру, о которых стало известно, что они настойчиво боролись против предложения Катулла.
Когда из курии вышли Помпей и Лепид, горячо обсуждая только что закончившиеся прения, в толпе возбужденных людей, теснившихся у портика, чуть не произошло столкновение, которое могло стать гибельным для республики, ибо оно грозило повлечь за собой гражданскую войну, последствия которой трудно было предвидеть.
Тысячи и тысячи голосов горячо приветствовали консула Лепида. Тысячи других граждан, главным образом Корнелии, в знак протеста рукоплескали Помпею Великому. Начались взаимные угрозы, слышались проклятия, оскорбления. Все это, несомненно, окончилось бы кровопролитием, если бы Помпей и Лепид, проходя через толпу под руку, оба громко не уговаривали своих сторонников. Они призывали к порядку и спокойствию, просили мирно разойтись по домам.
Эти увещевания временно потушили вспышку, но все же не оградили Рим от волнений: в тавернах, харчевнях, на самых оживленных перекрестках, на Форуме, в базиликах, под портиками, тоже обычно очень людными, возникали ожесточенные ссоры и кровопролитные драки. В эту ночь многие оплакивали своих родных – убитых и раненных в уличных схватках; самые горячие головы из народной партии делали попытки поджечь дома видных приверженцев Суллы.
В то время как в Риме разыгрывалось все это, в Кумах произошли другие, не менее важные для нашего повествования события.
Спустя несколько часов после внезапной смерти Суллы, когда на вилле бывшего диктатора царил переполох, из Капуи приехал человек, судя по внешности и по одежде – гладиатор. Он сразу же спросил, где можно повидать Спартака: видно, ему не терпелось встретиться с ним.
Приезжий отличался громадным ростом, геркулесовым сложением и, несомненно, обладал незаурядной физической силой, которая угадывалась с первого взгляда. Он был некрасив, почти безобразен: лицо смуглое, темное, изрытое оспой, в грубых его чертах застыло угрюмое, малопривлекательное выражение. Что-то свирепое, звериное было в его черных живых глазах, горевших, однако, огнем отваги; впечатление дикости довершала густая грива каштановых волос и запущенная борода.
И все же, несмотря на такую неблагодарную внешность, этот великан сразу располагал к себе: чувствовалось, что он человек бесстрашный, грубый, но искренний, дикий – и все же исполненный благородной гордости, сквозившей в каждом его движении.
Пока посланный раб бегал за Спартаком в школу гладиаторов, помещавшуюся довольно далеко от главного здания, приезжий прогуливался по аллее, которая вела от дворца Суллы к гладиаторской школе, и рассматривал чудесные статуи, в изобилии украшавшие виллу.
Не прошло и четверти часа, как раб вернулся, а вслед за ним шел быстрым шагом, почти бежал, Спартак. Приезжий бросился ему навстречу. Гладиаторы обнялись и несколько раз поцеловались. Спартак заговорил первым:
– Ну, Эномай, рассказывай новости!
– Новости все старые, – ответил гладиатор приятным, звучным голосом. – По-моему, кто не бодрствует, не действует и ничего не хочет делать, – негодный лентяй. Спартак, дорогой друг, пора нам взять в руки меч и поднять знамя восстания!
– Замолчи, Эномай! Клянусь богами, покровителями германцев, ты хочешь погубить наше дело!
– Напротив, я хочу, чтобы оно увенчалось великой победой…
– Горячая голова! Разве криками окажешь помощь делу? Надо действовать осторожно, благоразумно – только так мы добьемся успеха.
– Добьемся успеха? Но когда же? Вот что мне надо знать. Я хочу, чтобы это произошло при моей жизни, на моих глазах.
– Мы поднимемся, когда заговор созреет.
– Созреет? Так, значит, со временем… когда-нибудь… А знаешь, что ускоряет созревание таких плодов, как заговор и планы восстания? Смелость, мужество, дерзость! Довольно медлить! Начнем, а там, вот увидишь, все пойдет само собой!
– Выслушай меня… Наберись терпения, нетерпеливейший из смертных. Сколько человек удалось тебе привлечь за эти три месяца в школе Лентула Батиата?
– Сто тридцать.
– Сто тридцать из десяти тысяч гладиаторов!.. И тебе уже кажется, что плод наших более чем годовых усилий уже созрел? Или, по крайней мере, семя проросло и пустило буйные ростки, и труды наши не пропали даром?
– Как только вспыхнет восстание, примкнут все гладиаторы. Произойдет то же, что бывает с вишнями: одна тянет за собой другую.
– Да как же они могут примкнуть к нам, не зная – кто мы, к чему стремимся, какими средствами располагаем для осуществления нашего плана? Победа будет тем вернее, чем глубже будет доверие к нам наших товарищей.
Неистовый Эномай ничего не ответил, он обдумывал эти слова. Спартак добавил:
– Например, ты, Эномай, – ты ведь самый сильный и смелый из всех десяти тысяч гладиаторов в школе Лентула Батиата, а что ты успел сделать за это время? Как ты употребил свое влияние на гладиаторов, которым ты обязан твоей силе и мужеству? Сколько человек ты собрал и привлек в наш Союз? Многим ли известна суть задуманного нами дела? Разве нет таких, кто не особенно доверяет тебе и побаивается твоего необузданного нрава и твоего легкомыслия? А многие ли знают Крикса или меня, относятся к нам с уважением и ценят нас?
– Вот именно потому, что я не такой ученый, как ты, и не умею говорить так красно и убедительно, ты и должен быть среди нас. И я добился – правда, не без труда, – чтобы наш ланиста Батиат пригласил, тебя преподавателем фехтования в свою школу. Смотри, вот его письмо. Он приглашает тебя в Капую. – Эномай вытащил из-за пояса тонкий свиток папируса и подал его Спартаку.
У Спартака загорелись глаза; он схватил свиток, сорвал печать дрожащей от волнений рукой и стал читать письмо, в котором ланиста Батиат сообщал, что, наслышавшись об искусстве и доблести Спартака, он, ланиста, приглашает его в свою школу гладиаторов в Капую для занятий с учениками, а в вознаграждение дает ему превосходный стол и крупное жалованье.
– Так почему же ты, безумный Эномай, не дал мне письмо сразу, как приехал, а столько времени потратил на разговоры? Ведь именно этого я и ждал, хотя боялся надеяться. Там, там, среди десяти тысяч товарищей по несчастью, мое место! – восклицал гладиатор, сияя от радости и полный энтузиазма. – Там я постепенно переговорю с каждым в отдельности и со всеми вместе, я зажгу в них ту веру, которая согревает мою грудь. Оттуда в назначенный день по условному знаку выступит армия в десять тысяч бойцов! Десять тысяч рабов разобьют свои цепи и бросят звенья этих цепей в лицо угнетателям! Из железа позорных своих цепей десять тысяч рабов выкуют клинки непобедимых мечей!.. Ах, наконец-то, наконец-то я заберусь в гнездо и отточу зубы змеенышам, которые будут жалить крылья дерзких и гордых римских орлов!
И, не помня себя от радости, рудиарий еще раз перечитал письмо Батиата, а затем спрятал его на груди. Он то обнимал товарища, то быстрым шагом ходил по аллее, то возвращался к Эномаю и, словно помешанный, бормотал какие-то бессвязные слова.
Эномай смотрел на него, не зная – дивиться ему или радоваться, и, когда Спартак немного успокоился, сказал:
– Я счастлив, что ты так доволен. А как обрадуются сто тридцать наших товарищей, вступивших в Союз! Они с нетерпением ждут тебя и надеются, что ты совершишь великие дела.
– Это плохо, что они ждут слишком многого…
– Вот ты переедешь к нам и успокоишь наших буянов.
– Но ведь это самые твои близкие друзья и, значит, такие же неистовые, как и ты… Да, да, понимаю. Действительно, мое пребывание в Капуе будет полезно, а то они погубят все дело. Я удержу их от опрометчивых вспышек.
– Спартак, клянусь, я предан тебе всей душой, я буду слушаться тебя и во всем буду тебе верным помощником.
Оба умолкли.
Эномай пристально смотрел на Спартака, и обычно суровый его взгляд выражал нежность и любовь. Вдруг он воскликнул:
– А знаешь, Спартак, с тех пор как мы встретились впервые, – больше месяца назад, на собрании в Путеолах, – ты стал красивее и как-то женственнее… Прости меня, я не то хотел сказать… просто ты стал мягче… слово «женственнее» к тебе не подходит…
И тут Эномай вдруг умолк, потому что Спартак сразу переменился в лице, побледнел и, проведя рукой по лбу, тихо сказал несколько слов – так тихо, что гигант Эномай не расслышал их:
– Великие боги! А как же она?..
И несчастный рудиарий, которого любовь к свободе и братская любовь к угнетенным, жажда возмездия и надежда на победу привели в необычайное волнение, вдруг угас, поник головой и стоял молча, отдавшись во власть воспоминаний.
Молчание длилось долго. Спартак, погруженный в горестные мысли, не проронил ни слова; в душе у него шла мучительная борьба, грудь его тяжко вздымалась. Эномай, не нарушая его размышлений, стоял, скрестив на груди руки, и с сочувствием смотрел на страдальческое лицо рудиария.
Наконец он не выдержал и, стараясь не задеть товарища, сказал мягко и сердечно:
– Значит, ты покидаешь нас, Спартак?
– Нет, нет, никогда! Никогда!.. – воскликнул, весь дрожа, фракиец, подняв на Эномая свои ясные голубые глаза, на которых выступили слезы. – Скорее я покину сестру, скорее покину… – и, запнувшись, продолжал:
– Все я брошу, все… но никогда не оставлю дела угнетенных, всеми покинутых рабов… Никогда!.. Никогда!.. – И, помолчав, добавил: – Не обращай на меня внимания, Эномай… Иди за мной. Хотя сегодня в доме Суллы день глубочайшего траура, на кухне мы найдем чем тебе подкрепиться. Но только, смотри, ни слова о нашем Союзе, ни одной вспышки гнева, ни одного проклятия!..
Сказав это, Спартак повел гладиатора ко дворцу.
* * *
На тринадцатый день после опубликования постановления сената о похоронах Луция Корнелия Суллы за счет государства и о воздаянии ему торжественных, царских почестей, похоронное шествие, сопровождавшее останки Суллы, двинулось из виллы диктатора по направлению к Риму, городу на семи холмах.
Почтить усопшего съехались со всех концов Италии. Когда погребальная колесница тронулась из Кум, впереди нее и за ней шли, кроме консула Лутация Катулла, двухсот сенаторов и такого же количества римских всадников, все патриции из Кум, Капуи, Байи, Геркуланума, Неаполя, Помпеи, Путеол, Литерна и других городов и деревень Кампаньи. Здесь были представители всех муниципий и городов Италии, двадцать четыре ликтора, консульские знамена, орлы всех легионов, сражавшихся за Суллу, и свыше пятидесяти тысяч легионеров, добровольно прибывших в полном вооружении, чтобы отдать последний долг полководцу. Несколько тысяч отпущенников из трибы Корнелиев, прибывших из Рима, шли за колесницей в траурных одеждах; шли многочисленные отряды трубачей, флейтистов и кифаристов; тысячи матрон в серых столах и в строгом трауре; двигались нескончаемые толпы прибывших в Кумы из разных местностей Италии.
На роскошной колеснице, которую везли шесть черных, словно выточенных из черного дерева коней, покоилось набальзамированное и умащенное благовониями тело диктатора, завернутое в золотисто-багряную императорскую мантию – палудамент.[144]144
Палудамент – военный плащ полководца.
[Закрыть] Первыми шли за колесницей. Фавст и Фавста, дети Суллы от Цецилии Метеллы, Валерия, Гортензий, Публий и Сервий Сулла, дети Сервия Суллы, брата усопшего; за ними – близкие родственники, одетые в темные тоги, отпущенники, великое множество друзей и знакомых, – все они старательно показывали свое безутешное горе и скорбь.
Десять дней медленно двигалось похоронное шествие. В каждом селении, в каждом городе к нему присоединялись люди и, умножая его ряды, придавали процессии еще больше торжественности и невиданную пышность.
Около десяти тысяч римлян вышли из Рима и двинулись по Аппиевой дороге навстречу похоронному шествию, провожавшему останки Суллы.
Когда кортеж достиг Капенских ворот, десигнатор – то есть распорядитель, которому, по указанию сената, была доверена организация похорон Суллы, – принялся наводить порядок в толпе, чтобы усилить великолепие церемонии. Часа два он размещал народ. И, наконец, шествие вступило в город.
Впереди всех шел распорядитель похорон в сопровождении двенадцати ликторов в темно-серых тогах. Затем шли музыканты, игравшие на длинных погребальных флейтах. За ними следовало свыше пятисот плакальщиц в траурных одеждах; они плакали и вопили за определенную почасовую плату, рвали на себе волосы и громко славили деяния и доблести усопшего.
Так как распорядитель предупредил плакальщиц, что за эти похороны государственная казна будет расплачиваться очень щедро, то слезы и плач по Сулле казались вполне искренними, исходившими от сердца, а добродетели бывшего диктатора Рима, если послушать плакальщиц, были так велики, что все добродетели Камилла и Цинцинната, Фабриция и Фабия Максима, Катона и Сципиона, вместе взятые, не могли с ними сравниться.
За плакальщицами следовали музыканты, оглашая воздух печальными мелодиями. За музыкантами шла колонна, состоявшая более чем из двух тысяч легионеров, граждан и Корнелиев, которые несли свыше двух тысяч спешно изготовленных золотых венков. Это были дары городов и легионов, сражавшихся на стороне Суллы, а также дары его друзей.
Затем следовал виктимарий,[145]145
Виктимарий – помощник жреца при жертвоприношениях.
[Закрыть] который должен был зарезать у погребального костра любимейших животных усопшего. За виктимарием шли рабы, неся восковые изображения предков Луция Корнелия Суллы, в том числе и изображение Руфина Суллы, прадеда диктатора; он дважды избирался консулом во время нашествия Пирра на Италию;[146]146
…во время нашествия Пирра на Италию. – Пирр – царь Эпира, одержавший победу над римлянами в 280 г. до н. э., но потерпевший поражение от них при Беневенте в 275 г. и погибший при осаде Аргоса в 272 г. до н. э.
[Закрыть] это был честный и храбрый человек, и тем не менее по решению цензора его изгнали из сената, так как, вопреки действовавшим тогда законам, он имел свыше десяти фунтов серебра в различных изделиях. Кроме изображений предков, приближенные Суллы несли трофеи его побед в Греции, в Азии, в италийских войнах – венки, ожерелья, боевые награды, заслуженные им.
За ними следовала другая группа музыкантов, а после них шел Метробий, загримированный так, чтобы возможно больше походить на своего умершего друга; на нем была одежда покойного, его знаки отличия. Актеру было поручено изображать Суллу таким, каким он был в жизни.
Сразу же за Метробием, на которого во все глаза смотрела толпа людей, живой изгородью стоявших вдоль дороги, самые, молодые и сильные сенаторы попеременно несли на плечах золотые носилки, украшенные драгоценными камнями, на которых покоилось тело Луция Корнелия Суллы, все покрытое богатейшими императорскими знаками отличия. За носилками шли жена, дети, племянники и другие близкие родственники и друзья покойного, все в трауре и по виду глубоко удрученные скорбью.
Вслед за родственниками тело усопшего провожали все коллегии жрецов: сначала шли жрецы коллегии авгуров, в руках у каждого из них был загнутый посох – отличительный знак авгуров; за ними следовала коллегия фламинов; впереди всех шел диал – жрец Юпитера, затем марциал – жрец Марса, квиринал – жрец Ромула, фламины Флоры и Помоны и другие, все в торжественном облачении и в головных уборах, похожих на митру: на их верхушках к обвитому шерстью жгутику была прикреплена миртовая ветвь.








