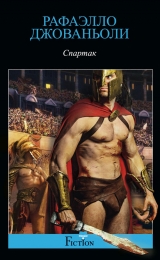
Текст книги "Спартак"
Автор книги: Рафаэлло (Рафаэло) Джованьоли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
А когда утих бурный порыв нежности, Мирца, сияя от радости, рассказала Спартаку, что она никогда не позвала бы его в такой час, если бы на то не было приказания ее госпожи. Валерия часто и подолгу говорит с нею о Спартаке, расспрашивает о нем и выказывает такое теплое участие к судьбе Спартака, какое не часто встретишь у знатной матроны к рудиарию, к гладиатору. Узнав, что он еще не поступил на службу, Валерия приказала позвать его сегодня вечером; собирается предложить ему управлять школой гладиаторов, которую Сулла недавно устроил на своей вилле в Кумах.
Спартак весь преобразился от радости; слушая Мирцу, он то бледнел, то краснел; в мозгу его возникали странные мысли, и он энергично мотал головою, словно хотел отогнать их.
– Если я соглашусь управлять этой маленькой школой гладиаторов, будет ли Валерия требовать, чтобы я опять продался в рабство, или я останусь свободным? – спросил он наконец сестру.
– Об этом она ничего не говорила, – ответила Мирца, – но ведь она так расположена к тебе и бесспорно согласится, чтобы ты остался свободным.
– Значит, Валерия очень добрая?
– Да, да, она и добрая и красивая…
– О, значит, ее доброта беспредельна!
– Тебе она очень нравится, не правда ли?
– Мне?.. Очень, но чувство мое – почтительное благоговение. Именно такое чувство и должен питать к такой знатной матроне человек, находящийся в моем положении.
– Тогда… пусть тебе будет известно… только умоляю тебя, никому ни слова… она запретила мне говорить это тебе… Слушай, такое чувство внушили тебе, без сомнения, бессмертные боги! Это долг благодарности к Валерии, – ведь это она в цирке уговорила Суллу подарить тебе свободу!
– Как, что ты сказала? Правда ли это? – спросил Спартак, вздрогнув всем телом и бледнея от волнения.
– Правда, правда! Но только, повторяю тебе, не подавай вида, что ты это знаешь.
Спартак задумался. Через минуту Мирца сказала ему:
– Теперь я должна доложить Валерии, что ты пришел, и получить разрешение ввести тебя к ней.
Легкая, словно мотылек, Мирца исчезла, проскользнув в дверцу. Спартак, погруженный в свои мысли, не заметил ее ухода.
В первый раз рудиарий увидел Валерию полтора месяца назад: придя в дом Суллы навестить сестру, он столкнулся с ней в портике, когда она выходила к носилкам.
Бледное лицо, черные сияющие глаза и черные, как смоль, волосы Валерии произвели на Спартака очень сильное впечатление. Он почувствовал к ней странное, необъяснимое влечение, которому трудно было противиться; у него зародилось пламенное желание, мечта поцеловать хотя бы край туники этой женщины, которая казалась ему прекрасной, как Минерва, величественной, как Юнона, и обольстительной, как Венера.
Хотя знатность и высокое положение супруги Суллы обязывали ее к сдержанности в отношении человека, находящегося в таком унижении, как Спартак, – все же и у нее, с первого взгляда, как мы это видели, возникло такое же чувство, какое взволновало душу гладиатора, когда он впервые увидал Валерию.
На первых порах бедный фракиец пытался изгнать из своего сердца это новое для него чувство; рассудок подсказывал ему, что мысль о любви к Валерии ни с чем не сравнимое безумие, ибо на пути ее стоят непреоборимые препятствия. Но мысль об этой женщине возникала вновь и вновь, настойчиво, упорно, овладевала им среди всех забот и дел, возвращалась ежеминутно, волнуя и тревожа его; разгораясь все больше, она вскоре овладела всем его существом. Бывало так, что он, сам того не замечая, влекомый какой-то неведомой силой, оказывался за колонной в портике дома Суллы и ждал там появления Валерии. Не замеченный ею, он видел ее не раз и каждый раз находил ее все прекраснее, и с каждым днем все сильнее становилось его чувство к ней; он преклонялся перед ней, любил ее нежно, боготворил ее. Никому, даже самому себе, он не мог бы объяснить это чувство.
Один только раз Валерия заметила Спартака. И на миг бедному рудиарию показалось, что она взглянула на него благосклонно, ласково; ему почудилось даже, что ее взгляд светился любовью, но он тут же отбросил эту мысль, сочтя ее мечтой безумца, видением, вымыслом разгоряченной фантазии, – он понимал, что подобные мысли могут свести его с ума.
Вот что творилось в душе бедного гладиатора, и поэтому легко понять, какое впечатление произвели на него слова Мирцы.
«Я здесь, в доме Суллы, – думал несчастный, – всего лишь несколько шагов отделяют меня от этой женщины… Нет, не женщины, а богини, ради которой я готов пожертвовать жизнью, честью, кровью; я здесь и скоро буду близ нее, может быть наедине с нею, я услышу ее голос, увижу вблизи ее черты, ее глаза, улыбку…» Никогда он еще не видел улыбки Валерии, но, должно быть, улыбка у нее чудесная, как весеннее небо, и отражает ее величественное, возвышенное, божественное существо. Всего несколько мгновений отделяет его от беспредельного счастья, о котором он не только не мог мечтать, но которое даже во сне ему не снилось… Что случилось с ним? Быть может, он стал жертвой волшебной грезы, пылкого воображения влюбленного? А может быть, он сходит с ума? Или, к несчастью своему, уже лишился рассудка?
При этой мысли он вздрогнул, испуганно озираясь и широко раскрыв глаза, растерянно отыскивая сестру… Ее не было в комнате. Он поднес руки ко лбу, как будто хотел сдержать бешеное биение крови в висках, рассеять наваждение и еле слышно прошептал:
– О великие боги, спасите меня от безумия!
Он вновь огляделся вокруг и мало-помалу начал приходить в себя, узнавать место, где он находился.
Это была комнатка его сестры: в одном углу стояла ее узенькая кровать, две скамейки из позолоченного дерева у стены, чуть подальше деревянный шкаф с бронзовыми украшениями, на нем терракотовый масляный светильник, окрашенный в зеленый цвет, – он представлял собой ящерицу, изо рта которой высовывался горевший фитиль; дрожащий огонек рассеивал мрак в комнате.
Ошеломленный, почти в бреду, Спартак все еще был во власти той мысли, что все это либо снится ему, либо он сходит с ума. Он подошел к шкафу и, протянув левую руку, дотронулся указательным пальцем до фитиля светильника, и только когда пламя больно обожгло его, он пришел в себя и постепенно усилием воли усмирил волнение в крови.
Когда пришла Мирца и позвала его, чтобы проводить до конклава Валерии, он внешне был уже довольно спокоен и даже весел, хотя чувствовал, как колотится сердце. Мирца заметила, что он бледен, и заботливо спросила:
– Что с тобой, Спартак? Ты плохо чувствуешь себя?
– Нет, нет, напротив, никогда еще мне не было так хорошо! – ответил рудиарий, идя вслед за сестрой.
Они спустились по лесенке (рабы в римских домах всегда жили в верхнем этаже) и направились к конклаву, где их ждала Валерия.
Конклавом римской матроны называлась комната, в которой она уединялась для чтения или принимала близких друзей, вела интимные беседы. На современном языке мы бы назвали эту комнату кабинетом; естественно, что она примыкала к тем покоям, где жила хозяйка дома.
Конклав Валерии находился в ее зимних покоях (в патрицианских домах обычно было столько отдельных апартаментов, сколько времен года); это была небольшая уютная комната, в которой трубы из листового железа, искусно скрытые в складках роскошных занавесей из восточной ткани, распространяли приятное тепло, доставлявшее тем большее удовольствие, чем холоднее стояла погода. Стены были задрапированы красивым голубым шелком, причудливыми складками и фестонами спускавшимся с потолка почти до самого пола, а поверх была наброшена тонкая, словно облачко, белая вуаль; в изобилии разбросанные по ней свежие розы наполняли комнату нежным благоуханием.
С потолка свисал золотой чеканный светильник с тремя фитилями, в виде большой розы среди листьев, – произведение греческого мастера, поражавшее искусной работой. Разливая голубоватый матовый свет и тонкий запах аравийских благовоний, которые были смешаны с маслом, пропитывавшим фитили, светильник только наполовину рассеивал мрак в конклаве.
В этой комнате, убранной в восточном духе, не было другой мебели, кроме ложа с одной спинкой, на котором лежали мягкие пуховые подушки в чехлах из белого шелка с голубой каймой; там стояли еще скамьи, покрытые таким же шелком, и маленький серебряный комодик вышиной не более четырех пядей от земли, на каждом из четырех его ящиков были искусно выгравированы сцены четырех побед Суллы.
На комоде стоял сосуд из горного хрусталя с выпуклыми узорами и цветами ярко-пурпурного цвета, работы знаменитых аретинских мастерских; в нем был подогретый сладкий фруктовый напиток, часть которого была уже налита в фарфоровую чашку, стоявшую тут же. Эту чашку Валерия получила от Суллы в качестве свадебного подарка. Она представляла собою целое сокровище, ибо стоила не меньше тридцати или сорока миллионов сестерциев; такие чашки считались большой редкостью и высоко ценились в те времена.
В этом уединенном, спокойном и благоуханном уголке покоилась на ложе в тихий час ночи прекрасная Валерия, завернувшись в белую, тончайшей шерсти тунику с голубыми лентами. В полумраке блистали красотой ее плечи, достойные олимпийских богинь, округлые, словно выточенные из слоновой кости руки, белая полуобнаженная грудь, прикрытая волной черных, небрежно распущенных волос. Опираясь локтем на широкую подушку, она поддерживала голову маленькой, как у ребенка, белоснежной рукой.
Глаза ее были полузакрыты, лицо неподвижно, – казалось, она спала; в действительности же она так углубилась в свои думы и думы эти, верно, были такими сладостными, что она как будто находилась в забытьи и не заметила появления Спартака, когда рабыня ввела его в конклав. Она даже не пошевельнулась при легком стуке двери, которую Мирца отворила и тотчас же, выйдя из комнаты, затворила за собой
Лицо Спартака было белее паросского мрамора, а горящие глаза устремлены на красавицу; он замер, погруженный в благоговейное созерцание, вызывавшее в его душе неописуемое, доныне еще не испытанное им смятение.
Прошло несколько мгновений. И если бы Валерия не позабыла обо всем окружающем, она могла бы отчетливо услышать бурное, прерывистое дыхание рудиария. Вдруг она вздрогнула, словно кто-то позвал ее и шепнул, что Спартак здесь. Приподнявшись, она обратила к фракийцу свое прекрасное лицо, сразу покрывшееся румянцем, и, глубоко вздохнув, сказала нежным голосом:
– А… ты здесь?
Вся кровь бросилась в лицо Спартаку, когда он услышал этот голос; он сделал шаг к Валерии, приоткрыл рот, словно собираясь что-то сказать, но не мог вымолвить ни одного слова.
– Да покровительствуют тебе боги, доблестный Спартак! – с приветливой улыбкой произнесла Валерия, успев овладеть собой. – И… и… садись, – добавила она, указывая на скамью.
На этот раз Спартак, уже придя в себя, ответил ей, но еще слабым, дрожащим голосом:
– Боги покровительствуют мне больше, чем я того заслужил, божественная Валерия, раз они оказывают мне величайшую милость, какая только может осчастливить смертного: они дарят мне твое покровительство.
– Ты не только храбр, – ответила Валерия, и глаза ее засияли от радости, – ты еще и хорошо воспитан.
Затем она вдруг спросила его на греческом языке:
– До того, как ты попал в плен, ты был у себя на родине одним из вождей своего народа, не правда ли?
– Да, – ответил Спартак на том же языке; он говорил на нем, если не с аттической, то во всяком случае с александрийской изысканностью. – Я был вождем одного из самых сильных фракийских племен в Родопских горах. Был у меня и дом, и многочисленные стада овец и быков, и плодородные пастбища. Я был богат, могуществен, счастлив, и, поверь мне, божественная Валерия, я был полон любви к людям, справедлив, благочестив, добр…
Он на миг замолчал, а потом, глубоко вздохнув, сказал голосом, дрожавшим от сильного волнения:
– И тогда я не был варваром, не был презренным и несчастным гладиатором!
Валерии стало жаль его, в ее душе зашевелилось какое-то хорошее чувство, и, подняв на рудиария сияющие глаза, она сказала с нескрываемой нежностью:
– Мне много и часто рассказывала о тебе твоя милая Мирца; мне известна твоя необыкновенная отвага. И теперь, когда я говорю с тобой, мне совершенно ясно, что презренным ты не был никогда, а по уму, воспитанности и манерам ты более подобен греку, чем варвару.
Невозможно описать, какое впечатление произвели на Спартака эти слова, сказанные нежным голосом. Глаза его увлажнились, он ответил прерывающимся голосом:
– О, будь благословенна… за эти сочувственные слова, милосерднейшая из женщин… и пусть великие боги… окажут тебе предпочтение перед всеми людьми… как ты этого заслуживаешь, и сделают тебя самой счастливой из всех смертных!
Валерия не могла скрыть своего волнения, его выдавали ее выразительные глаза, частое и бурное дыхание, вздымавшее ее белую грудь.
Спартак был сам не свой; ему казалось, что он жертва каких-то чар, что он попал во власть какой-то фантасмагории, возникшей в его мозгу, и тем не менее он всей душой отдавался этому сладостному сновидению, этому колдовскому призраку счастья. Он смотрел на Валерию восторженным взглядом, полным смирения и обожания; он с жадностью слушал ее мелодичный голос, казавшийся ему гармоничными звуками арфы Аполлона, упивался ее горящим, страстным взором, сулившим, казалось, несказанные восторги любви и, хотя он не мог верить и не верил тому, что явно отражалось в ее глазах, считал все это лишь галлюцинацией, плодом разгоряченного воображения, – все же он не спускал влюбленных глаз, пылающих, как огненная лава, сияющих, как луч солнца, с дивных очей Валерии; сейчас в них был для него весь смысл жизни; все его чувства, все мысли принадлежали ей одной.
Вслед за последними словами Спартака наступила тишина, слышно было только дыхание Валерии и фракийца. Почти помимо их сознания, они были погружены в одни и те же мысли, от одних и тех же чувств трепетали их души; оба они были в смятении.
Валерия первая решила прервать опасное молчание и сказала Спартаку:
– Теперь ты совершенно свободен. Не хочешь ли управлять школой из шестидесяти рабов, из которых Сулла решил сделать гладиаторов? Он устроил эту школу у себя на вилле в Кумах.
– Я готов на все, что только ты пожелаешь, – ведь я раб твой и весь принадлежу тебе, – тихо сказал Спартак, глядя на Валерию с выражением беспредельной нежности и преданности.
Валерия молча посмотрела на него долгим взглядом, потом встала и, точно ее снедала какая-то тревога, прошлась несколько раз по комнате и, остановившись перед рудиарием, опять безмолвно устремила на него глаза, а затем очень тихо спросила:
– Спартак, скажи мне откровенно: что ты делал много дней назад, спрятавшись за колонной в портике моего дома?
Тайна Спартака уже перестала быть его сокровенной тайной. Валерия, верно, насмехается в глубине души над дерзостью какого-то гладиатора, поднявшего свой взор на одну из самых прекрасных и знатных римлянок.
Точно пламя разлилось по бледному лицу гладиатора, он опустил голову и ничего не ответил. Тщетно пытался он поднять глаза на Валерию и заговорить, – его удерживало чувство стыда.
И тут он почувствовал всю горечь своего незаслуженного позорного положения; он проклинал в душе войну и ненавистное могущество Рима; он стиснул зубы, дрожа от стыда, от горя и гнева.
Не зная, чем объяснить молчание Спартака, Валерия сделала шаг к нему и едва слышно, голосом, еще более нежным, чем прежде, спросила:
– Скажи мне… что ты там делал?
Рудиарий, не поднимая головы, упал перед Валерией на колени и прошептал:
– Прости, прости меня! Прикажи своему надсмотрщику сечь меня розгами… пускай распнут меня на Сестерцевом поле, я заслужил это!
– Что с тобой? Встань!.. – сказала Валерия, беря Спартака за руку и заставляя его подняться.
– Я боготворил тебя, как боготворят Венеру и Юнону! Клянусь тебе в этом.
– Ах! – радостно воскликнула матрона. – Ты приходил, чтобы увидеть меня?
– Чтобы поклоняться тебе. Прости меня, прости!..
– Встань, Спартак, благородное сердце! – сказала Валерия дрожащим от волнения голосом, с силой сжимая его руку.
– Нет, нет, здесь у твоих ног, здесь мое место, божественная Валерия!
И, схватив край ее туники, он горячо и страстно целовал его.
– Встань, встань, не тут твое место, – вся дрожа прошептала Валерия.
Спартак, покрывая жаркими поцелуями руки Валерии, поднялся и, глядя на нее влюбленными глазами, повторял точно в бреду глухим и еле слышным голосом:
– О дивная… дивная… дивная Валерия!..
Глава шестая
УГРОЗЫ, ЗАГОВОРЫ И ОПАСНОСТИ
Прекрасная куртизанка, гречанка Эвтибида, возлежала на пурпурных мягких подушках в зале для собеседования у себя в доме на Священной улице, близ храма Януса.
– Итак, – сказала она, – ты что-нибудь знаешь? Понял ты, в чем тут дело?
Собеседником ее был человек лет пятидесяти, с безбородым лицом, изрезанным морщинами, которые плохо скрывал густой слой румян и белил; по манере одеваться в нем тотчас же можно было признать актера. Эвтибида, не дождавшись ответа, добавила:
– Хочешь, я скажу, что я думаю о тебе, Метробий? Я никогда особенно высоко тебя не ценила, а сейчас вижу, что ты и вовсе ничего не стоишь.
– Клянусь маской Мома,[125]125
Мом – олицетворение злословия, сын ночи (миф.).
[Закрыть] моего покровителя! – ответил актер писклявым голосом. – Если бы ты, Эвтибида, не была прекраснее Дианы и обворожительней Венеры, даю тебе слово Метробия, близкого друга Корнелия Суллы, хранящего эту дружбу ни мало ни много тридцать лет, что я рассердился бы на тебя! Поговори со мной так кто-нибудь другой, и я, клянусь Геркулесом Победителем, повернулся бы и ушел, пожелав дерзкому приятного путешествия к берегам Стикса!
– Но что же ты сделал за это время? Что разузнал об их планах?
– Сейчас скажу… И много и ничего…
– Как это понять?
– Будь терпелива, и я все тебе объясню. Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что я, Метробий, старый актер, вот уже тридцать лет исполняющий женские роли во время народных празднеств, обладаю искусством обольщать людей. К тому же речь идет о варварах, невежественных рабах, о гладиаторах, несомненных варварах. Я, конечно, сумею добиться своей цели, тем более что располагаю необходимым для этого средством – золотом.
– Потому-то я и дала тебе это поручение, я не сомневалась в твоей ловкости, а ты…
– Но пойми, прелестнейшая Эвтибида, если моя ловкость должна была проявиться в раскрытии заговора гладиаторов, то тебе придется испытать ее на чем-нибудь другом и иным образом, ибо заговор гладиаторов никак нельзя раскрыть – его, попросту говоря, и в помине нет.
– Так ли? Ты в этом уверен?
– Уверен, совершенно уверен, о прекраснейшая из девушек.
– Два месяца назад… да, не больше двух месяцев, я имела сведения о том, что у гладиаторов заговор, что они объединились в какое-то тайное общество, у них был свой пароль, свои условные знаки, свои гимны, и кажется, они замышляли восстание, похожее на восстание рабов в Сицилии.
– И ты серьезно верила в возможность восстания гладиаторов?
– А почему бы и нет?.. Разве они не умеют сражаться, не умеют умирать?
– В амфитеатрах…
– Вот именно. Если они умеют сражаться и умирать на потеху толпы, то почему бы им не подняться и не повести борьбу не на жизнь, а на смерть за свою свободу?
– Ну что же, если ты утверждаешь, что это тебе было известно, значит, это правда… и действительно у них был заговор… но могу тебя заверить, что теперь у них никакого заговора нет.
– Ах, – произнесла с легким вздохом прекрасная гречанка, – я, кажется, знаю, по каким причинам; боюсь, что я угадываю их!
– Тем лучше! А я их не знаю и нисколько не стремлюсь узнать!
– Гладиаторы сговорились между собой и подняли бы восстание, если б римские патриции, недовольные существующими законами и сенатом, возглавили их борьбу и приняли командование над ними!
– Но так как римские патриции, как бы подлы они ни были, еще не такие низкие подлецы, чтобы стать во главе гладиаторов…
– А ведь был такой момент… Впрочем, довольно об этом. Скажи лучше, Метробий…
– Сперва удовлетвори мое любопытство, – сказал актер, – от кого ты узнала о заговоре гладиаторов?
– От одного гладиатора… моего соотечественника…
– Ты, Эвтибида, более могущественна на земле, чем Юпитер на небе. Одной ногой ты попираешь Олимп олигархов, а другой грязное болото черни…
– Что ж, я делаю, что могу, стараюсь добиться…
– Добиться чего?
– Власти, добиться власти! – воскликнула Эвтибида дрожащим от волнения голосом; она вскочила, лицо ее исказилось от гнева, глаза сверкали зловещим блеском, они были полны глубокой ненависти, отваги, решимости, которых никак нельзя было предположить в этой очаровательной, хрупкой девушке. – Я хочу добиться власти, стать богатой, могущественной, всем на зависть… – И шепотом, со страстной силой, она добавила: – Чтобы иметь возможность отомстить!
Метробий хотя и привык к самому разнообразному притворству на сцене, все же был поражен; открыв рот, он смотрел на искаженное лицо Эвтибиды; гречанка заметила это и, опомнившись, вдруг громко расхохоталась.
– Не правда ли, я недурно сыграла бы Медею? Может быть, не с таким успехом, как Галерия Эмболария, но все же… Ты от изумления обратился в столб, бедный Метробий. Хотя ты старый и опытный актер, а навсегда останешься на ролях женщин и мальчиков!..
И Эвтибида снова захохотала, приведя Метробия в полное замешательство.
– Чтобы добиться чего? – спросила через минуту куртизанка. – Чего добиться, старый, безмозглый чурбан?
Она щелкнула Метробия по носу и, не переставая смеяться, сказала:
– Добиться того, чтобы стать богатой, как Никопола, любовница Суллы, как Флора, старая куртизанка, которая по уши влюблена в Гнея Помпея и даже серьезно заболела, когда он ее бросил. Со мной-то таких болезней никогда не случится, клянусь Венерой Пафосской! Стать богатой, очень богатой, понимаешь ты это, старый дуралей, для того, чтобы наслаждаться всеми радостями, всеми удовольствиями жизни, потому что, когда жизнь кончится, – всему конец, небытие, как учит божественный Эпикур. Ты понял, ради чего я пользуюсь всем своим искусством, всеми средствами обольщения, которыми меня наделила природа? Ради чего стараюсь одной ногой стоять на Олимпе, а другой в грязи, и…
– Но грязь ведь может замарать?
– Всегда можно отмыть ее. Разве в Риме мало бань и душей? Разве в моем доме нет ванны? Но великие боги! Подумать только, кто смеет читать мне трактат о морали! Человек, который всю свою жизнь провел в болоте самой постыдной мерзости, в самой гадкой грязи!
– Ну, перестань! К чему рисовать такими живыми красками мой портрет; ты рискуешь сделать его настолько похожим, что люди будут удирать сломя голову, завидев такую грязную личность. Ведь «я говорил шутя. Моя мораль у меня в пятках, на что мне она?
Метробий приблизился к Эвтибиде и, целуя ее руку, проговорил:
– Божественная, когда же я получу награду от тебя? Когда?
– Награду? За что давать тебе награду, старый сатир? – сказала Эвтибида, отнимая руку и опять дав Метробию щелчок. – А ты узнал, что задумали гладиаторы?
– Но, прекраснейшая Эвтибида, – жалобно хныкал старик, следуя за гречанкой, которая ходила взад и вперед по зале, – мог ли я открыть то, что не существует? Мог ли я, любовь моя, мог ли я?
– Ну, хорошо, – сказала куртизанка и, повернувшись, бросила на него ласковый взгляд, сопровождаемый нежной улыбкой, – если ты хочешь заслужить мою благодарность, хочешь, чтобы я доказала тебе мою признательность…
– Приказывай, приказывай, божественная…
– Тогда продолжай следить за ними. Я не уверена в том, что гладиаторы окончательно бросили мысль о восстании.
– Буду следить в Кумах, съезжу в Капую…
– Если хочешь что-нибудь узнать, больше всего следи за Спартаком!
И, произнеся это имя, Эвтибида покраснела.
– О, что касается Спартака, вот уже месяц как я хожу за ним по пятам, – не только ради тебя, но и ради самого себя; вернее, ради Суллы.
– Как? Почему? Что ты? – с любопытством спросила куртизанка, подойдя к Метробию.
Озираясь вокруг, как будто боясь, что его услышат, Метробий приложил указательный палец к губам, а потом вполголоса сказал Эвтибиде:
– Это мое подозрение… моя тайна. Но так как я могу и ошибиться, а дело касается Суллы… то я об этом не стану говорить ни с одним человеком на свете, пока не буду убежден, что мои предположения правильны.
По лицу Эвтибиды пробежала тень тревоги, которая была непонятна Метробию. Как только куртизанка услышала, что он ни за что не хочет открыть ей свой секрет, она загорелась желанием все узнать. Кроме таинственных причин, побуждавших гречанку допытываться, в чем тут было дело, ее, возможно, подстрекало женское любопытство, а может быть, и желание посмотреть, насколько велика власть ее очарованья даже над этим старым развратником.
– Может быть, Спартак покушается на жизнь Суллы?
– Да что ты! Что тебе вздумалось!
– Так в чем же дело?
– Не могу тебе сказать… потом, когда-нибудь…
– Неужели ты не расскажешь мне, мой дорогой, милый Метробий? – упрашивала Эвтибида, взяв актера за руку и тихонько поглаживая своей нежной ладонью его увядшее лицо. – Разве ты сомневаешься во мне? Разве ты еще не убедился, как я серьезна и как отличаюсь от всех других женщин?.. Ты ведь не раз говорил, что я могла бы считаться восьмым мудрецом Греции. Клянусь тебе Аполлоном Дельфийским, моим покровителем, что никто никогда не узнает того, что ты мне расскажешь! Ну, говори же, скажи своей Эвтибиде, добрый мой Метробий. Моя благодарность будет беспредельной.
Она кокетничала и ласкала старика, дарила его нежными улыбками и чарующими взглядами и вскоре, подчинив его своей воле, добилась своего.
– От тебя, видно, не отделаешься, пока ты не поставишь на своем, – сказал Метробий. – Так вот, знай! Я подозреваю, – и у меня на это есть основания, – что Спартак влюблен в Валерию, а она в него.
– О, клянусь факелами эриний! – вскричала молодая женщина, страшно побледнев и яростно сжимая кулаки. – Возможно ли?
– Меня все убеждает в этом, хотя доказательств у меня нет… Но помни, никому ни слова!..
– Ах, – воскликнула Эвтибида, вдруг став задумчивой и будто говоря сама с собой. – Ах… вот почему. Да, иначе и быть не могло!.. Только другая женщина… Другая!.. Другая!.. – воскликнула она в ярости. – Значит… она превзошла меня красотой… Ах, я несчастная, безумная женщина!.. Значит, есть другая… она тебя победила!..
И, закрыв лицо руками, куртизанка зарыдала.
Легко себе представить, как был поражен Метробий этими слезами и нечаянно вырвавшимся у Эвтибиды признанием.
Эвтибида, красавица Эвтибида, по которой вздыхали самые знатные и богатые патриции, Эвтибида, никого никогда не любившая, теперь сама до безумия увлеклась храбрым гладиатором; женщина, привыкшая презирать всех своих многочисленных поклонников из римской знати, оказалась теперь отвергнутой простым рудиарием!
К чести Метробия надо сказать, что он от души пожалел бедную гречанку; он подошел к ней, попытался утешить и, лаская ее, говорил:
– Но… может быть, это и не правда… я мог ошибиться… может, это мне только так показалось…
– Нет, нет, ты не ошибся! Тебе не показалось… Это правда, правда! Я знаю, я это чувствую, – ответила Эвтибида, утирая горькие слезы краем своего пурпурового паллия.
А через минуту она добавила мрачным и твердым тоном:
– Хорошо, что я об этом знаю… хорошо, что ты мне это открыл.
– Да, но умоляю… не выдай меня…
– Не бойся, Метробий, не бойся. Напротив, я тебя отблагодарю, как смогу; и если ты поможешь мне довести до конца то, что я задумала, ты на деле увидишь, как Эвтибида умеет быть благодарной.
И после минутного раздумья она сказала прерывающимся голосом:
– Слушай, поезжай в Кумы… Только отправляйся немедленно, сегодня же, сейчас же… Следи за каждым их шагом, каждым словом, вздохом… раздобудь улики, и мы отомстим и за честь Суллы и за мою женскую гордость!
Дрожа от волнения, девушка вышла из комнаты, бросив на ходу ошеломленному Метробию:
– Подожди минутку, я сейчас вернусь.
Она действительно тотчас же вернулась, принесла с собой толстую тяжелую кожаную сумку и, протянув ее Метробию, сказала:
– На, возьми. Здесь тысяча аурей. Подкупай рабов, рабынь, но привези мне улики, слышишь? Если тебе понадобятся еще деньги…
– У меня есть…
– Хорошо, трать их не жалея, я возмещу тебе… Но поезжай… сегодня же… не задерживаясь в дороге… И возвращайся… как можно скорее… с уликами!
И, говоря это, она выталкивала беднягу из комнаты, торопя с отъездом; она проводила его по коридору мимо гостиной, мимо алтаря домашним ларам, потом мимо бассейна для дождевой воды, устроенного во дворе, провела через атрий в переднюю до самой входной двери и сказала рабу-привратнику:
– Видишь, Гермоген, этого человека?.. Когда бы он ни пришел… в любой час, веди его немедленно ко мне.
Еще раз простившись с Метробием, она вернулась к себе, закрылась в своей комнате и долго ходила взад и вперед, то замедляя, то ускоряя шаги. Тысячи желаний теснились в душе, тысячи надежд и планов рождались в воспаленном мозгу, сознание ее то затуманивалось, то вдруг озарялось мрачным светом, и в чувствах, отражавшихся в ее глазах, не было ничего человеческого, а только лютая, звериная ярость.
Наконец она бросилась на ложе и, зарыдав, произнесла вполголоса, кусая белыми зубами свои руки:
– О, эвмениды! Дайте мне отомстить… я воздвигну вам великолепный алтарь!.. Мести, мести я жажду!.. Мести!..
Чтобы понять этот безумный гнев красавицы Эвтибиды, нам придется вернуться назад. Мы кратко расскажем читателям, какие события произошли в течение двух месяцев с того дня, как Валерия, побежденная страстью к Спартаку, отдалась ему.
У гладиатора был мужественный облик, удивительной красоты сложение и, как помнят читатели, необыкновенно привлекательное лицо, освещенное милой улыбкой, когда гнев не искажал его черты; оно носило отпечаток доброты, кротости, силы чувств, отражавшихся в больших синих глазах. Не удивительно, что он зажег в сердце Валерии страсть такую же глубокую и сильную, как и та, что завладела его душой. Вскоре знатная римлянка, открывавшая в возлюбленном все новые и новые качества, новые достоинства, всецело была покорена им, и не только безмерно полюбила его, но и уважала, почитала его, – так несколько месяцев тому назад ей казалось, что будет если не любить, то хотя бы уважать и почитать Луция Корнелия Суллу.
Мнил ли себя Спартак счастливым или действительно был счастлив – это легче понять, чем описать. Впервые познав упоительные восторги любви, он был переполнен своим счастьем, поглощен им и, как все счастливые любовники, стал эгоистом: он забыл о цепях, которые еще так недавно сковывали его, забыл святое дело свободы, о котором так долго мечтал и которое поклялся довести до конца. Да, он забыл обо всем, потому что был всего лишь человеком, и страстная любовь усыпила в нем все другие чувства, так же как страсть одурманила бы Помпея, и Красса, и Цицерона.








