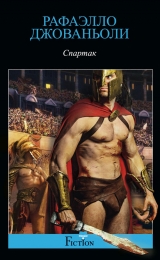
Текст книги "Спартак"
Автор книги: Рафаэлло (Рафаэло) Джованьоли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
За фламинами шли двенадцать салиев[147]147
Салии – коллегия жрецов Марса, основанная в глубокой древности; их одежда состояла из пестрой туники с шлемообразным колпаком на голове; вооружение – из меча, копья и продолговатого щита. В марте месяце они устраивали торжественные шествия в честь Марса с пением старинных священных песен и плясками («салии» значит «плясуны»); каждый день праздник заканчивался роскошным пиршеством.
[Закрыть] – жрецов «Марса, шествующего в бой», в расшитых туниках, стянутых в талии широким военным бронзовым поясом, поверх была накинута роскошная пурпуровая трабея,[148]148
Трабея – парадная одежда: белый плащ с пурпурными полосами.
[Закрыть] на левом боку висел меч, в левой руке они держали щит, в правой – железный жезл; время от времени они ударяли им по священным щитам, которые несли на шесте их служители.
Позади салиев шли гаруспики – гадатели по внутренностям животных; фециалы – жрецы, объявляющие войну и заключающие мир; арвалы[149]149
Арвалы – «арвальские (пашенные) братья» – коллегия из двенадцати жрецов, которые в середине мая совершали обход городской черты Рима, вознося моления богам об обильном урожае.
[Закрыть] – жрецы богини Цереры; гадатели по внутренностям жертвы, которые несли ножи из слоновой кости – символ их действия во время жертвоприношения; благородная, высокочтимая коллегия целомудренных, непорочных весталок в коротких льняных туниках, поверх которых была надета стола, и в белых покрывалах с пурпуровой каймой, спускавшихся с головы вдоль плеч, а надо лбом белая повязка, придерживающая собранные на затылке волосы.
За весталками следовало семь жрецов-эпулонов, приготовлявших жертвенные пиршества для двенадцати богов Согласия. В честь этих богов, как во время всенародных празднеств, так и в дни общественных бедствий устраивались роскошные пиры. Изысканные кушанья пожирались потом, как об этом легко догадаться, самими жрецами, так как своими мраморными челюстями статуи двенадцати богов Согласия вряд ли могли жевать пищу.
Затем следовали децемвиры сивиллиных книг и тридцать курионов – служителей культа, избранных по одному от каждой из тридцати курий. Кортеж жрецов замыкали двенадцать понтификов, блиставших пышностью своих латиклавий, во главе с верховным жрецом. Позади жрецов шел сенат, всадники, матроны, самые знатные патрицианки и горожанки, бесчисленная толпа граждан, а за ними следовали слуги и рабы покойного; они вели его боевого коня, а также других его любимых коней и собак, которых полагалось принести в жертву во время сожжения останков.
В конце кортежа шли легионы, сражавшиеся под началом Суллы, – войско весьма внушительное, соблюдавшее строгий порядок и дисциплину. Это было приятное и вместе с тем устрашающее зрелище для бесконечного количества плебеев, заполнявших все улицы, по которым двигалась похоронная процессия; большинство из них были исполнены злобы и ненависти.
Миновав Капенские ворота, шествие проследовало по длинной и широкой улице того же названия, свернуло на улицу, ведущую к храму Юпитера Статора, и по Священной улице, пройдя арку, воздвигнутую в честь Фабия, победителя аллоброгов, вступило на Форум, где в курии, как раз напротив ростральной трибуны, был установлен саркофаг Суллы.
Сенат первым разразился горестными воплями, затем всадники, потом войско и последним – народ. Так как Фавст не достиг еще зрелого возраста, не был облачен в тогу мужа и, согласно обычаю, не мог поэтому произнести похвальное надгробное слово, то первым говорил Публий Сервилий Ватий Исаврийский, потом консул Катулл, а последним – Помпей Великий. Все они вспоминали доблесть и высокие деяния усопшего и говорили о нем только самое похвальное, под аккомпанемент плача и стенаний всех тех, кто по какой-либо причине при жизни Суллы был сторонником его самого и партии олигархов и опасался теперь, что после смерти диктатора эта партия вскоре придет в упадок.
Затем в прежнем порядке кортеж двинулся дальше, к Марсову полю: пройдя через Мамертинский переулок, вышел на Ратуменскую улицу, а затем по широкой и нескончаемой улице Лата, вдоль которой были специально воздвигнуты арки, увитые гирляндами из ветвей мирта и кипарисов, дошел до середины обширного Марсова поля, где и должно было произойти сожжение останков Суллы.
Все было уже приготовлено для погребальной церемонии. Носилки опустили рядом с костром. Подошла Валерия, закрыла покойнику глаза и, согласно обычаю, вложила ему в рот медную монету, которой он должен был уплатить Харону за перевоз через волны Ахеронта; затем вдова поцеловала умершего в губы и, по обычаю, произнесла: «Прощай! В порядке, предначертанном природой, и мы все последуем за тобой». Музыканты заиграли печальные мелодии, и под их звуки виктимарии принесли в жертву множество животных, кровь которых, смешанную с молоком, медом и вином, разбрызгали по земле вокруг костра.
После всего этого провожавшие начали лить в костер благовонные масла, бросать различные ароматические вещества, неисчислимое количество венков из цветов и лавров, так что они покрыли весь костер и легли широким слоем вокруг него.
И тогда начался бой гладиаторов из школы Суллы; не участвовал в нем лишь один Арторикс: по просьбе Спартака Валерия приказала ему остаться в Кумах. Очень скоро все гладиаторы пали мертвыми, так как в погребальных сражениях нельзя было даровать жизнь ни одному из этих несчастных.
Когда погребальные обряды были закончены, Помпей Великий взял факел из рук либитинария и, чтобы воздать наивысшую почесть умершему другу, сам пожелал поджечь погребальный костер, на котором покоились останки Суллы, завернутые в асбестовую простыню, не поддающуюся действию огня.
Гул громких рукоплесканий прокатился по всему Марсову полю в ответ на эту дань уважения покойному, принесенную молодым триумфатором, покорителем Африки. Пламя вспыхнуло в одно мгновенье и, быстро распространившись, охватило костер извивающимися огненными языками, окутав его облаком густого благовонного дыма.
Полчаса спустя от тела того, кто на протяжении стольких лет приводил в трепет весь Рим и Италию и чье имя прогремело по всему миру, осталась только кучка костей и пепла. С горестными слезами и причитаниями плакальщицы тщательно собрали их и сложили в бронзовую урну с богатыми чеканными украшениями и чудесными инкрустациями.
Урна с прахом была временно установлена в храме, который Сулла несколько лет тому назад велел построить в том самом месте близ Эсквилинских ворот, где он победил сторонников Гая Мария. Он посвятил этот храм Геркулесу Победителю. Урна должна была находиться там впредь до перенесения ее в роскошную гробницу, сооруженную, согласно декрету сената, на государственный счет, в том месте Марсова поля, где был погребальный костер.
Пока плакальщицы собирали в урну прах Суллы, виктимарии набрали двести двадцать корзин ароматических веществ, оставшихся от огромного количества благовоний, принесенных женщинами на Марсово поле; и в память бывшего диктатора вылепили из душистых смол и воска две статуи: одна изображала Суллу, другая – ликтора.
Спартак как ланиста, находившийся на службе у Суллы, тоже должен был надеть серую тунику и серый плащ, чтобы участвовать в шествии и присутствовать при сражении гладиаторов. С трудом сдерживая негодование, смотрел он, как убивали друг друга его ученики, которых он не только обучил искусству фехтования, но и посвятил в тайны Союза угнетенных. Когда закончилась церемония похорон, он вздохнул с облегчением: теперь он мог идти, куда ему заблагорассудится. Пользуясь своей геркулесовой силой, он пробился сквозь толпу и двинулся прочь от Марсова поля. Это стоило ему немалого труда, так как на похоронах присутствовали сотни тысяч людей; словно волны морские, они шумели, ревели, вливались в улицу Лата и двигались к городу.
Солнце зашло, уже наступили сумерки, и над вечным городом спускалась ночь, но на горизонте еще горели огнем багровые, точно раскаленные, облака, похожие на зарево чудовищного пожара, охватившего вершины холмов, обступивших Рим.
Многотысячная толпа двигалась медленно более плотными рядами, чем воинский легион, шествовавший сомкнутым строем, и в гуще ее слышались самые разнообразные толки и отзывы о торжественных похоронах и о самом Сулле, которого почтили такими похоронами.
По сравнению с остальными Спартак шел очень быстро и на каждом шагу оказывался рядом с новыми людьми, слышал все время самые противоречивые мнения по поводу событий, занимавших все умы в этот день.
– Как тебе кажется, долго простоит урна с его прахом в храме Геркулеса Победителя?
– Надеюсь, что, к чести Рима и народа нашего, разгневанная толпа вскоре разобьет вдребезги эту урну, а прах развеет по ветру.
– Наоборот, будем надеяться, что для блага Рима таких, как вы, головорезов-марианцев, скоро передушат в Туллиане.
А в другом месте слышался такой разговор:
– Говорил я тебе – несчастный Рим, все мы несчастные! Торе нам! При жизни Суллы, даже в его отсутствие, никто не смел и помыслить о переменах.
– Зато теперь… Да не допустит этого Юпитер!.. Несчастные законы!..
– Законы? Какие законы?.. Послушай-ка, Вентудей, вот этот называет законами надругательство Суллы над всеми человеческими правами и повелениями богов!..
– Законы? Кто говорит о законах? А знаете ли вы, что такое закон?.. Паутина! В ее тенетах запутывается мошка, а осы разрывают их.
– Верно, Вентудей!
– Браво, Вентудей.
– Клянусь кузницей Вулкана! Я спрашиваю: если тому, кто ежедневно осквернял и грязнил свое имя, оказывают царские почести, что же будет, если вдруг завтра – да убережет нас от этого Юпитер! – умрет Помпей Великий?
– Послушай, как этот кузнец корчит из себя перипатетика!..
– Да он за Мария, этот поклонник Вулкана…
– Ну, а знаешь ли ты, что произошло бы, если б умер Помпей?
– Его сбросили бы с Гемоний.
– И правильно поступили бы!..
– Зачем же нас учат быть добродетельными и честными, если только пороку обеспечено богатство и могущество в жизни, а после смерти – обожествление?
– Ты прав! Добродетель пусть отправляется в непотребный дом, там ей место!
– Справедливость надо сбросить с Тарпейской скалы!
– К старьевщику всю эту ветошь!
– В пропасть все эти достоинства и могущество!
– Да здравствует Сулла!
– Да здравствует свобода, сестра палача!
– Да здравствуют во веки веков незыблемые Законы двенадцати таблиц! Они теперь стали похожи на плащ Диогена: патрицианские мечи понаделали в них столько дыр, что теперь уж ничего не разберешь на этих скрижалях!
– Хороши законы! Понимай их и толкуй как кому вздумается, – не уступишь любому законоведу!
Остроты и злые насмешки, словно туча дротиков, непрерывно сыпались на олигархов. Спартак все время слышал их, пока не дошел до Ратуменских ворот, где столпились провожавшие; когда кортеж спускался к Марсову полю, они были в хвосте, а теперь, по возвращении в город, оказались впереди. В большинстве своем это были плебеи, пришедшие на похороны из любопытства. Они ненавидели Суллу.
Усердно работая локтями, Спартак одним из первых очутился у крепостного вала и вошел через заставу в город. Рим как будто вымер – так безлюдны, пустынны были улицы, обычно очень оживленные в этот час. Спартак быстро дошел до гладиаторской школы Юлия Рабеция, где он назначил свидание Криксу, с которым увиделся мельком утром за Капенскими воротами.
Беседа между двумя рудиариями была задушевная, долгая и очень оживленная. Крикс, так же как и Спартак, возмущался убийством гладиаторов у костра Суллы; фракиец все еще не мог прийти в себя от этой бойни, на которой присутствовал поневоле.
Крикс торопил Спартака принять предложение Лентула Батиата и ехать в Капую, в его школу, для того чтобы в возможно более короткий срок завербовать как можно больше приверженцев их делу.
– Теперь успех нашего замысла, – заметил галл в заключение своей грубоватой, но горячей речи, – всецело зависит от тебя: все в твоих руках, Спартак; если душа твоя полна другим чувством, более сильным, чем желание освободить рабов, то вся надежда увидеть торжество нашего великого дела для нас погибнет навсегда.
При этих словах Спартак побледнел и, глубоко вздохнув, сказал:
– Каким бы сильным чувством ни была полна моя душа, Крикс, ничто, слышишь ты, ничто в мире не отвлечет меня от служения великому делу. Ничто, даже на мгновение, не заставит меня свернуть с пути, избранного мною, ничто и никто не заставит меня отказаться от моих намерений!
Они еще долго беседовали друг с другом. Договорившись обо всем, Спартак простился с ним и, выйдя из школы Юлия Рабеция, направился к дому наследников Суллы, быстро шагая по улицам, которые уже заполняла толпа людей, возвращавшихся с похорон.
Спартак переступил порог дома, остиарий сказал ему, что Мирца с нетерпением ждет его в комнате рядом с конклавом, куда вдова Суллы уединилась от непрошеных взглядов и назойливых соболезнований.
Сердце Спартака забилось, словно от предчувствия какого-то несчастья; он побежал в апартаменты Валерии и встретил там свою сестру, которая, завидев его, воскликнула:
– Наконец-то! Госпожа ожидает тебя уже больше часа!
Она доложила о нем Валерии и по ее приказу ввела Спартака в конклав.
Валерия, очень бледная, унылая, в темной столе и серой вуали, была особенно прекрасна.
– Спартак!.. Спартак мой!.. – произнесла она, вставая с ложа и сделав несколько шагов к нему. – Любишь ли ты меня? Все ли еще ты любишь меня больше всего на свете?
Спартак, поглощенный иными, мучительными мыслями, которые в последние дни тревожили его, раздираемый борьбой противоречивых чувств, был поражен этим неожиданным вопросом и ответил не сразу.
– Почему, Валерия, ты спрашиваешь меня? Я чем-нибудь огорчил тебя? Дал тебе повод усомниться в моей нежности, в моем благоговении, в моей преданности тебе? Ведь ты заменила мне мать, которой больше нет в живых, мою несчастную жену, погибшую в неволе под плетью надсмотрщика. Ты мне дороже всего в мире. Ты единственная любовь моя; в моем сердце я воздвиг тебе алтарь.
– Ах! – радостно воскликнула Валерия, и глаза ее засияли. – Вот так я всегда мечтала быть любимой. Так долго и тщетно мечтала. И это правда? Спартак, ты любишь меня так, как говоришь? Но всегда ли ты будешь меня любить?
– Да, да! Всегда! – произнес он дрожащим от волнения голосом. Потом, опустившись на колени, он сжал руки Валерии в своих руках и, покрывая их поцелуями, говорил: – Всегда буду поклоняться тебе, моя богиня, если даже, когда даже…
Он больше не мог произнести ни слова и разрыдался.
– Что с тобой? Что случилось? Почему ты плачешь?.. Спартак… скажи мне… скажи мне, – прерывающимся от тревоги голосом повторяла Валерия, всматриваясь в глаза рудиария, и целовала его в лоб, прижимала к своему сердцу.
В эту минуту кто-то тихо постучал в дверь.
– Встань, – шепнула ему Валерия; и, подавив, насколько могла, свое волнение и придав твердость голосу, спросила: – Что тебе, Мирца?
– Пришел Гортензий, он спрашивает тебя, – ответила за дверью рабыня.
– Уже? – воскликнула Валерия и тут же прибавила: – Пусть подождет минутку, попроси его подождать немного…
– Хорошо, госпожа…
Валерия прислушалась и, как только затихли шаги Мирцы, торопливо произнесла:
– Вот он уже пришел… поэтому-то я так тревожилась, ожидая тебя… поэтому я и спросила, готов ли ты всем пожертвовать ради меня… Ведь ему… Гортензию… все известно… Он знает, что мы любим друг друга…
– Не может быть!.. Как же?.. Откуда?.. – взволнованно воскликнул Спартак.
– Молчи!.. Я ничего не знаю… Сегодня он обронил только несколько слов об этом… обещал прийти вечером… Спрячься… здесь… в этой комнате, – указала Валерия, приподняв занавес на одной из дверей, – тебя никто не увидит, а ты все услышишь… и тогда ты узнаешь, как любит тебя Валерия.
Спрятав рудиария в соседней комнате, она прибавила шепотом:
– Что бы ни случилось – ни слова, ни движения. Слышишь? Не выдай себя, пока я не позову.
Опустив портьеру, она приложила обе руки к сердцу, как будто хотела заглушить его биение, и села на ложе; минуту спустя, овладев собою, она непринужденно и спокойно, своим обычным голосом позвала рабыню:
– Мирца!
Девушка показалась на пороге.
– Я велела тебе, – обратилась к ней матрона, – передать Гортензию, что я одна в своем конклаве. Ты это исполнила?
– Я все передала, как ты приказала.
– Хорошо, позови его.
Через минуту знаменитый оратор с небритой пятнадцать дней бородой, в серой тунике и темного цвета тоге, нахмурив брови, важно вошел в конклав своей сестры.
– Привет тебе, милый Гортензий, – сказала Валерия.
– Привет тебе, сестра, – ответил Гортензий с явным неудовольствием. И, оборвав свою речь, он надолго погрузился в унылое молчание.
– Садись и не гневайся, дорогой брат, говори со мной искренне и откровенно.
– Меня постигло огромное горе – смерть нашего любимого Суллы, но, видимо, этого было мало, – на меня обрушилось еще другое, неожиданное, незаслуженное несчастье: мне пришлось узнать, что дочь моей матери, забыв уважение к себе самой, к роду Мессала, к брачному ложу Суллы, покрыла себя позором, вступив в постыдную связь с презренным гладиатором. О Валерия, сестра моя!.. Что ты наделала!..
– Ты порицаешь меня, Гортензий, и слова твои очень обидны. Но прежде чем защищаться, я хочу спросить тебя, – ибо имею право это знать, – откуда исходит обвинение?
Гортензий поднял голову, потер лоб рукой и отрывисто ответил:
– Из многих мест… Через шесть или семь дней после смерти Суллы Хрисогон передал мне вот это письмо.
Гортензий подал Валерии измятый папирус. Она тотчас развернула его и прочла:
«Луцию Корнелию Сулле,
Императору, Диктатору, Счастливому, Любимцу Венеры, дружеский привет.
Теперь вместо обычных слов: «Берегись собаки!» – ты мог бы написать на двери твоего дома: «Берегись змеи!», вернее: «Берегись змей!» – так как не одна, а две змеи устроили себе гнездо под твоей крышей: Валерия и Спартак.
Не поддавайся первому порыву гнева, проследи за ними, и в ночное время, в час пения петухов, ты убедишься в том, что твое имя оскверняют, твое брачное ложе позорят, издеваются над самым могущественным в мире человеком, внушающим всем страх и трепет.
Да сохранят тебя боги на долгие годы, и избавят от подобных несчастий».
Вся кровь бросилась в лицо Валерии при первых же строчках письма; когда же она прочла его до конца, восковая бледность разлилась по ее лицу.
– От кого Хрисогон получил это письмо? – спросила она глухим голосом и стиснула зубы.
– К сожалению, он никак не мог вспомнить, кто ему передал это письмо и от кого оно было. Помнит только, что раб, доставивший письмо, прибыл в Кумы через несколько минут после смерти Суллы. Хрисогон был тогда в таком отчаянии и так взволнован, что, получив письмо, машинально взял его, и только через шесть дней оно оказалось у него в руках. Он решительно не помнит, как и от кого получил письмо.
– Я не стану убеждать тебя, – после минутного молчания спокойно сказала Валерия, – что безыменный донос не доказательство и на основании его ты, Гортензий, брат мой, не можешь обвинять меня, Валерию Мессала, вдову Суллы…
– Есть еще иное доказательство: Метробий, безутешно горюя о смерти своего друга и считая священным долгом отомстить за поруганную его честь, через десять или двенадцать дней после смерти Луция пришел ко мне и рассказал о твоей связи со Спартаком. Он привел рабыню, которая спрятала Метробия в комнате, смежной с твоим конклавом во дворце в Кумах, и там Метробий собственными своими глазами видел, как Спартак входил к тебе поздно ночью.
– Довольно, довольно! – вскрикнула Валерия, меняясь в лице при мысли, что ее поцелуи, слова, тайна ее любви стали известны презренной рабыне и такому жалкому существу, как Метробий. – Довольно, Гортензий! И так как ты уже высказал свое порицание, то теперь выслушай, буду говорить я.
Она встала, скрестила руки на груди и, глядя сверкающими глазами на брата, гордо подняв голову, сказала:
– Да, я люблю Спартака, ну и что же? Да, люблю, люблю его страстно!.. Ну, и что же?
– О великие боги, великие боги! – воскликнул совсем растерявшийся Гортензий и, вскочив, схватился в отчаянии за голову.
– Оставь в покое богов, они тебя не слышат. Лучше выслушай то, что буду говорить я.
– Говори…
– Да, я любила, люблю и буду любить Спартака.
– Валерия, замолчи! – прервал ее Гортензий, гневно глядя на нее.
– Да, люблю, люблю его и буду вечно любить, – настойчиво и вызывающе повторяла Валерия. – И я спрашиваю тебя: что ж из этого?
– Да защитит тебя Юпитер, мне просто страшно за тебя, Валерия, ты совсем обезумела!..
– Нет, я всего лишь женщина, которая решилась нарушить и нарушит ваши деспотические законы, отбросит все ваши бессмысленные предрассудки, сорвет все нестерпимые золотые цепи, в которые вы, победители мира, заковали женщин! Вот чего я хочу и уверяю тебя, брат мой, что стремление к этому вовсе не свидетельствует о потере разума, о помрачении рассудка, а может быть, как раз наоборот: это признак просветления разума. Ах, так, значит, меня обвиняет Метробий – Метробий, этот мерзкий шут и паяц, настолько подлый и порочный, что вызывает ревность у всех женщин, чьи мужья встречаются с ним? Он меня обвиняет! Воистину изумительно! Я не понимаю, как ты, Гортензий, придавая такой вес обвинениям Метробия, не предложишь сенату избрать его цензором нравов. Он был бы цензором, вполне достойным римских нравов. Метробий, охраняющий целомудренных весталок! Волк, сопровождающий ягнят на пастбище! Только этого не достает вашему гнусному Риму, где Сулле, осквернившему город убийствами, воздвигают статуи и храмы и где под сенью Законов двенадцати таблиц ему было дозволено на моих глазах, рядом с моими покоями проводить все ночи в безобразных оргиях. О законы нашего отечества! Как вы справедливы и как широко можно вас толковать!.. Эти законы мне тоже кое-что разрешали: мне предоставлялось право оставаться спокойной свидетельницей всего происходящего и даже проливать слезы, но тайком, в подушки вдовьего ложа, и, наконец, право быть отвергнутой в любой день по той единственной причине, что я не дала наследника своему господину и повелителю!
Лицо Валерии горело от возбуждения, она говорила с возрастающим жаром и, наконец, умолкнув на минуту, повернулась к Гортензию, изумленно смотревшему на нее широко раскрытыми, неподвижными глазами. Затем она продолжала:
– Да, конечно, перед лицом таких законов я нарушила свой долг… Я знаю… признаю это… Но я не собираюсь ни защищаться, ни просить прощения: я нарушила свой долг тем, что не имела мужества уйти из дома Суллы со Спартаком. Я не могу считать себя преступной за то, что полюбила этого человека, я горжусь моей любовью. У него благородное и великодушное сердце и ум, достойный великих дел; если бы он победил во Фракии римские легионы, им восхищались бы больше, чем Суллой и Марием, боялись бы больше Ганнибала и Митридата!.. Но он был побежден, и вы сделали из него гладиатора, потому что вы в течение многих веков привыкли обращаться с побежденными народами по правилу «горе побежденным», которое когда-то галлы применили по отношению к вам. Вы считаете, что боги создали людей для вашей забавы. И только потому, что вы сделали из Спартака гладиатора, потому, что вы так назвали его, вы думаете, что изменили его природу. Напрасно вы полагаете, что достаточно вашего повеления, чтобы вселить отвагу и смелость в душу труса и разум в голову безумца, а человека с высокой душой и умом обратить в безмозглого барана!..
– Итак, ты восстаешь против законов нашей родины, против наших обычаев, против всякой благопристойности и приличия? – изумленно и грустно спросил великий оратор.
– Да, да, да… Восстаю, восстаю… отказываюсь от римского гражданства, от своего имени, от своего рода… Я ничего ни от кого не требую… Уеду жить на уединенную виллу, в какую-нибудь далекую провинцию, или же во Фракию, в Родопские горы, со Спартаком, и вы, все мои родственники, больше не услышите обо мне… Только бы быть свободной, быть самой собою, свободно распоряжаться своим сердцем, своими привязанностями.
Обессилев от волнения, от наплыва бурных чувств, изливавшихся в гневных словах, Валерия побледнела и упала на ложе в полном изнеможении.
Вот уже более получаса Валерия была в сильном нервном возбуждении, – это, несомненно, мешало ей понять все значение сказанного ею и осмыслить последствия ее признаний. Может быть, она и не была права в такой мере, как ей это казалось. Жизнь ее в прошлом нельзя было назвать безупречной, и даже в своей любви к Спартаку, единственной настоящей любви, от которой действительно затрепетало ее сердце, она вела себя легкомысленно. Но все же Валерия в страстной, хотя, может быть, и не вполне логичной, речи обрисовала те страдания, тот гнет и даже, скажем прямо, то унижение, на которое римские законы обрекали женщину. Такое положение следует отчасти приписать испорченности нравов того времени. Развращенность римского общества безудержно росла от беспрерывно возраставшей необузданной роскоши, непристойных оргий, которым предавались отцы и мужья, а главным образом, от владычества бесстыдных куртизанок, в богатстве и роскоши сравнявшихся с матронами; во всех общественных местах совершенно открыто, бесстыдно, нагло ими любовались и восхищались фатоватая молодежь, патриции, всадники и другие римские граждане.
В печальном положении женщин и в еще худшем положении сыновей, страдавших от неограниченной власти отцов, во все более расширявшемся зле безбрачия, в разрушении семьи и семейных устоев, во все более распространявшемся рабовладении, при котором всю работу во всех областях вели рабы, пусть даже и не очень усердно, а свободные граждане вели праздную жизнь, последствием которой было обнищание, – вот в каких явлениях кроется истинная причина, первоисточник упадка Рима и разложения огромной империи, которую за короткое время создала ассимилирующая и объединяющая сила грубой, воинственной и доблестной Римской республики.
Конечно, Гортензий не мог в эту минуту заниматься всеми этими исследованиями и размышлениями, несмотря на свой блестящий ум; он долго смотрел с состраданием на сестру, а затем ласково сказал ей:
– Я вижу, дорогая Валерия, что ты сейчас себя плохо чувствуешь.
– Я? – воскликнула матрона, быстро поднявшись. – Нет, нет, я чувствую себя совсем хорошо, я…
– Нет, Валерия, поверь мне, ты нездорова, право нездорова… Ты так взволнована, возбуждена. Это лишает тебя трезвой ясности ума, необходимой при разговоре о таких серьезных вещах.
– Но я…
– Отложим нашу беседу до завтра, до послезавтра, до более подходящего момента.
– Но предупреждаю тебя, я все решила бесповоротно.
– Хорошо, хорошо… Мы еще об этом поговорим… когда увидимся… А пока я молю богов, чтобы они не лишили тебя своего покровительства, и прощаюсь с тобой. Привет тебе, Валерия, привет!
– Привет тебе, Гортензий.
Оратор вышел из конклава. Валерия осталась одна, погруженная в глубокое, печальное раздумье. От этих грустных мыслей ее отвлек Спартак. Войдя в конклав, он бросился к ногам Валерии и, обнимая, целуя ее, в бессвязных словах благодарил ее за любовь к нему и за выраженные ею чувства.
Вдруг он вздрогнул, вырвался из объятий Валерии и, сразу побледнев, насторожился, как будто сосредоточенно, всеми силами души прислушивался к чему-то.
– Что с тобой? – взволнованно спросила Валерия.
– Молчи, молчи, – прошептал Спартак.
В эту минуту в глубокой тишине оба ясно услышали хор чистых и звучных молодых голосов, хотя до конклава Валерии долетало только слабое, отдаленное его эхо. Хор пел где-то далеко, на одной из четырех улиц, которые вели к дому Суллы, стоявшему очень уединенно, как и все патрицианские дома; пели песню, сложенную на полуварварском языке – смеси греческого с фракийским:
Сестра богинь, Свобода, зажигай
На подвиг благородный
Сердца твоих сынов,
Сестра богинь, Свобода, гнев народный
Ты окрыли, святая,
В огне освободительных боев!
В мечи, в мечи оковы
Перекуют рабы;
Долг их призвал суровый,
И даже робкий храбр в пылу борьбы.
Сестра богинь, Свобода, в свете славы
Ты искрою одною
Священного огня
Зажги пожар везде, где пот кровавый
Течет и где страдает раб, стеня,
Чтобы тиран за чашей круговою
Мог нежиться в чертогах!
Свобода, сердце каждого борца
Ты воодушевляй на всех дорогах!
Отвагу влей в сердца,
В синеющие жилы
Влей кровь свою, удвой наш гнев и силы!..
Сестра богинь, Свобода, за тобой
С напевом грубым ринемся мы в бой.
Широко раскрыв глаза, Спартак замер и весь обратился в слух, как будто вся его жизнь зависела от этой песни. Валерия могла уловить и понять только немногие греческие слова. Она молчала, и на ее бледном, как алебастр, лице отражалось страдание, написанное на лице рудиария, хотя она и не понимала причину его душевной муки.
Оба не произнесли ни слова; когда же стихло пение гладиаторов, Спартак схватил руки Валерии и, целуя их с лихорадочной горячностью, произнес прерывающимся от слез голосом:
– Не могу… не могу… Валерия… Моя Валерия… прости меня… Я не могу всецело принадлежать тебе… потому что сам не принадлежу себе…
Валерия вскочила, увидев в этих бессвязных словах намек на какую-то прежнюю любовь рудиария. В волнении она воскликнула:
– Спартак!.. Что ты говоришь!.. Что ты сказал? Какая женщина может отнять у меня твое сердце?
– Не женщина… нет, – ответил гладиатор, печально качая головой, – не женщина запрещает мне быть счастливым… самым счастливым из людей… Нет! Это… это… Нет, не могу сказать… не могу говорить… Я связан священной и нерушимой клятвой… Я больше не принадлежу себе… И достаточно этого… потому что, повторяю тебе, я не могу, не должен говорить… Знай только одно, – добавил он дрожащим голосом, – вдали от тебя, лишенный твоих божественных поцелуев… я буду несчастлив… очень несчастлив… – И голосом, в котором звучало глубокое горе, он сказал: – Самый несчастный из всех людей.
– Что с тобой? Ты сошел с ума? – испуганно произнесла Валерия, и, схватив своими маленькими руками голову Спартака, сдвинув брови, она пристально смотрела черными сверкающими глазами в его глаза, как бы желая прочесть в них и понять, не лишился ли он действительно рассудка.
– Ты сходишь с ума?.. Что ты говоришь? Что ты мне говоришь? Кто запрещает тебе принадлежать мне, одной мне?.. Говори же! Рассей мои сомнения, избавь меня от мук, скажи мне – кто?.. Кто тебе запрещает?..
– Выслушай, выслушай меня, моя божественная, обожаемая Валерия, – сказал дрожащим голосом Спартак; на его искаженном лице можно было прочесть жестокую борьбу противоречивых чувств, бушевавших в его груди. – Выслушай меня… Я не смею говорить… не в моей власти сказать тебе, что отдаляет меня от тебя… знай только, что никакая другая женщина не может… не могла бы заставить меня забыть твои чары. Ты должна это понять. Ты для меня выше и больше, чем богиня. Ты должна знать, что не может в моей душе зародиться чувство к какой-нибудь другой женщине… будь в этом уверена. Клянусь тебе своей жизнью, своей честью, клянусь твоей честью и жизнью, я говорю искренне, честно и даю клятву: вблизи или вдали я всегда буду твоим, только твоим, твой образ, память о тебе всегда будет в моем сердце. Тебе одной я буду поклоняться и только тебя боготворить…
– Но что же с тобой? Если ты так любишь меня, почему говоришь мне о твоих страданиях? – спрашивала бедная женщина, едва сдерживая рыдания. – Почему ты не можешь доверить мне свою тайну? Разве ты сомневаешься в моей любви, в моей преданности тебе? Разве я мало дала тебе доказательств? Хочешь еще других?.. Говори… говори… приказывай… Чего ты хочешь?..








