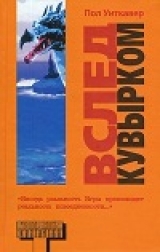
Текст книги "Вслед кувырком"
Автор книги: Пол Уиткавер
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Пол Уиткавер
Вслед кувырком
Джек и Джил, не жалея сил,
В гору неслись бегом.
Джек упал и совсем пропал,
А Джилли – вслед кувырком.
Джек и Джил
Я поймал ее! – думает он. Я ее вправду поймал!
Под ним вздувается волна, и Джек смотрит на исхлестанный ветром пустынный берег (где стоит его сестра Джилли размером с куколку), и отдается на волю той смеси восторга и ужаса, из-за которой нельзя устоять от искушения покачаться в прибое. С его губ срывается первобытный крик океана: бессмысленный, свирепый, гордый. Джека возносит вверх, ему видны гребни дюн, дома за ними – и даже его дом, где муравьями возятся отец – Билл, старшая сестра Эллен и дядя Джимми, прилаживая к веранде щиты. И кажется, ничего нет проще, чем вот так взять и полететь к ним по воздуху, взмыть в стаю чаек, виляя среди кинжальных порывов ветра, несущихся перед Белль, словно дозорные перед наступающей армией.
Эй, глядите, что там, в небе? Это птица – нет, это самолет – нет, это Супер-Джек!
Мечется океан. И вот – Джек падает. И прибой где-то в миле внизу. Джек вскрикивает, отчаянно пытаясь выправиться – или выправить мир, и успевает поймать взглядом Джилли. Она стоит по пояс в прибое, крепко прижав руки к бокам, и глядит на Джека с восторгом и ужасом, и рот у нее раскрыт, будто она кричит что-то во все горло. Но он не слышит. А потом и видеть ее перестает, потому что волна позади закручивается и бьет в спину, и нет времени замечать боль от ударов о дно, когда волна несет его к берегу, вертя, словно палку. Его мотает, как кроссовок в стиральной машине, снова и снова колотит о дно, и тело уже немеет, и чувство направления исчезает полностью. Грудь сжигает жажда воздуха. И рев, рев со всех сторон окружает его.
Он борется с течением, но набегающий прибой плавно передает его отступающей волне, и его тянет обратно – или все-таки туда, он уже не понимает. В конце концов Джек отдается на волю стихии, решив экономить силы. И как он сейчас жалеет, что они с Джилли пришли к морю посмотреть на штормовой прибой, а еще больше жалеет, что поддался на подначку – проехаться на огромной волне. «Иди, а не то…» – дразнилась она.
Когда он уже поумнеет? Почему ей каждый раз удается его на что-то такое подбить? Билл его убьет… если океан этого не сделает раньше. Джек все на свете отдал бы, чтоб только вернуться в ту секунду – теперь он не стал бы срывать с себя рубашку и бросаться в воду с головой. Это была совсем другая жизнь, сотни лет назад.
Вспыхивают и гаснут световые пятна перед внутренним зрением, освещая какие-то предметы, которых Джек видеть не хочет, – огромные, неподвижные, и они тоже его как-то замечают, словно вспышки, при которых они становятся видны, освещают и его, выхватывают, как мерцающее привидение, переносят через невидимый порог в сферу их восприятия. Он чувствует ленивое шевеление в глубинах, ему мерещится чешуйчатая лапа или щупальце, оно тянется к нему, как он бы тянулся прихлопнуть муху. И Джек отбивается вслепую.
Течение уходит, будто игра ему надоела. Собрав остаток сил, Джек бьет руками и ногами, стремясь – как он надеется – к поверхности.
И вот снова воздух, которым можно дышать… если это называется дышать. Отплевываясь, полуослепленный пеной и брызгами, он барахтается, взбивая ногами воду, хлопая руками. Осколки свинцового неба летят перед глазами, но нигде не видно берега, даже намека нет на то, где море переходит в сушу. Наверное, его унесло на много миль. Он вытягивает ноги, но дна не нащупывает, и когда поворачивается, поджидающая волна лупит прямо в лицо. Он хочет дать сдачи, взрывается злостью, эта злость нарастает, как волна, которую он поймал – или она его поймала, – и рушится, как та же волна. Она выплескивается из него, и пустую оболочку швыряет теперь, словно пробку. Только и удается, что держать голову над водой.
Оглушенный, наполовину утонувший, Джек вдруг ловит себя на воспоминании о лице Джилли, о неприкрытой жадности, с которой она, запустив эту череду событий, ловила взглядом их ход; ненасытимые глаза впивали все, будто сгорая от жажды, и эта память, а не то положение, в котором он оказался, распахивает шире обычного ворота, шлюзы страха – самого глубокого, тайного, самого страшного страха. Не страха смерти – страха потерять ее.
Но этого не может быть. Он не допустит!
Джек открывает рот – позвать Джилли, и туда влетает вода. Он проглатывает ее, как камень. Океан мощным презрительным шлепком хлопает его по голове, закрывая небо. И Джек, утопая в этих глубинах, где нет его сестры, чувствует, как разваливается на части, и эти кусочки Джека Дуна прыскают во все стороны, словно мальки, спасающиеся от хищной тьмы.
* * *
Чеглок просыпается со стоном. Он лежит неподвижно на скомканных простынях, и мысли его полощутся илистой водой. В комнате – вонь прокисшего пива и въевшийся запах сигарет. Тусклый свет, пробивающийся сквозь шторы, выделяет тенеподобный мрак, волной нависший перед красными полуоткрытыми глазами. Он с отстраненным интересом наблюдает, как выступают из этой массы пивные бутылки, окурки, огрызки пиццы, рассыпанные перья и грязная одежда, но все это никак не связывается с событиями вчерашнего вечера. Изо всех сил он старается игнорировать повелительный призыв помочиться. Болят все мышцы и все кости. И зубы болят. Даже ресницы – и те болят. Может, стало бы лучше, если пролежать так неподвижно лет хотя бы тысячу?
– Дербник? – хрипит он. – Кобчик?
Ответа нет. Друзья все еще спят, лентяи никчемные. А ему жжение в пузыре не даст вернуться в это завидное состояние.
Застонав еще раз, громче и с большей жалостью к себе – не просто выражая страдание, а декларируя его, – Чеглок скатывается на пол. Полет на несколько дюймов: в какой-то момент и по какой-то причине (когда и почему – уже забыто) он или кто-то другой стащил тощий матрац с кровати. А это, соображает Чеглок, объясняет, почему так странно смотрятся пивные бутылки. И все же, когда он поднимается на ноги и бросается в туалет, его сопровождает какая-то назойливая недомысль, будто чего-то он забыл. Он проводит рукой по люмену в туалете, тут же его отключает – все чувства вопят от возмущения после светового удара, – и выполняет свое дело в темноте. И только вывалившись обратно в комнату, Чеглок замечает, что остальные кровати пусты.
Он тут же застывает, переваривая следствия из этого открытия. Сообразив, бросается к окну и отдергивает шторы, отшатнувшись от солнечного света и вспугнутых голубей на подоконнике. С ужасом щурится на ослепительный день. Двумя этажами ниже кишит экипажами и пешеходами Бейбери-стрит. Ощущение такое, будто его подхватил опасный нисходящий поток, мощный порыв – нет, обрыв – ветра.
Бормоча ругательства, он оборачивается к комнате и видит на одной из кроватей записку. Он вихрем переносится к ней и читает каракули Дербника: «Чег! Мы пытались тебя разбудить. Приходи к Вратам, там увидимся!»
Скомкав бумажку, Чеглок роняет ее на пол. «Разбудить пытались! Шанс вас побери, не очень-то напряглись! Неужто трудно разбудить одного спящего?» Но если подумать, что-то такое вспоминается, какие-то обрывки сна, как его пинали, матрас стягивали на пол, а он грозился сделать с ними что-то ужасное, если не отстанут… но это не важно. Важно то, что лучшие друзья его предали. Ходики на стене показывают двадцать минут одиннадцатого: назначения пентад почти наверняка уже произведены.
Но, может, еще не поздно. Может, случилась задержка, и он успеет поймать самый конец церемонии. Едва задержавшись возле зеркала в ванной – поправить перышки, облизывая руки и приглаживая мокрыми пальцами самые встрепанные, чтобы не казалось, будто он только что пролетел сквозь ураган, – Чеглок наспех надевает чистую одежду, пристегивает к поясу сумку с игральными костями, закидывает на плечо полупустой мех для воды и быстро-быстро сбегает в прихожую «Голубятни»… где сталкивается с тем, чье имя носит гостиница: с похожим на мертвеца, более-чем-среднего-возраста эйром, обладателем покрытого рубцами высохшего крыла, которое цветная одежда не может ни вылечить, ни скрыть.
– Долго изволили спать сегодня, юный Чеглок?
Ничего приятного в его сдержанной улыбке, как и в блеске инея серых глаз под кустистыми оловянными бровями. Когда он говорит, сочные красные перья гребня раскрываются веером – корона языков пламени в лучах яркого солнца, бьющего в окна фасада.
Чеглок краснеет, внезапно вспомнив, как издевался над Голубем и швырялся корками от пиццы, когда он в третий раз пришел к ним в номер с жалобой на шум. Это уже когда общий зал закрылся, и они перешли наверх.
– Я… гм… вчера вечером… – начинает он. – Я здорово паршиво себя чувствую…
– И выглядите соответственно, – удовлетворенно хмыкает Голубь, развертывая жесткий гребень полностью. Остроконечные уши насторожились, приподнятые тонкой серебряной цепочкой, спадающей с головы на обе стороны к ряду колечек и шипов в ушных раковинах. Такая тщательная система украшений, напоминающая оснастку парусных судов или подъемных мостов, считалась модной у эйров поколения Голубя, но Чеглок и его друзья избегают столь кричащей декоративности. У него самого единственная драгоценность – тонкая цепочка из трех сплетенных прядей: две золотые, одна серебряная, – и эта цепочка, обернутая вокруг левого уха, болтается на дюйм ниже мочки. У него есть привычка указательным пальцем теребить свободный конец, когда он нервничает – как вот сейчас.
– Я прошу прощения за шум, ну, и… вообще, – храбро прет он вперед, все же понизив голос так, чтобы клерк у конторки (шахт в темных очках, стоящий неподвижно возле груды камней, на которую он очень похож) не подслушал этих унизительных извинений. И еще потому, что не может сегодня слышать громкие голоса, в том числе и свой. По десятибалльной шкале похмелья у него сегодня одиннадцать.
– Значит, какие-то манеры у вас все-таки есть.
Голова Голубя покачивается вверх-вниз, как у одноименных птиц, которых Чеглок никогда не встречал раньше в таких количествах, как здесь, в Мутатис-Мутандис, расхаживающих по мостовым столицы Содружества, будто она им принадлежит. Небольшая популяция голубей далекого Вафтинга, его родного гнездилища, держится тише воды ниже травы из-за множества хищных видов, что живут в Фезерстонских горах.
– Чего о ваших облезлых дружках никак не могу сказать, – продолжает ворчливо хозяин гостиницы. – Вывалились сегодня утром отсюда, даже не пискнули. Вчера ночью я был на перышко от того, чтобы вышвырнуть вас на улицу. И еще не совсем передумал.
Изо всех сил стремясь оказаться где-нибудь подальше, Чеглок все же испытывает стыд за свое поведение и не хочет еще больше позориться, спеша прочь. Ходили слухи, что сухое крыло Голубя – последствие его паломничества, но, как бы то ни было, а увечье мешает ему летать. Да, он может призвать достаточно ветра, чтобы его подняло в воздух, но это же не значит по-настоящему летать. Для эйра по крайней мере – ни точности, ни изящества. Честно говоря, Чеглок с приятелями так с ним злобно обращались, поскольку это увечье возбуждало в них не жалость, а страх – темный страх, что с ними случится то же самое. Но это не оправдание. Чеглок благодарит Шанс, что его родители остановились у приятелей-тельпов в другой части города. Отец его, Сапсан, предостерегал его в долгом полете из Вафтинга не забывать, что он представляет на Испытании родное гнездовье и должен держать себя соответственно. Почему-то Чеглок уверен, что швыряться крошками пиццы в увечного хозяина гостиницы, при этом распевая во всю глотку похабные лимерики, – не то, что имел в виду отец.
– Мы благодарны вам, что вы этого не сделали, – говорит он. – И мы заплатим за ущерб и за беспокойство.
Улыбка Голубя становится чуть теплее, гребень на голове опадает, становится менее воинственным.
– Как ни трудно теперь себе это представить, я тоже когда-то был молодым. Сам устроил не слабый тарарам вечером после Испытания. У меня три попытки ушло – ну, да и задания были потруднее в наше время, спросите кого угодно. Так что у меня уж был повод праздновать. – Он присвистывает, смеясь, и цепочки поблескивают среди перьев, а на той стороне вестибюля шахт за конторкой поворачивается к ним лицом, грубым и непроницаемым, как гранит. – Нет, я не против шума или веселья, – говорит Голубь. – Я с грубостью не могу мириться. Как бы там ни было, мастер Чеглок, но мы же эйры?
– Да, сэр.
Чеглок сглатывает слюну, гадая тем временем, крашеные у Голубя перья, или это у них такой натуральный «вырвиглаз» оттенок красного. Похмелье вступило с органами чувств в садистский сговор: шумы с Бейбери-стрит, бессчетное количество синяков, оставленных на теле и на крыльях Испытанием, все мышцы ноют, плюс запахи общего зала – жареная колбаса, яйца, лук, смешивающиеся с дымом табака или марихуаны, – все это становится совершенно уже невыносимым. Он ощущает каждое перо на своем теле, и каждое перо болит по-своему неповторимо.
– Я ожидал бы такого поведения, от… гм… низших рас, – продолжает Голубь, понизив голос на одно деление и бросая взгляд на Чеглока, произнося этот эвфемизм для прикованных к земле братских рас, – но мы, эйры, должны быть выше подобного. Вы же знаете, на нас смотрят. С нас берут пример.
– Да, сэр, – повторяет Чеглок, у которого нетерпение и дискомфорт перевесили чувство вины и вот-вот перевесят вежливость. Как будто он снова слушает бесконечные нотации Сапсана. – Это больше не повторится.
Тем временем в гостиницу входит тройка темнокожих салмандеров: две женщины и мужчина. Воздух дрожит, нагреваясь от их едва прикрытых тел, и кажутся они какими-то нереальными, как ходячие миражи.
– Минутку, господа! – радушно объявляет Голубь, жестом показывая клерку, чтобы оставался на месте, хотя шахт никаких намерений уйти не проявлял.
Салмандеры с вежливыми кивками входят в общий зал рядом с вестибюлем.
Голубь с театральным вздохом надувает впалые щеки.
– Ну, вы меня извините – долг зовет. Как ни хороши они для нашего дела – никто не пьет так, как салмандер, – я всегда боюсь, что они спалят дом, а служанка моя, благослови ее Шанс, создание пугливое, так с ними нервничает, что пролитое мне в целое состояние обходится. Позавтракать желаете, мастер Чеглок?
При мысли о еде Чеглок вздрагивает, и желудок скручивается винтом.
– К сожалению, я уже опаздываю.
– Тогда желаю вам удачи. Да будет ваша пентада столь же верна и храбра, а ваше паломничество столь же прибыльно, как было у меня.
Улыбка у Чеглока примерзает к лицу при мысли, что благословение Голубя может на самом деле оказаться проклятием: в отместку за корки пиццы и жестокие насмешки Чеглоку пожелали насладиться прибылью увечья.
Но хозяин уже повернулся и спешит прочь.
* * *
– Джек? Да очнись же ты, черт побери! Ты мне что устраиваешь?
Сколько времени он уже слышит этот голос? Еще когда он не мог разобрать слов или вспомнить, что это за штука такая – слова, голос уже был, заметная нить, вплетающаяся в сознание, целеустремленно прошивающая себе путь в мешанине других безымянных звуков, то она есть, то ее нет, но всегда она возвращается. И в этом уходе и возвращении какой-то порядок – сначала ощущаешь, потом воспринимаешь, потом предугадываешь, и наконец, всплывают шипение песка под ветром, рокот прибоя, сварливые крики чаек, и все это пронизывает и держит вместе тревожный, настойчивый голос Джилли.
– Джек, смотри у меня…
А он лежит тихо. Он будто достиг конца долгого пути, сожравшего мили и годы, истощившего силы и память. Но он вернулся. Он дома.
– Притворяешься, я же вижу!
Его берут за плечи и трясут, затылок соскальзывает с чего-то мягкого – Джек не замечал этой мягкости под головой, пока не стукнулся обо что-то твердое, но проседающее: песок. Глаза открываются неуверенно, скорее от удара, чем от ощущения, обремененные каким-то дежа-вю падения кувырком с большой высоты.
– Я так и знала! – кричит размытое изображение сестры, с торжеством победы и облегчением.
А потом она обхватывает его руками, осыпает поцелуями – бабочки мгновение пляшут по коже и снова улетают.
Моргая и глядя мимо нее в небо, откуда будто исчезло солнце, чувствуя, как наворачиваются на глаза слезы, вопреки преждевременной темноте под тучами – серыми и зловещими, как осиное гнездо, Джек вдруг вспоминает все сразу: как вздувается и рассыпается гребень волны, как он сам летит головой вперед, пробивается на поверхность и тут же тонет, будто его тянет невидимая рука.
Резко повернув голову, он блюет на песок.
– Эй, осторожней! О Боже!
Он чувствует, как его отталкивают. В нем взметнулось возмущение, но проходит еще мгновение, пока он может подняться на локте и глянуть на нее негодующим взглядом: тощая девчонка с прямыми черными волосами, заброшенными ветром вперед, словно крылья вокруг узкого лица, бронзовая от солнца кожа блестит на фоне неба, непрозрачного, как дверь душевой.
– Как ты там?
Джилли, одетая в джинсовые шорты и промокшую футболку с надписью I♥NY (подарок надень рождения от дяди Джимми), стоит перед ним в песке на коленях. Она смотрит на него настороженно, держась чуть на расстоянии, будто опасаясь, что он снова начнет рыгать. Глаза у нее – морской синевы анютины глазки, а в середине – темные, размытые сердечки. У Джека синева глаз не столь интенсивна – скорее небо, чем море: выцветшая под солнцем синева августовского дня в Мидлсекс-бич, штат Делавэр; такого дня, когда ни единое дуновение не шевелит застоявшийся воздух и время бессильно поникло, словно белье, прищепленное к провисшим веревкам. Не такого дня, как сейчас.
Все тело у Джека слилось в большой пульсирующий ушиб. Он сплевывает кислое послевкусие рвоты и вытирает рот тыльной стороной ладони, размазывая по губам зернистый песок. И снова сплевывает, ворча:
– Ага, а то ты переживала, да. Чистое везение, что я не потонул.
– Ага, везение! А кто тебя вытащил, а? Супермен, что ли?
– Ты меня вытащила?
– Кто-то должен был. Ты бы мне лучше спасибо сказал.
– Если бы не ты, я бы вообще туда не полез. Ты меня подначила.
– Ты первый начал, я только ответила.
Джек садится на песке, чуть дернувшись от боли, обнимает собственные колени. Он дрожит на ветру, который несет не только холод, морось и брызги пены, но еще и песчинки, жалящие, словно стрелы. Она правду говорит? Он первый начал? Что-то он не помнит, чтобы ее подначивал.
– Все равно, – упрямо твердит он. – Ты должна была меня не пустить. Должна была знать.
В семейных анналах Дунов хранились случаи, когда один из близнецов без видимых причин вдруг дергался, или кричал, или разражался слезами, и только потом выяснялось, что второй, на расстоянии, недоступном человеческим чувствам, споткнулся, или уколол палец, и реакция была так точно дозирована, так четко откалибрована, будто у них одна нервная система на двоих. И это еще только вершина айсберга. Было больше, куда больше такого, что Джек и Джилли держали про себя – чтобы их не сочли уродами, а еще потому, что это касалось только их, и никого больше. Например, они видели одни и те же сны, подслушивали случайно обрывки мысли друг друга и чуяли, когда с другим что-то должно случиться (как ни странно, о себе у них предчувствий не было) перед тем, как действительно что-то случалось. Иногда настолько отчетливо и точно, что могли предупредить друг друга и избежать той судьбы, которая поджидала… или могла поджидать, или могла бы поджидать (очень уж тонкие различия, сбивающие с толку!) за ближайшим углом. Такие вещи не происходили регулярно или предсказуемо, но происходили.
Джилли пожимает плечами, обхватывая себя руками на леденящем ветру – Белль приближается быстро.
– Я же тебе говорила, будет что-то нехорошее. И предупреждала, чтобы не ходил. Ты меня обозвал трусихой и все равно попер. Так что мне было делать – дать тебе по голове?
– А я все-таки сумел, – говорит он. – Я прокатился на волне.
Она закатывает глаза к небу.
– Ага, если это так называется.
– И еще как прокатился!
– Джек, ты даже по пояс не зашел, когда тебя сбило и понесло. И как еще понесло! Раз – и все. Я думала, тебе уже кранты!
Нижняя губа у нее дрожит не только от холода, и Джек понимает, что она готова расплакаться из-за него, из-за того, что чуть было его не потеряла, точно как он больше всего страдал в мгновения, которые счел своими последними, из-за неизбежности, неминуемости окончательного расставания с ней, расставания, которого говорил он себе можно было бы избежать простым остережением в прошлом быстро уходящем и все же таком же близким как быстро надвигающееся будущее которое казалось можно было бы удержать как открытую могилу в которую он не мог уже удержаться и не свалиться в удушливую пустоту воды… Только он не утонул. Джилли его спасла. Учитывая этот факт, не так уж важно было настоять, что он все же на волне прокатился. Как мог он сомневаться в ее словах? Горе ее было благостным напоминанием о том, как глубоко они связаны. И вихри счастья и страдания, что кружат сейчас ее сердце, свой источник имеют в нем, как и его сердце, сжимающееся от боли и благодарности, бьется в такт ее ритму.
Она встает с песка.
– Ладно, Джек, пошли домой.
Она протягивает руку, они сцепляют пальцы – зеркальные отражения, – и она, ухнув, поднимает его на ноги. Но руку не отпускает, стискивает сильнее, и впивается ногтями так, что он морщится и чуть не вскрикивает, и вскрикнул бы, если бы не ее запрещающий взгляд, фиксирующий его с расстояния в несколько дюймов, и взгляд этот так его пронизывает, что он ни шевельнуться, ни заговорить не может. Будто под гипнозом, и сердце колотится в пустой груди.
– В следующий раз я тебя таки двину по голове, сопляк! – говорит она тоном, подчеркивающим угрозу во взгляде. – Вот увидишь!
И она убегает прочь по песку к травянистым дюнам (длинные серебристо-зеленые стебли, почти горизонтально положенные порывами ветра), где выветренные деревянные ступени громоздятся обломками древнего кораблекрушения, вынесенными на поверхность медленными течениями песка. Пара чаек взлетает, неуклюже горбясь, с ее дороги, расправляя крылья; их подхватывает буря и уносит прочь, как шурикены, брошенные рукой ниндзя. Доносится обрывок пронзительной жалобы птиц – и их уже не видно. И все это время ветер завывает в заржавевших фермах наблюдательной вышки времен Второй мировой, стоящей одиноко посреди домов Мидлсекса и далеких домов Бетани-бич в миле отсюда, – голые кости строения, поднятые на сотню футов над дюнами, уже никем не используемого, кроме птиц и ребятишек, плюющих на табличку «вход воспрещен» и лазающих по ржавым железным лесенкам на покореженную площадку с решетчатым полом, откуда видно далеко, до самых небоскребов Оушен-сити. Джеку и Джилли знакомы и подъем на эту башню, и следующее за этим наказание, потому что там не спрятаться – у всех на виду. Интересно, думает Джек, каково оно там сейчас?
Он ковыляет к своей брошенной футболке (как и у Джилли, подарок дяди Джимми); футболка валяется, смятая, на песке. Нагибаясь, он видит мазок крови на предплечье и левой кисти. Джека охватывает приступ слабости, от которой едва не подгибаются колени, но тут же проходит. На неуклюжих ногах, как чайка по склону вниз, он бредет среди слипшихся комьев песка и разбрызганной пены, несущихся, как перекати-поле, и по щиколотку заходит в прибой. Присев, он смывает кровь и песок с руки, поцарапанной то ли ногтями Джилли, то ли шероховатым дном океана. Порезы неглубокие, и кровь уже остановилась. На минуту Джек останавливается выгрести песок из складок и карманов джинсовых шортов, но это трудно сделать, не раздеваясь. Он встает, обхватывает себя руками и смотрит на океан.
Прибой усилился, что ли? Волны живыми горами борются друг с другом, схватка без правил и без судьи до самого горизонта… хотя горизонта толком и нету, лишь туманная зона непрозрачности, тусклый металл, испещренный белыми гребнями, да иногда мелькнет бледное крыло чайки там, где смешиваются море и небо. Он что, на самом деле там был? Как-то не верится, чтобы он оказался настолько смел – или глуп, – чтобы туда полезть, и уж тем более настолько удачлив, чтобы вылезти.
Джек передергивается, вспомнив ощущение смыкающейся над головой воды. Ощущение конца. И еще что-то другое, не столько присутствие, сколько зловредную сущность одновременно с ним в воде и – он это чувствовал – оставшуюся с ним и на суше: холодный, невозможный ужас, как тот, что липнет к знакомым предметам после кошмара, превращая их в чужие, но по-прежнему знакомые.
Он отходит от океана, ставшего таким же чужим – прежний друг, которому больше нельзя доверять. Повернуться спиной страшновато, будто он схватит его и снова затянет. Но Джек заставляет себя повернуться и пойти размеренным шагом туда, где лежит футболка. Он ее поднимает, энергично встряхивает и натягивает на себя (шипя от резкого укола боли в левой руке). Футболка вывернута наизнанку, и надпись видна через промокшую белую ткань: YИ♥I.
Все еще не оглядываясь, он пускается вдогонку за Джилли, бежит по лестнице, по узкой тропе между домами Скелсов и Кардисов (опустевших и закрытых щитами), ороговелые подошвы шаркают по истертым доскам, а над головой трясутся сучья сосен, и трос на флагштоке без флага у Кардисов выдувается пузом на ветру, щелкает о металл снова и снова, звуча отчаянным набатом.
Когда Джек входит во двор, дядя Джимми, Эллен и Билл уже стащили вниз щиты для террасы и борются с фанерными досками, – прилаживая их к большим нижним окнам. Дом Дунов стоит на А-образной опоре, как и все соседние на океанской стороне шоссе № 1 – футов девять-десять над землей на деревянных столбах, очень похожих на телефонные – это они и есть, кстати, только загнанные в песчаную почву так, что меньше трети торчит над землей.
– Переодень мокрые шмотки и давай помогай! – ревет Билл, перекрикивая вой ветра, когда Джек бежит по мощеной дорожке вдоль подъездной гравийной дороги – коричневая с белым галька. Бордовая «Тойота-королла» с номерами федерального округа Колумбия и стакером «Вашингтон Редскинз» стоит неподалеку, забрызганная дождем, наполовину под прикрытием навеса. Рядом потрепанный «жук» дяди Билла, выходец из шестидесятых годов с закрашенными разной краской пятнами, будто какая-то автомобильная «варенка», пухлые красные игральные кости болтаются у зеркала заднего вида зрелыми яблоками. Номера нью-йоркские, а стакеры на бампере такие: «ролевики пускают в ход воображение» и «МОЯ вселенная ИГРАЕТ со мной в кости».
– Есть, сэр! – кричит Джек, поднимаясь по лестнице в дом.
– А куда ты собрался?
Он останавливается на этот перехватывающий возглас, одна рука на перилах, нога на нижней ступеньке, поднимает глаза и видит суровое лицо отца и заинтересованное – семнадцатилетней Эллен, полузлорадное в растрепанном гнезде светлых волос. Они оба на него смотрят.
«Ой-ой», – думает Джек.
– Как ты мне сказал, переодеться в сухое.
– Сначала песок смой. Сколько раз повторять, чтобы вы песок в дом не наносили?
– Но я думал…
Билл перебивает, будто Джек – сегодняшний гость-жертва передачи «Внутри Пояса».[1]1
«Inside the Beltway» означает «в вашингтонских политических кругах». Beltway – магистральная окружная дорога вокруг столицы США. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть]
– Вот этого ты, Джек, не делал. Ты на себя посмотри! Ты обещал, что в воду не полезешь. Просто глянешь, как ты говорил.
– Но Джилли…
– Мне все равно, кто из вас кому что сделал.
Джек чувствует, как сворачивается в животе ком. Ох, как Эллен радуется! Она едва сдерживается – ничего она так не любит, как когда кому-то влетает. Особенно ежели этот кто-то – ее маленький братик или сестричка. Джек призывает на ее голову все проклятия. Молнией по этой пустой крашеной башке, бомбу из птичьего дерьма, рухнувший дом – лишь бы ухмылка сползла с наглой рожи. Естественно, проклятия тщетны.
– Вы оба будете наказаны, – продолжает Билл. – Но сейчас надо заставить окна, пока Белль не усилилась. Ты вернешься, готовый помогать, через пять минут. Ясно?
Он кивает.
– Так чего ты ждешь? Приглашения?
С пылающим лицом Джек отворачивается под лающий хохот Эллен.
– Эл, смотри, а то я тебе найду, над чем посмеяться, – предупреждает ее отец.
– Ноя же не…
– Эй, Джим! Держи!
– Черт! – доносится голос дяди Джимми. – Чуть эта хреновина у меня из рук не вырвалась!
– Сейчас, держу…
Джек пригибается за лестницей, встает на доски, ведущие под крыльцо к уличному душу, занятому парой костлявых лодыжек.
– Джилли, давай быстрее. Мне тоже надо!
– Так заходи, не заперто.
Он открывает дверь и входит, спасаясь от мерзкого ветра, который захлопывает за ним дверь невидимой ладонью. Джилли сверкает улыбкой ему навстречу, да не только улыбкой: вытираясь темно-малиновым с золотом пляжным полотенцем, усыпанным изображениями футбольных шлемов размером с кулак, она сверкает из-под ткани бронзой и слоновой костью кожи. Но ничего такого, чего Джек раньше не видел: жилистое тело Джилли ему знакомо почти как собственное. Это не значит, что он не осознает различий или что они его не интересуют, особенно сейчас, когда половое созревание начинает лепить тело, как скульптор, работающий изнутри. Но это же не какая-то там девчонка, это Джилли. Его сестра-близнец, с которой у него общие мысли, ощущения… даже, кажется иногда, и кожа. Между ними нет секретов, и нет нужды соблюдать условности.
Футболка и джинсы Джилли свисают с деревянной жерди душа, капают на блестящие мокрые доски пола. Чистое полотенце висит на крюке у нее за спиной, защищенное от брызг душа, который она не выключила, тонкой фанеркой, разделяющей кабинку пополам. Паукам углы кажутся уютными, и их оттуда не выжить; разорванную днем паутину они восстанавливают за ночь, как Пенелопа. И никого это не волнует, кроме матери, а Пегги в этом месяце в доме не будет.
– Па злится, – говорит Джек, пытаясь не замечать укол боли в левой руке, и снимает футболку, выворачивая ее при этом изнанкой внутрь, I♥NY.
Потом он становится под бьющую, жалящую горячую струю, и на миг это ощущение напоминает, как песчинки скребли кожу.
– Па-а-думаешь, – пожимает плечами Джилли, закатывая глаза к небу. – Ну, запрет нас опять.
Пляжный дом Билл и Пегги делят между собой. По условиям развода здесь неделю живет он, неделю она. Но поскольку они оба должны зарабатывать себе на жизнь – Пегги помощником адвоката, а Билл политическим репортером в «Вашингтон стар» и ведущим «Внутри Пояса» (остром местном телевизионном ток-шоу), – то они в лучшем случае приезжают на уикэнды, если не считать отпусков. В основном в летнее время они дом сдают, но дядя Джимми в августе берет отпуск на своей работе («если ее можно так назвать», – говорит Билл) гейм-дизайнера в Нью-Йорке и поселяется здесь in loco parentis[2]2
Игра слов. «In loco parentis» (лат.) – «замещая родителей», loco (исп.) – сумасшедший, псих.
[Закрыть] («вот именно, что loco», – провозглашает Билл) для Джека, Джилли и Эллен. Билл и Пегги заезжают по очереди (если заезжают) через выходные в течение месяца, иногда в одиночку, иногда с другом или любовницей. За четыре года после развода никто из них серьезных отношений не завел, тем более не вступил в брак, поэтому Эллен все еще надеется на примирение, но Джек слишком хорошо помнит напряженное мрачное молчание и визгливые перебранки, чтобы лелеять надежду на лучшее будущее.







