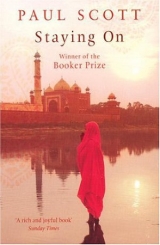
Текст книги "Остаться до конца"
Автор книги: Пол Скотт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
И мне сейчас опора пришлась бы кстати, подумала Люси, заполнить паузу, не дать Слонику опомниться, но уцепиться не за что. Пришлось импровизировать:
– Конечно, Слоник, ты забыл, как к четвертому представлению «Ветра и дождя» Далей Томпсон заболела, а в тот вечер ждали самого командующего, и мы были в отчаянии. Майор Гримшо тогда позвонил тебе и сказал, раз я помощник режиссера и суфлер, то знаю роль назубок и почему бы мне не сыграть в тот вечер? Ты же ответил, что я не хочу.
Слоник закрыл рот, но по-прежнему молчал.
– Если ты вообще помнишь этот случай, то ты, конечно, сошлешься на мои же слова: «Слоник, дорогой, спасибо, что выручил». Так вот, мне и впрямь было страшно. Но страшно не оттого, что могу испортить весь спектакль, а оттого, что своей игрой я бы утерла нос Далей Томпсон, и ее муж, полковник Томпсон, отыгрался бы на тебе. А ведь ты еще до свадьбы знал, что я увлечена театром, выслушивал меня и понимающе кивал, когда я рассказывала тебе, что мечтаю сыграть в любительском спектакле. Так что ты соврал майору Гримшо. А мне-то, дурочке, было даже лестно поначалу: думала, ты боишься, что Далей Томпсон за пояс заткну. На деле же, увы, это еще один пример того, как ты постоянно лишаешь, да, именно лишаешь меня полноценной жизни, дабы проще было оправдать и поддержать свою, ущербную. И пожалуйста, не оправдывайся: дескать, в последнюю минуту Далей Томпсон все-таки появилась. Да ей и незачем было на сцену выходить, с холодным сердцем изображать всякие страсти – она и без того очаровала командующего, и через два месяца ее мужа произвели в бригадные генералы и услали за границу, а она тем временем услаждала своего высокопоставленного поклонника в Утакумунде.
– В Найни-Тале, – поправил Слоник.
– Не все ли равно!
– Нет, не все равно. Потому что это было точно в Найни-Тале. И заезжий генерал был вовсе не наш командующий, а старик Трамперс. А в Утакумунде Далей развлекалась с молодым Бобби Бимишем. Томпсон с ней развелся, она вышла замуж за маркиза, и последний раз ее видели в Каире на банкете в честь Голды Меир, который давал Генри Киссинджер.
– Слоник, не смеши меня. Ты все это сию минуту выдумал. Далей Томпсон в прошлом году умерла.
– Люс, голубушка, такие, как Далей Томпсон, бессмертны.
– Значит, ты ее и по сей день помнишь.
– Еще бы не помнить: самые большие сиськи в Равалпинди.
Вот и поговори с ним после этого.
– Пойду погуляю, – бросила она.
– Ты уже гуляла сегодня.
– Еще погуляю. Тебе что-нибудь купить на базаре?
– Того, что мне надо, ты не купишь.
А что он имел в виду, лучше было не выяснять.
Глава восьмая
Перед уходом она открыла нижний ящик комода в спальне и принялась рыться в старых фотографиях.
Мысленно она уже беседовала с будущим, пока незнакомым гостем; как знать, вдруг молодому человеку интересно ее послушать: «Конечно, мистер Тернер, все фотографии следовало бы собрать в альбом. Однажды я попыталась было, но муж, застав меня за этим занятием, сказал, что наклеивать фотографии прошлых лет в альбом все равно что заниматься онанизмом. Я не поняла этого слова, пришлось заглянуть в словарь. Вы, надеюсь, понимаете, что у меня поубавилось охоты заводить альбом. Вот как раз фотография, о которой говорила Сара. Прощальный банкет Лейтонов в резиденции коменданта».
Она положила снимок на письменный стол рядом с очками.
– Позвольте, мем-сахиб? Люси даже вздрогнула:
– В чем дело, Ибрагим?
– Сегодня понедельник, мем-сахиб.
– Да, помню. Вчера ведь было воскресенье.
– Мне заказать билеты в кино?
– Нет, пока не нужно. Я сейчас занята.
– Булабой-сахиб сегодня придет?
– Понятия не имею.
– Мем-сахиб желает заказать обед на дом или пойдет в ресторан?
– Тоже пока не знаю. Прошу тебя, повремени с вопросами. Я не знаю еще, чем буду занята до обеда и после. Может, пойду гулять и вернусь вечером, может, вернусь раньше, и, кто знает, может, мне из дому больше не захочется выходить. Ради чего смотреть скучный фильм? Ради того, чтобы не мозолить глаза сахибу и мистеру Булабою? Чтобы дать им посидеть за бутылкой и посплетничать, как двум старухам?
Снова застрекотала косилка.
– Будь любезен, попроси мали прекратить этот адский шум! Между прочим, и у других людей кроме миссис Булабой есть нервы. Я же не просила его работать каждый день. По-моему, он нарочно выискивает работу, чтоб меня вконец разорить.
– Мем-сахиб недовольна Джозефом?
– Я сейчас всем и вся недовольна. Скажи ему: хватит! Если он и дальше так будет работать, мне придется вести учет каждого часа, нет, лучше этим займешься ты, будешь записывать затраченное время и выполненную работу. А я уж сама решу, какая работа полезна, а какая – сущая эксплуатация.
– А кого эксплуатируют, мем-сахиб?
– Меня, кого же еще! – выкрикнула Люси. Оба как по команде взглянули на окно. – Конечно же, меня, – продолжала Люси уже спокойнее. – Но меня не так-то просто обвести вокруг пальца. Я не позволю себя эксплуатировать. Сейчас же прикажи ему прекратить работу!
Ибрагим вышел.
А Люси надела очки и принялась рассматривать фотографию. Улыбнулась.
– Ах, мистер Тернер, какой вы любезный: надо же, признали меня на фотографии. Я уж и сама-то себя не найду. Как-никак четверть века прошло. Ну, если узнали меня, конечно, догадаетесь, кто эта дама. Да, верно, это Сара. А это – Слоник. Сейчас он далеко не такой. Не та фигура – похудел, не та шевелюра – облысел, да все уже не то. Сегодня, я бы сказала, вы видите лишь жалкое его подобие… Да, это, очевидно, муж Сары, мистер Перрон. Или мне следует называть его профессор Перрон?
Косилка перестала стрекотать.
Вглядываясь в мистера Перрона, Люси сначала смутно, потом все отчетливее припоминала его.
– Да, мистер Тернер, разве мне забыть его! Он провожал меня в тот вечер домой, а потом две ночи подряд мне чудилось, что он у нас в спальне. В нашей со Слоником спальне, поймите меня правильно. Муж засыпал, я давала знак, и из ночи появлялся ОН. У него очень ладная фигура, может, чуть долговяз, зато пшеничные волосы, серо-голубые глаза. Посмотрите, как он улыбается. Правда, ему недостает затаенной, но пылкой страстности, присущей Тулу. А когда он начинает говорить, сходство с Тулом и вовсе пропадает: у Тула речь грубая, неразборчивая. Помнится, мистер Перрон меня потом разочаровал, а ведь какой чудный у него затылок, точь-в-точь как у Тула. Я тогда еще сказала тете Фенни (это та полная женщина, что сидит, обняв Тедди, – тетка Сары): «Кто этот молодой человек?» А она – мне: «Это мистер Перрон, он ехал с нами в поезде, когда напали индусы, остановили поезд и высадили всех мусульман. А сегодня мистер Перрон пришел попрощаться с нами, мы ведь улетаем на родину. Пойдемте, говорит, я вас познакомлю». Самой Сюзан на фотографии нет, она, мистер Тернер, тогда была в санатории: никак не могла оправиться после смерти второго мужа. Признаюсь вам, как только я увидела мистера Перрона, сразу подумала: «Никак у Сюзан третий брак намечается». Как же у нее все быстро и просто. Нехорошо, может, с моей стороны ворошить школьные сплетни, уж все быльем поросло, и я рада, что Сара счастлива, но в те годы Сюзан на весь Панкот славилась тем, что отбивала молодых людей у своей старшей сестры. Тогда она была хорошенькой резвушкой, правда, из резвушки выросла сущая истеричка. Сара-то в молодости была не очень привлекательной, чего уж греха таить. Зато, что касается семейного жизнеустройства, в этом она молодчина. Вы ведь знаете, мать у нее любила выпить. Не то чтобы очень злоупотребляла, но обычно первой за столом поднимала бокал и последней с ним расставалась. Ее в какой-то степени можно понять: женщина в самой лучшей поре – и столько лет без мужа. Вы, очевидно, знаете, что он в войну попал к немцам в плен. И это еще нужно учитывать. Впрочем, даже выпив, она ни разу не оконфузилась. А работала без устали, помогая солдатским семьям. Сама она из рода Мьюиров, отец ее командовал Ранпурским гарнизоном в двадцатые годы. Лейтоны и Мьюиры в ту пору, что называется, «делали погоду» в Паккоте. Я покажу вам могилы их предков. Так, значит, мистеру Перрону приглянулась Сара. Ну что ж, очень рада за нее. Ведь она росла такой взбалмошной, не принимала ничего всерьез. И на Индию-то ей наплевать, да и на нас всех тоже. Из-за ее нрава и молодые люди за ней не особо ухаживали. Одно время мы даже подумывали, а здорова ли она. Она порой будто насмехалась над нами; вот, пожалуй, почему она сдружилась со Слоником, когда работала при нем в штабе округа; послушать его сейчас, так он тоже над всеми насмехался, о прошлой жизни доброго слова не скажет. И мне иногда кажется, мистер Тернер, что я всю жизнь прожила во лжи, в каком-то лицедействе. Как знать, мистер Тернер, вдруг на поверку вы окажетесь уверенным в себе, увлеченным работой молодым веселым человеком, истинным англичанином. И вдруг, уехав домой, вы будете смеяться над нами до упаду – придет мне такое в голову, и я просто не смогу выносить вашего присутствия. Хотя сейчас я так жду вас: вы вернете мне ощущение того, что я – белая женщина, в этом доме год за годом, день за днем, час за часом я все больше и больше теряла это ощущение. Не говорю уже о том, что раньше положение белой женщины служило надежной защитой, теперь же – нет.
Вам, наверное, трудно понять, о чем я толкую. Пойдемте-ка лучше, я провожу вас на кладбище, вы там сфотографируете интересные памятники, а потом я отведу вас к Розовому Дому или, попросту говоря, к дому номер двенадцать по Верхней Клубной улице. Попросим у миссис Менектара разрешение сфотографировать памятный нам всем дом в теперешнем виде. Снаружи-то он мало изменился, зато внутри все по-другому, просто не узнать. Повсюду дымятся ароматные палочки, кругом статуэтки и резные украшения, им цены нет – можно подумать, что полковник с женой ограбили индусский храм. Вы словно в музее, присесть, отдохнуть и то негде, разве что на веранде или в столовой. Порой мне доводится обедать с ними. Смотришь, кто-то из гостей ест без ножа и вилки, прямо руками. Я знаю, таков стародавний обычай, но многие поступают так, лишь подражая теперешней моде среди молодых. Мне, конечно, все это просто мерзко: к чему тогда вообще дорогие и красивые столовые приборы. И кругом такая разностилица: кресла и столы богатые, старой доброй фирмы, а картины на стенах – самые что ни на есть современные, да еще с подсветкой, это в солнечный-то день!
На стол упала тень.
– Что тебе еще, Ибрагим?
– Мали прекратил работать.
– Знаешь, я еще не глухая. Если тебе нечем заняться, так вот: вместо того чтобы порхать вокруг меня, сходи договорись насчет коляски.
– Мем-сахиб собирается в клуб?
– А почему бы мем-сахиб и впрямь не поехать в клуб?
– И мем-сахиб будет обедать?
– Не исключено. Только иди, бога ради, Ибрагим, и без коляски не возвращайся. Ты сегодня что-то сам не свой.
Ибрагим заложил руки за спину.
– Вчера солнышко светило, все хорошо. Сегодня пасмурно, плохо. Мем-сахиб занята, фотографии в столе разбирает. У сахиба плохое настроение. Друг с другом они, видно, не ладят. Сегодня с утра во всем доме разлад. Повар говорит, у мистера и миссис Булабой тоже. Бедный Ибрагим совсем с ног сбился. Все ругаются. Мали говорит: трава растет, а ему запрещают косить, на глаза не велят попадаться.
– Возможно, Ибрагим, ты и прав. Только что ты от меня-то хочешь?
– Сегодня очень смешной фильм, – помолчав, сказал Ибрагим. – Второй раз уже показывают. «Как убить жену» с Джеком Леммоном. В прошлый раз мем-сахиб понравилось. Народ валом валит. Особенно фильм офицерам по душе. Господин директор говорит, сегодня все билеты будут проданы. Может, мне взять извозчика и съездить взять для мем-сахиб билет?
– Возьми-ка лучше два. Один для нашего сахиба, другой – для мистера Булабоя. «Как убить жену»– это по их части. Ибрагим, да ты никак пьян?
– Неужели мем-сахиб не помнит, что Ибрагиму спиртное запрещено?
– Быстро за коляской, Ибрагим!
Как стыдно: уже столько времени ни она, ни Слоник не были в церкви, хотя и по разным причинам. Слоник вообще не верил в бога. А в Люси еще теплился огонек веры, зароненный в детстве, и по большим христианским праздникам, приходя в церковь, душа ее умирялась, хотя поначалу ей думалось, что все осуждающе смотрят на ее белое лицо.
Будто она выделялась среди всех. Не хотела, не искала, а снискала-таки известность, причем малоприятную. Ей отнюдь не претило, что читает проповеди и благословляет прихожан ее темнокожий брат во Христе, не смущалась она и преклонять колена вместе с темнокожими единоверцами, хотя они во многом и отвращали ее. В душе ее столкнулись приятие и неприятие этих людей, и оттого Люси очень неуютно чувствовала себя в церкви. Как точно выразилась Фиби Блакшо: чувствуешь себя белой вороной среди черных воронов. Но семейство Блакшо давным-давно уехало домой, и Люси уже несколько лет не причащалась в церкви..
Коляска свернула на церковную улицу, миновала бывший дом приходского священника (теперь здесь жил мистер Томас, директор кинотеатра, отец шестерых детей). Интересно, сколько же лет прошло с тех пор, как Люси в последний раз ступила на маленький церковный дворик – во времена раджей там каждое воскресенье собирался цвет общества. А за оградой ожидали коляски и экипажи: после службы господ нужно отвезти кого домой, к обеду, а кого в клуб – на коктейль с мясной закуской под острым соусом.
– Обождите меня, – попросила Люси извозчика. Проходя церковными воротцами, она задержалась под аркой. Ей вспомнилась иная церковь, но не унылая, захолустная в отцовском приходе, а деревенская в Пирс-Куни. Там ее крестили, там и начинал вторым священником ее отец. Позднее она с братьями-близнецами Марком и Дэвидом три года подряд, летом (дивное было время!) приезжала туда на две недели, и отец понуждал их ходить каждое воскресное утро в церковь.
– И об этом мне нужно рассказать вам, мистер Тернер, – произнесла она, садясь на скамейку. Удивительно: раньше она ни разу не садилась там! Да и сейчас получилось само собой. – Простите, мистер Тернер, я сегодня какая-то несобранная и бестолковая. Девичья фамилия моей матери – Лардж, бедная родственница владетельных господ. Они наняли ее ухаживать за своим больным сыном. Ах, как она любила забавы на свежем воздухе. Звали мою мать Эмили. Эмили Лардж. А у отца имя сложное: Матфей-Марк-Лука Литтл. Конечно, людские имена, Как и людская жизнь, – не повод для насмешки. Вы улыбаетесь, я на вас не в обиде, это и впрямь смешно, я понимаю. Но здесь, под сенью кладбищенских ворот, от которых тропинка ведет прямо в райские кущи, куда мы проводили своих близких, мне совсем не смешно. Не замечали ли вы, мистер Тернер, что волокна в дереве – взять хотя бы эту скамейку – всегда одинаковы? И камушек – везде и всегда камушек, травинку тоже ни с чем не спутать. Конечно, существуют разные оттенки, степени – смотря где вы окажетесь; но солнце светит везде – и здесь и там – одинаково, так что вы этого и не замечаете или во всяком случае не удивляетесь. А если и удивляетесь, то лишь слегка: до чего ж скудна природа на выдумку! Морской прибой шумит у Бомбея так же, как и у Уортинга, как и повсюду. Закройте глаза, мистер Тернер, и вам ни за что не определить, где вы.
Она закрыла глаза и склонила голову. Вот кашлянул и сплюнул дожидающийся ее на дороге возница. Раскаркались вороны, потревоженные нежданной пришелицей. Повеяло прохладным, с гор, ветерком, и все стихло. Тишину нарушал лишь мерный стук дятла: точно маленький кузнец неутомимо бил и бил по своей наковальне в сосновых холмах, вознесших Панкот почти на две тысячи футов на уровнем моря.
Тук-тук.
– Никак не пойму, мистер Тернер, что ж это за звук? Нет, на дятла не похоже. И мне сразу вспоминается летний субботний день дома. Отец подстригает живую изгородь, и где-то вблизи – тук-тук, тук-тук – мои братья играют на лугу в крикет. Рукава рубашек засучены; мать наказывает мне сделать им лимонад; я выжимаю сок, беру поднос и иду к мальчикам – от них терпко пахнет потом. Их было почти не различить, разве что у Марка веснушек побольше. Людей малознакомых это чрезвычайно смущало. А близнецы, думается мне, этим пользовались. По натуре они были не очень-то великодушны. Частенько мне от них доставалось, но жаловаться я не смела – еще бы! Один раз они вылили мне на голову зеленую краску, а родителям божились, что нечаянно. Мать, похоже, поверила, а отец очень любил мои русые волосы, взъярился и в кои-то веки крепко всыпал братьям, правда, может, не так уж и крепко. Потом они только посмеивались, а выпори их мать – было б не до смеха. Меня братья наказали по-своему: до конца летних каникул не брали играть и не разговаривали со мной, а если и обращались ко мне, то не иначе как Ябеда или Лысуха, меня же пришлось остричь едва не наголо. Стригла, да еще со всей беспощадностью – дескать, поделом тебе, – сама мать. Я стала похожа на мальчика, чему она, несомненно, радовалась. Проходила неделя за неделей, а я либо сидела дома, либо, прячась от всех, гуляла в саду. Сад, конечно, название слишком громкое; на задах приходского парка росло несколько яблонек-заморышей. Средь них я и сидела, слушая, как щелкают садовые ножницы; чик-чик. Отец подравнивал по субботам, в день служб, живую изгородь. А потом до меня доносилось: тук-тук, тук-тук – то братья играли в крикет. А мать громко их подзадоривала, она играла с ними, охраняла воротца. Ручищи у нее были огромные.
Чик-чик.
* * *
Люси наконец миновала ворота и пошла по тропинке церковным подворьем. Вдруг она остановилась – на этот раз ее поразил не знакомый звук (то щелкали садовые ножницы), а могилы – надгробия вычищены, трава вокруг скошена. Неизвестный труженик, очевидно, работал и сейчас, только по другую сторону церкви, и потому его не было видно. С той стороны – могила Мейбл Лейтон. Мейбл и сама очень любила повозиться в саду. Ее старая подружка мисс Батчелор, уже впавшая в маразм, говаривала, что Мейбл не будет почивать с миром: ведь ее похоронили, вопреки желанию, в Панкоте, а не в Ранпуре. А между тем Мейбл почивала все эти годы с миром. Впрочем, как знать.
Хватит думать о глупостях, приказала себе Люси и вновь зашагала по тропинке к южному входу. Едва она поравнялась с ним, как дверь распахнулась и на пороге выросла чья-то фигура. Люси вздрогнула всем телом и даже вскрикнула.
Приглядевшись, вздохнула.
– Ну и напугали же вы меня, мистер Булабой.
* * *
Мистера Булабоя эта нежданная встреча и самого застала врасплох. Надо же, он только что думал о миссис Смолли. Она предстала перед ним столь внезапно, что у него подкосились ноги – во второй раз за сегодняшнее утро. Может, невидимые колдовские чары вызвали сюда ее дух? Да нет, вроде она сама, улыбается, как всегда, степенно и благородно.
В сердце мистера Булабоя для Люси был уготован особый уголок. Уготован давным-давно. Как опечалился мистер Булабой, когда Люси перестала ходить в церковь. Ибо, видя, как скромно, но достойно держится эта стройная и опрятная женщина (причем достоинство у нее, разумеется, в крови) на воскресной службе, мистер Булабой преисполнялся уверенностью в целесообразности и уместности дела, ради которого собрались прихожане. Поначалу, когда Люси и Слоник только-только приехали в Панкот (Слоник к тому времени уже вышел в отставку), она брала его с собой, и они садились в первом ряду. Недолго ходил в церковь Слоник, а Люси с каждым разом, с каждым годом садилась все дальше и дальше, все больше растворялась в полумраке. Мистера Булабоя это очень огорчало, но мало-помалу он начал понимать, в чем причины. Назвать их он бы не смог, но, во всяком случае, скромность, желание остаться незамеченной полностью соответствовало нарисованному им образу настоящей английской дамы старой закалки: такая и голоса не повысит, потому что не найдется и повода; она умела внушить послушание тем, от кого это требовалось. Правда, в их число не входил Слоник. Мистер Булабой только диву давался, как тот обращался с женой. А с другой стороны, ему было любопытно наблюдать традиции английской семейной жизни.
Как радовался он, когда Люси приходила обедать в гостиничный ресторан. Убогое заведение словно преображалось. Такие же чувства (с некоторой поправкой) испытывал он и к Слонику. Любо-дорого смотреть на чету, когда, кроме них, в ресторане никого нет: едят молча, сдержанно – истинные англичане. Слоник, правда, не стеснялся в выражениях, хуля пищу, обслугу, не очень свежую скатерть, но в придирках его не было злобы; Слоник как бы смотрел на себя со стороны и улыбался: надо ж какие мелочи стали раздражать, надо ж как испортился характер.
Во время раджей, как часто доводилось слышать мастеру Булабою, англичане уж слишком важничали. В ту пору ему было мало лет, и собственного мнения он не составил, однако из личных наблюдений заключил, что если прежде задирали нос англичане, то теперь – индийцы. Из чего следовало, что ответственность за управление страной портит нрав и губит чувство юмора.
А когда Слоник и Люси обедали в ресторане при других посетителях-индийцах, то именно от столика четы Смолли, казалось, исходило благодушие и довольство. Супруги чаще разговаривали друг с другом, перебрасывались словом со знакомыми за соседними столиками. Но если соседи затевали ссору с официантом или мистером Булабоем, Люси и Слоник сразу сосредоточивались на обеде. Не поддержали они и миссис Булабой, когда та раз-другой устраивала жуткие скандалы: она полагала, что клиент всегда виноват, более того, на его вину непременно нужно указать, на скандал ее подвигало все то же чувство ответственности. Странно, думал мистер Булабой, почему из-за чувства ответственности не прибавилось склочности в моем характере. Ответ напрашивался сам собой: мистер Булабой ничем не управлял. Все бразды правления находились у Лайлы. А он, точно кукла чревовещателя, сидел у нее на могучих руках и лишь раскрывал рот, а отдавала распоряжения и устраивала скандалы она. Был и иной ответ: мистер Булабой хотя и был наделен ЧУВСТВОМ ответственности, отнюдь не стремился обременять себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.
Им повелевали, и его это устраивало. Сначала повелителем его был мистер Пилаи, потом – Лайла. И от ярма ему вовек не избавиться.
И вот сегодня, столкнувшись с миссис Смолли, он пожалел о своей доле. Миссис Смолли не уступала Лайле в твердости характера, но ярма не надевала. И почему господь не наградил его хоть малой толикой силы воли?
– Простите меня, миссис Смолли. Признаться, я и сам напугался. Хотите верьте, хотите – нет, но я только что вспоминал вас.
* * *
Пикантно началось утро у мистера Булабоя. Проснувшись, он обнаружил, что лежит совершенно голый в постели с Лайлой, уткнув нос меж ее необъятных грудей. Плечи его стиснуты мощными руками супруги, а ноги затерялись меж недристых ее бедер. Над головой его раздавалось медное гудение с залихватским посвистом.
Как он очутился у нее в постели, оставалось загадкой. Сама супруга его к себе, помнится, не вызывала. Неужто, пока он спал, она прокралась к нему в комнату и, перекинув через плечо, отнесла к себе в постель, сняла с него пижаму и взгромоздила его на себя? А поскольку, как явствовало после ежеутреннего пробуждения, и во сне он оставался в состоянии боевой супружеской готовности, то не исключено, что Лайла воспользовалась случаем: не пропадать же втуне такому дару. Будить мужа она не стала – управится и без его помощи. Сил хватит.
Поразительно, сколько сил таится в женщинах даже более изящных, чем его Лайла, сколько решимости! Их неожиданные и непредсказуемые капризы и пристрастия относительно самых, казалось бы незначительных, мелочей приводили в замешательство. Почему, например, им больше нравятся на мужчинах тесные плавки, ведь свободные трусы удобнее. Впрочем, в этой непредсказуемости отчасти и таилось женское очарование: не угадать, что скажут или сделают через минуту, как переменится их отношение. Даже в самые интимные минуты. Один-разъединственный раз в Ранпуре ему удалось перемигнуться с Изюминкой, и она пригласила его к себе. Ну и смеялась она, увидев его «семейные» трусы. Поначалу она отдалась ему стоя, потом лежа, а потом в такой невообразимой позе, что, не угляди он ее в иллюстрированной книге, ни за что бы не поверил, что такое возможно. «До чего же мужчины гибкие! – сказала она на прощание, выдворяя его на ночь в гостиницу. – Приходи завтра, только трусики поприличнее надень, и мы устроим „казачок“».
Но все прелести таинственного «казачка» так и остались неведомы мистеру Булабою. Назавтра вечером Изюминка встретила его с зловещей плеткой в руках, в полном казацком облачении, от которого он с удовольствием бы ее избавил, но, к великому его огорчению, она и не собиралась раздеваться. Мистер Булабой и еще двое парней должны были плясать вокруг нее. На парнях были лишь красные узенькие плавки и красные же кожаные сапоги. И мистеру Булабою предложили на выбор несколько пар.
Изюминка спросила:
– Ну как, с трусиками все в порядке?
– Да, конечно, – бодро ответил мистер Булабой, – только они не красные. Схожу переодену.
Только его и видели. С тех пор он со страхом, от которого сладко замирало сердце, ждал: вдруг Изюминка еще раз объявится со своей программой в варьете «Шираза». Даже в самые интимные минуты с танцовщицей (например, когда оба они переплелись в немыслимой позе, которую Изюминка называла «двойной лотос») мистеру Булабою казалось, что он в объятиях своей супруги, поэтому порой он улыбался, а иногда даже прыскал со смеху. И немало сил приходилось положить, чтобы избавиться от наваждения и не расхохотаться до слез. Представить Лайлу в позе «двойной лотос» – со смеху можно умереть, это еще похлеще, чем увидеть ее на сеансе иглоукалывания у доктора Бхаттачарии – она похожа там на дикобраза. Впрочем, ему самому с Лайлой в позе лотоса было бы не до смеха. Под тяжестью ее могучих телес у него переломился бы хребет и не выдержали б ноги, или в самый ответственный момент она бы просто рухнула на него, раздавив в лепешку.
Окончательно проснувшись, полузадушенный и потный, мистер Булабой высвободил голову и взглянул на жену. Она спала богатырским сном. Но гудение и посвист не утихали. Губы ее то вытягивались трубочкой, словно во сне она сдувала пух с одуванчиков, то бессильно опадали после выдоха. Брови сурово насуплены: не иначе близятся грозовые раскаты мигрени, значит, еще одно утро испорчено. Проснется она – и мужу несдобровать. Лучше убраться подобру-поздорову, пока не поздно. Он придумал особые приемы, как, не тревожа сон жены, убираться посреди ночи к себе в комнату. Миссис Булабой любила спать одна. И по опыту мистер Булабой знал, что, застань его утром супруга рядом с собой в постели, цветок любви, что изредка все же распускался, сразу увянет. И даже если она, обессилев (еще бы, с удовольствием думал в такие минуты мистер Булабой, я не ударил лицом в грязь), не отсылала его прочь, лучше все же ретироваться.
Ему еще не доводилось покидать супружеское ложе поутру, когда сквозь занавески проникали первые рассветные лучи, высвечивая нежные темные усики на верхней губе жены. Впрочем, ночь ли, утро ли, а приемы все те же: по возможности отыскать на исполинской груди сосок, поцеловать его, издав при этом томный вздох. Лайла обычно отвечала при этом звуками более выразительными. Нужно затем высвободить собственную, затекшую до одеревенения руку (что тоже стоило немалых трудов). Далее рука перекладывалась на бедро или какую другую доступную часть тела. Расслабляться при этом нельзя: Лайлу подобный прощальный и многообещающий ритуал приводил в трепет. Сегодня она тоже «затрепетала»: громко застонав, грузно приподнялась несколько раз на постели и перевернулась на бок, ловко, по-борцовски, захватив голову мужа. Он обычно терпел, но сегодня было уж что-то очень больно. Вывернуться из тисков жены в общем-то не так уж и сложно, благо от пота тела их сделались скользкими. Нужно только терпение, и мало-помалу голова мистера Булабоя оказалась на свободе. Соскользнув с кровати, он привычно, стоя на коленях, стал шарить по полу в поисках пижамы. Однако не нашел и сразу проснулся окончательно. Поднялся на ноги – в голове сильно застучало, колени подогнулись, он снова очутился на полу и затих. Что это, снится ему, что ли? Вроде бы нет. Оглядев спальню в предрассветной мгле, он вдруг ясно вспомнил прошлую ночь.
Без толку искать пижаму, он ее с вечера вообще не надевал. В комнату Лайлы он пришел в одежде, которую обычно надевал к воскресной службе: строгий серый легкий костюм, белая рубашка, синий галстук, черные туфли, черные носки, белая майка и белые просторные трусы. Вон, все валяется кучей, в плачевном беспорядке – неслыханная беспечность: смотреть тошно, как лежат (и всю ночь пролежали!) смятые, скомканные его вещи, позабытые-позаброшенные. И некому было их собрать, отнести, развесить в удобном шкафу, где бы они разгладились и приняли вновь достойный вид.
Да, вон они – кучей на диване; он сам их побросал туда: днем Лайла любила там вздремнуть. Мистер Булабой на коленях подполз к дивану, собрал одежду – вещь за вещью, – стараясь не столкнуть кофейный столик, на котором красовались доказательства вчерашней попойки: пустая бутылка из-под джина, два стакана, в одном на треть выдохшегося джина с тоником, ведерко со льдом, переполненная пепельница, от одного вида которой мутит, два подноса с объедками: огромные тарелки с курицей под острым соусом, пловом, разными приправами: кувшин, где еще оставалась минеральная вода с застывшими пузырьками воздуха; поникшие ломтики лимона, три пивных бутылки, причем одна открытая, но не початая; пустая пачка из-под сигарет, полупустая коробка глазированных каштанов.
Неловко прижав к груди одежду, мистер Булабой все так же на коленях стал продвигаться к двери в собственную спальню – ни дать ни взять артист, игравший Тулуз-Лотрека в одном из немногочисленных фильмов, которые видел мистер Булабой (этот фильм очень советовал посмотреть мистер Томас – там стоящий канкан). Мистер Булабой выронил туфлю и замер, но миссис Булабой храпела по-прежнему. Чтобы открыть дверь, пришлось встать, но, войдя в свою комнату, мистер Булабой почему-то снова опустился на колени, подполз к стулу, аккуратно развесил одежду, закрыв дверь, запер на крючок, с трудом вскарабкался на постель, свернулся клубочком и закрыл глаза. Но тут же открыл: в тяжелой голове вспыхнули воспоминания вчерашнего дня.
* * *
Вчерашний день не сулил ничего плохого: воскресенье – выходной. Предстояла приятная церковная служба преподобного Стефена Амбедкара. Человек он, правда, беспокойный, и мистер Булабой даже побаивался его. Прежний священник, преподобный Томас Нарайан, приезжая на воскресные службы, чтобы утолить духовную жажду христианской общины в Панкоте, всегда останавливался «У Смита». Стефен Амбедкар лишь однажды заночевал в гостинице, впоследствии же почти всегда предпочитал гостить в семье Менектара, хотя те исповедовали другую веру. Зато христианином был их приятель – главный инспектор полиции в Ранпуре. Мистер Булабой опасался: не дай бог святой отец, проведя час-другой «У Смита» накануне своей первой службы, пожаловался полицейскому инспектору на условия, в которых приходилось коротать время и его предшественнику, преподобному Нарайану.








