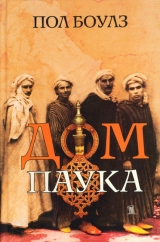
Текст книги "Дом паука"
Автор книги: Пол Боулз
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
– Скажи Махмуду, пусть принесет лампу, – обратился он к Лахсену; тот встал и, прежде чем выйти, отдал ему револьвер. Мулай Али спокойно положил его на стол рядом с машинкой и остановился, наблюдая за Амаром. Взяв деньги, он несколько раз щелкнул по ним ногтем. Потом, явно приняв какое-то решение, подошел к стоявшему на коленях Амару и тронул его за плечо. Амар поднял голову, но тут же спрятал жалкое, заплаканное лицо и ничего не сказал.
– Когда захочешь выговориться, – ласково произнес Мулай Али, – расскажи мне все.
Амар глубоко вздохнул и покачал головой.
– Какая от этого польза? – пробормотал он.
– Это уж мне решать, когда я все узнаю, – ответил Мулай Али уже не так ласково. – Я хочу услышать от тебя все, все, что ты делал с тех пор, как покинул мой дом.
Все еще вздыхая, Амар поднялся с пола и снова сел на подушку. Он рассказал, как добрался до Виль Нувель, о грозе, о заплутавшем автобусе, о ярмарке, об игрушечном матросе и обо всех прочих подробностях того вечера. Раз-другой он слышал, как Мулай Али хмыкнул, это приободряло его и заставляло продолжать свою повесть. Встреча с туристами, казалось, крайне заинтересовала его слушателя, он долго расспрашивал о них, но наконец попросил Амара продолжать, начав с того места, когда он шел с туристами и полицейскими по улице и услышал голос Бенани. В эту минуту дверь открылась, и вошел Махмуд с большой масляной лампой, которую он поставил на стол. Он уже хотел было выйти, но Мулай Али остановил его.
Свет лампы падал в лицо Амару.
– Наверное, хочешь перекусить, – сказал Мулай Али, заботливо на него глядя.
Амар, казалось, уже давно позабыл о том, что в мире существуют голод и жажда. И если он согласился, то только лишь из вежливости.
Махмуд вышел.
– Продолжай, – сказал Мулай Али. – Так тебе показалось, что Бенани решил, что тебя арестовали?
– Да, показалось, – ответил Амар и продолжал свой рассказ, слишком усталый, чтобы отличать существенные подробности от второстепенных, а потому просто упоминая все, что приходило ему в голову; резной потолок в гостиничном номере, болтливую леди, толстого француза официанта, который, всякий раз как хозяин выходил из комнаты, приносил ему, Амару, что-нибудь поесть, а пока он ел, все время щипал его за щеки, как ему удалось уговорить Мохаммеда Лалами поехать вместе в Сиди Бу-Хта, рассказав, что назарейка очень похотлива и переспала с ним прошлой ночью, и как Мохаммед, оставаясь наедине с ней, весь начинал дрожать, и болтал невесть что. «А потом мы ходили смотреть айсауа, и хадауа, и джилала, и хамача, и деркауа, и генауа и все эти мерзости, потому что назарею нравятся танцы». Он скривился при этом воспоминании. «Прямо тошнит смотреть, как все эти люди кривляются и прыгают, точно обезьяны».
– Да, конечно, – согласился Мулай Али. – Ну, а потом?
– Потом я услышал, как они говорят про то, что творится в медине, и мне захотелось домой.
– Но вместо этого оказался у меня. Почему? Может быть, ты понадеялся, что я помогу тебе пробраться в медину?
Амар ответил, что да, и Мулай Али рассмеялся, слегка польщенный его простодушием.
– Друг мой, – сказал он, – если бы я мог помочь тебе пробраться в медину, то я мог бы выставить всех французов из Марокко сегодня же утром. Продолжай.
Но Амар не слышал его. До него только сейчас дошел смысл сказанного Мулаем Али, он с отчаянием посмотрел ему прямо в лицо. Было бессмысленно говорить о своей сестре и матери. Таких сестер и матерей были тысячи. И все же он попытался как-то сказать об этом. Мулай Али только печально улыбнулся в ответ.
На подносе, который принес Махмуд, был хлеб и тарелка супа.
– Бисмилла, – пробормотал Амар и принялся машинально жевать хлеб. Мулай Али внимательно следил за ним поверх миски, наблюдая за тем, как просыпающийся голод постепенно отвлекает сознание мальчика. Он ничего не сказал, пока Махмуд не вошел со вторым подносом, на котором в большом глиняном горшке был тахин из баранины и баклажанов с лапшой.
– Быть может, я смогу помочь тебе, – сказал он наконец. – У меня есть кое-какие связи. Может, удастся узнать что-нибудь о твоей семье.
Амар удивленно уставился на него. Мысль разузнать что-то о своих домашних, не возвращаясь домой, не приходила ему в голову.
– Ты хотел бы этого? – спросил он. Амар ничего не ответил. Что проку было узнавать что-то о своей семье, если он все равно не мог оказаться сейчас рядом и увидеть их всех собственными глазами? И как он может доверять каким-либо новостям, плохим или хорошим? Но он видел, что Мулай Али изо всех сил старается ему помочь, а потому сказал: «Я буду очень рад, Сиди».
– Посмотрю, что мне удастся. А теперь рассказывай дальше.
Больше почти и нечего рассказывать, сказал Амар. Мохаммед и дама говорили по-французски о боях в медине. Прислушиваясь к их разговору, он очень расстроился. А когда Мохаммед вышел, дама подозвала Амара, раскрыла бумажник и, убедившись, что никто не видит, сунула ему пачку денег. Когда он стал описывать, какие жесты делала леди, чтобы дать ему понять, что речь идет о пистолете, Мулай Али прервал его, восхищенно воскликнув: «Ай, толковая баба!» Когда же он дошел до поездки на автобусе и того, как всех горцев забрали в тюрьму, Мулай Али, резко помрачнев, сказал: «Что ж, чем хуже, тем лучше». Амар очень удивился, потому что ожидал совсем иной реакции. Возможно, чувствуя это, Мулай Али почти сразу добавил:
– Когда они вернутся в горы, каждый из них, произнося слово «француз», не будет чувствовать ничего кроме ненависти.
Амар задумался на минутку.
– Это верно, – согласился он. – Но некоторых убили.
– Они погибли за свободу, – отрезал Мулай Али. – Помни об этом.
Какое-то время они сидели молча. Через открытые окна крепнущий ночной ветер донес издалека собачий вой. Амар глядел на искаженные отражения их движений в светлых стеклах, за которыми стояла тьма. Махмуд принес большую миску очищенных апельсинов, приправленных корицей и розовой водой. Когда трапеза была закончена. Мулай Али сел прямо, вытер рот салфеткой и сказал:
– Да, они погибли за свободу. И поэтому я не буду просить у тебя прощения за то, что был излишне груб. Это оскорбит их память. Я проявил подозрительность и ошибся, но я был прав, что проявил ее. Понимаешь? Первой моей мыслью было: нет, он не мог пойти к французам, ведь сделай он так, он ни за что бы не вернулся сюда.
– Вот видите, – сказал Амар, довольный.
– Но потом я подумал. Подожди. Они использовали его как проводника, вот почему он один. Сами же поджидают снаружи.
– О! – сказал Амар. Теперь он подумал, что если французы по какому-то ужасному и несчастливому стечению обстоятельств все же нагрянут в дом Мулая Али, тот наверняка заподозрит, что Амар к этому причастен. Этой мыслью он решил поделиться с Мулаем Али.
– О нет, нет, – ответил тот успокаивающе. – Если бы они пришли с тобой, уже давно ворвались бы в дом. Когда французы научатся терпеть и выжидать, верблюды будут молиться в Каруине.
Слова утешения тут же пробудили множество сил в душе Амара множество сил, и от этого ему непреодолимо захотелось закрыть глаза; он почувствовал, что мысли его цепенеют, а тело быстро сковывает неподвижность сна. Мулай Али продолжал говорить, но Амар различал только звук его голоса.
– Вставай, вставай, – произнес громкий голос. – Нельзя же, право, засыпать так.
Мулай Али поднялся и стоял над ним.
– Вставай и иди за мной, – сказал он. С фонариком в руке он провел Амара вниз по лестнице, через душную маленькую комнату на заднюю галерею, где на циновке лежал человек. Увидев Мулая Али, он заворчал и сел.
– Эй, Азиз, – негромко обратился к нему Мулай Али. Они двинулись дальше по неровному полу.
Открылась еще одна дверь, луч фонарика быстро обшарил пол и стены. На полу лежал матрас.
– Теперь, я думаю, ты проспишь до утра, – сказал Мулай Али.
– Иншалла, – ответил Амар. Потом, насколько осталось сил и чувств, поблагодарил Мулая Али и повалился на циновку.
– Lah imsik bekhir[161]161
Спокойной ночи (араб.)
[Закрыть], – сказал Мулай Али, закрывая дверь. За окном пели цикады.
Глава тридцать вторая
Бывают утра, когда глаз едва успевает уловить первый лучик света, а слух – первые нехитрые звуки, а сердце уже уверено, что существует в едином ритме с некоей беззвучной музыкой, знакомой, но забытой, потому что когда-то давно она прервалась, но сегодня вдруг послышалась вновь. Беззвучные мелодии пронизывают сознание, даже не всколыхнув его, как ветер, проходящий сквозь ячейки сети, но вместе с тем мы безошибочно чувствуем, что они здесь – в нас и вокруг. Человека, который никогда не знал подобного утра, его приход погружает в оцепенение.
Проснувшись, Амар услышал клекот гусей, заглушающий нежный щебет птиц, на мгновение прислушался к непривычным звукам, разносившимся по дому, – хлопанью дверей, разговорам слуг и шуму их работы, – и, не открывая глаз, погрузился в меланхоличные, но приятные воспоминания о детстве – иной жизни, завершившейся так давно в Хериб-Джераде. Ему припомнились мелкие происшествия, ни разу не всплывавшие в памяти с тех пор, и одно большое событие: как он подрался со Смайлом, своим единственным другом из окрестных мальчишек, который вместо того, чтобы ударить Амара, вцепился зубами ему в шею и разжал челюсти лишь после того, как подошедший мужчина надавал ему тумаков. До сих пор сохранились следы этих острых белых зубов; если бы парикмахер выбрил Амару волосы на затылке, отметины стали бы видны. В тот вечер старейшины из деревни с фонарями и факелами пришли извиняться перед его отцом и, самое главное, услышать слова прощения от Амара, потому что, откажись Амар, дела для них обернулись бы плохо, пока они не принесли бы подношение молодому Шарифу, которого обидел один из местных. И Амар действительно отказался, так как ему было еще очень больно, поэтому они явились и на следующий день, ведя красивую белую овцу; которую передали отцу Амара, чтобы их дома и посевы не постиг гнев Аллаха. Помнится, отец очень расстраивался. «Почему ты не хочешь простить Смайла?» – спросил он сына. «Я ненавижу его», – с яростью ответил Амар, и больше об этой истории не было сказано ни слова.
Он вспоминал реку и заводи у ее высоких глинистых берегов, где он играл; нарядную одежду, которую всегда надевал, когда они отправлялись на автобусе в Хериб-Джерад, потому что в те дни у них водились деньги и его мать не скупилась заказывать Амару накидки, штаны, фуфайки и башмаки у лучших портных и сапожников Феса. Он вспоминал, слушая птиц, певших совсем близко и вдалеке, и ему казалось, что сладкая печаль, которую он испытывал, будет длиться, покуда он жив, потому что она была частью его самого; он перестал быть собою, когда его оторвали от дома. Теперь он был никем, лежал на матрасе нигде, и не было нужды что-то делать, кроме как оставаться никем. Ненадолго он задремал, мягко соскальзывая в глубины сна, теряя из виду горизонты бытия, потом снова проснулся. Казалось, он плывет в ласковом океане, следуя воле волн.
Чуть позже дверь тихо отворилась: Мулай Али заглянул к нему по дороге в свой кабинет, но Амар дремал, и Мулай Али закрыл дверь и оставил его в покое. Потом он снова заглянул ближе к полудню, увидел, что Амар все еще не встал и решил разбудить его. Довольно бесцеремонно Мулай Али потряс его за плечо и сказал, что уже очень поздно; выйдя, он кликнул Махмуда, который отвел Амара, еще совсем сонного, в комнату, где стояла кадка с холодной водой и лежал кусок мыла. Тщательно умывшись, Амар окончательно проснулся. Он вышел на галерею, и почти сразу же появился Махмуд: он принес большой медный поднос и поставил его перед Амаром у дверей ванной комнаты.
– Поешь здесь, – сказал Махмуд. – Тут прохладнее.
Пока Амар управлялся с завтраком, на галерее показался Мулай Али. Виду него был усталый и несчастный.
– Доброе утро. Как спалось? – поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, прошел к себе в кабинет. Уже в дверях он обернулся и сказал: – У меня, может, будут для тебя новости, но позже.
Потом пришел Махмуд посмотреть, закончил ли Амар завтрак; но Амар еще ел, и Махмуд стоял, глядя на него.
– Знаешь, тебе нельзя выходить из дома, – неожиданно сказал он.
Известие не удивило Амара и даже не заинтересовало. В любом случае ему нечего было делать вне этих стен, не с кем видеться, некуда пойти: кругом были только оливковые деревья, жаркое солнце и стрекот цикад. Он был вполне доволен, что можно сидеть дома, равнодушно наслаждаясь бездельем, которое принес этот день.
Махмуд явно почувствовал его апатию, так что, поднимая поднос, сказал: «Пошли» и отвел Амара в большую комнату, где он когда-то сидел с другими мальчиками. Сегодня здесь царил еще больший беспорядок: на подушках валялись раскрытые газеты, полные окурков пепельницы стояли по всему полу, а в углу притулился столик с распотрошенным радио: детали были разбросаны вокруг пустого корпуса. На одной из подушек лежало несколько экземпляров египетского иллюстрированного журнала. Амар сел и стал наугад листать: в каждом были фотографии Марокко. Французские полицейские указывали на большой стол, заваленный пистолетами и кинжалами; раненным мусульманам оказывали; помощь на улице их соотечественники; ребенок бродил среди развалин взорванного дома; пятеро мусульман лежали в искаженных смертью позах на улицах Касабланки – автобусы и машины проезжали всего в нескольких шагах от мертвых тел, а французский солдат элегантно указывал на них фотографу кончиком ботинка. Непонятно было, отчего эти издания подвергают такому строгому запрету, тогда как точно такие же фотографии появлялись во французских журналах, продававшихся в лавках Виль Нувель. Но можно ли вообще постичь придуманные французами законы, если не предположить, что все они изданы с одной лишь целью: сеять тревогу и беспокойство, оскорблять и мучить мусульман? На других страницах были снимки египетских солдат в красивой форме, ведущих танки, проверяющих работу пулеметов, обучающих новичков технике метания фанат, наблюдающих за маневрами армии в пустыне и марширующих в шортах цвета хаки по роскошным улицам Каира. Все выглядели счастливыми и здоровыми; женщины и девушки приветственно махали из окон домов. Амар вновь раскрыл журнал на фотографиях Марокко, испытывая мазохистское наслаждение от контраста между сценами разрушений и смерти и взводами победоносно марширующих солдат.
Амар оглядел комнату, в ней ему почудилась суть печальной заброшенности Марокко. Магриб-аль-Акса – Крайний Запад – таково было название его страны. Да, именно край, дальняя граница ислама, за которой не было ничего, кроме пустынного моря. Жителям Марокко оставалось только с тоской и завистью следить за славными событиями, преображающими облик других мусульманских стран. Страна их напоминала огромную тюрьму, узники которой почти утратили надежду на свободу, и все же отец Амара помнил ту пору, когда она была самой богатой и прекрасной землей во всем исламском мире. И даже сам Амар помнил грушевые и персиковые деревья, росшие в садах за городскими стенами возле Баб Сиди Бу-Джиды, до того как французы повернули русло реки, направив воду на собственные земли, и деревья засохли под лучами летнего солнца.
В комнату проник резкий запах керосина: кто-то неосторожно пролил его, наполняя лампы. Амар поднялся и стал бесцельно бродить по комнате. Да, она была миниатюрным воплощением Марокко; отсюда даже нельзя было выглянуть наружу, так как окна располагались намного выше человеческого роста. Подойдя к двери, Амар прислушался к протяжному жужжанию пчел, смутно думая о том, хватит ли силы их яда, чтобы убить человека, если тот попытается разрушить их гнезда.
На пороге появился Мулай Али; он шел по задней галерее и, заметив Амара, подошел к нему и взял за руку.
– Зря ты пришел сюда, – сказал он. – Отпустить я тебя не могу, а сидеть взаперти тебе скоро надоест. – Он завел Амара обратно в комнату и закрыл дверь. – Однако в мире сегодня творится что-то ужасное, просто что-то ужасное. – Сказав это, Мулай Али достал из кармана узелок с деньгами Амара, пачку банкнот, которую дала назарейская дама, и пакетик кифа, купленный в кафе «Беркан» для Мустафы. Потом быстро, почти с отвращением сунул пакетик в руку Амара. – Зачем тебе эта дрянь? – спросил он. – А я-то считал тебя умным парнем.
Амар, который напрочь забыл о пакетике, с ужасом увидел его у себя на ладони.
– Но это не мое! – воскликнул он, глядя на киф.
– Я нашел это у тебя в кармане.
– Это для брата. Я купил для него.
– Если бы ты любил своего брата, то, наверное, не стал бы заковывать его в кандалы?
Амар не нашелся с ответом. Мулай Али ясно высказал то, на что Амар только смутно надеялся: киф станет цепью, которая скует Мустафу. Если изображать невинность, он будет выглядеть безнадежным глупцом в глазах Мулая Али, если сказать правду, он, возможно, покажется ему бесконечно испорченным. Мулай Али стоял, выжидающе на него глядя.
– Мы с ним не очень то ладили, – наконец пробормотал Амар.
Выражение на лице Мулая Али быстро менялось.
– Хочешь сказать, – недоверчиво произнес он, – что твоему брату нравится киф и ты специально достаешь его, чтобы подорвать его здоровье и ослабить ум – так, чтобы он ни на что не был годен? Так?
Амар смущенно признал, что именно таков был его план. Раз уж он рассказал Мулаю Али обо всем, можно сказать и об этом.
– Но брат уже и так ни на что не годится, – пояснил он, – и вообще я ему его не давал.
Мулай Али тихо, протяжно присвистнул.
– Ну, мой друг, ты просто молодой сатана. Это все, что я могу сказать. Сатана на все сто. Однако вот твои деньги. Возьми, а то я могу позабыть.
Уже в дверях он повернулся и погрозил Амару пальцем.
– И не вздумай купить на них пистолет, сматси? Если, конечно, не хочешь провести остаток дней в Айт-Базе.
Заметив, какой у Амара понуренный вид, он остановился и взглянул на него.
– Сегодня вечером должны прийти несколько друзей, если, конечно, их прежде не убьют или не арестуют. Они споют для тебя песню. Ты слышал песню про Айшу бент Айссу?
– Нет, – ответил Амар. Известие о появлении новых людей слегка скрасило день.
– Тебе обязательно нужно услышать эту песню, – сказал Мулай Али, выходя.
Чуть позже неряшливо одетый мальчик принес поднос с фруктами, хлебом и медом, ухмыльнулся, глядя на Амара, и снова вышел. Амар жадно принялся за еду. «Ed dounia mamzianache, – сказал Мулай Али, – в мире творится что-то ужасное». Вряд ли мир мог сильно измениться к худшему со вчерашнего дня, подумал Амар, но мрачные предчувствия охватили его, и ему стало страшно. Поев, он убрал газеты и журналы с самого удобного тюфяка, лег, свернувшись калачиком, долго глядел на небесную синь за дальним окном и наконец закрыл глаза. Так он пролежал до вечера, охваченный меланхолией, бороться с которой помогало только воспоминание о словах Мулая Али, что вечером, возможно, заглянут друзья, а стало быть, удастся хоть с кем-то поговорить.
К вечеру, когда свет в небе за квадратами окон померк и жизнь угасла в душной комнате, охватившая Амара печаль стала сильнее, превратилась в головную боль, сжала горло; он почувствовал, что ничто не в силах умерить ее – даже если рыдать дни напролет, даже если умереть. Однажды, давно, когда они с отцом бродили по Зекак аль-Хаджару, где сидят нараспев тянущие свои мольбы нищие, протягивая к прохожим руки в струпьях и демонстрируя увечья, отец сказал Амару: «Когда человек умирает и его хоронят, и ничто уже больше не связывает его с этим миром, его друзья возносят хвалы за то, что он наконец свободен. Но когда влачится по улицам человек, у которого нет друзей, нечем прикрыть свою наготу, негде преклонить голову, нет даже куска хлеба, живой, но уже не совсем живой, мертвый, но еще не умерший, – вот самое страшное наказание Аллаха по эту сторону огненной геенны. Взгляни и ты поймешь, почему раздача милостыни является одним из пяти столпов ислама». Они остановились, и Амар принялся разглядывать нищих, испытывая, впрочем, только смешанное с любопытством отвращение при виде одного из них, чьи губы распухли, превратившись в огромные синевато-красные пузыри, закрывавшие почти все лицо. В его детском уме возникла мысль: что за странное существо Аллах, которое играет с людьми такие шутки.
Теперь ему припомнились слова отца. Такая же жалкая, участь вскорости постигнет и его, и всех, но между ними не будет даже порожденной страданием общности, заставляющей нищих помогать друг другу на улицах (когда люди с сухоткой, как больные собаки, ползут впереди, служа поводырями слепцам), потому что каждый будет ненавидеть и бояться ближнего, и никто не будет знать, кто соглядатай, а кто нет, по той простой причине, что каждый, купленный на ту же приманку или подвергнутый той же пытке, будет способен предать ближнего.
Какое-то время предметы в комнате сохраняли четкость очертаний, связанные последними отблесками света, затем контуры их стали более размытыми, предметы теряли цельность, залитые пепельной мутью, и наконец канули во тьму. Амар лежал не шевелясь, преисполненный жалости к себе. Человеку, привыкшему к полной народа медине, непросто сидеть взаперти в загородном доме, но оказаться к тому же в темноте, не имея возможности даже зажечь свет, это было уже чересчур. Но вот на галерее послышались шаги, и миг спустя дверь отворилась. Луч фонарика пробежался по циновкам, выискивая ту, на которой лежал Амар.
– Эй, ты там уснул, что ли?! – послышался удивленный возглас Мулая Али. Амар ответил, что не спит.
– Но что ты делаешь в темноте? И где Махмуд? Почему он не принес лампу?
Амар, для страдающего «я» которого подобная заботливость была истинным бальзамом, объяснил, что не видел Махмуда уже несколько часов – точнее, после завтрака.
– Уж прости его, – сказал Мулай Али, по-прежнему стоя на пороге. – У него сегодня было много дел. Да и все в доме были очень заняты.
– Конечно, – ответил Амар.
Мулай Али предложил ему подняться в кабинет, чтобы проследить за прибытием гостей, которые должны были появиться на проселочной дороге, со стороны Рас-эль-Ма. Пока они, пройдя через пыльную маленькую комнату, поднимались по лестнице, Мулай Али объяснял: «Просто соберутся несколько друзей. Даже когда идет война, человек должен временами веселиться». Впервые Амар услышал, что беды последнего времени называют войной; это слово его вдохновило. Возможно, среди тех, кто придет, окажутся люди, сегодня собственными руками убивавшие французов – герои, которых можно увидеть разве что в журнале или в кино.
Фитиль стоявшей на столе лампы был прикручен так, что она давала только приглушенный желтый свет. Усевшись на подушки, они разговорились, причем Мулай Али то и дело поглядывал в ту сторону, где должны были появиться огни.
– Плохо быть нетерпеливым, – заметил он вскользь, – но сегодня я сам не свой от нетерпения. При такой работе и в такие времена каждый день можно считать за год. Ты знаешь положение с утра, а к вечеру все меняется, и все приходится изучать заново. Но, в конечном счете, побеждает тот кто сумел лучше других во всем разобраться.
Амар поглядел на холеное лицо Мулая Али. Ясно был что он так разговорился оттого, что нервничает. Понятно было и то, что он считает себя кем-то вроде генерала в этой борьбе, которую называл войной, и что окружающие воспринимают его именно так. Но генерал не живет в уютном доме со множеством слуг и не проводит время за пишущей машинкой и чтением, продолжал размышлять Амар; на лучшем коне, с самой красивой саблей в руках мчится он впереди своих войск, вдохновляя их отвагу и готовность отдать жизнь. Для этого-то и существуют генералы, они должны подавать пример. Однако, не высказывая своих тайных мыслей вслух, он просто тихо сидел, пока не услышал, как Мулай Али удовлетворенно проворчал: «Ага, наконец-то», – и выпрямился, вглядываясь в ночную тьму. Амар посмотрел в том же направлении, ничего не увидел, но продолжал внимательно наблюдать, пока наконец не различил несколько огоньков, передвигавшихся неравномерно, то исчезавших, то появлявшихся вновь, с каждым разом все ближе.
– Но это не машина, – удивленно сказал он.
– Разумеется, нет, – ответил Мулай Али. – Они едут на ослах. Дорога слишком узкая. – Он встал. – Извини, я на минутку. Они вот-вот приедут. Надо посмотреть, готова ли большая комната.
Сидя один, в полутьме, Амар почувствовал, что сомнения его крепнут. Мулай Али, наверное, был очень хорошим человеком, но он не был мусульманином. Он никогда не говорил «иншалла» и «бисмилла», пил вино, почти наверняка не молился, и Амар ничуть не удивился бы, узнай он о том, что Мулай Али ест свинину и не соблюдает Рамадан. И как такой человек решился возглавить мусульман в их борьбе с бесчинствами неверных?
Пока он думал так, появилось смутное воспоминание о другом человеке; это было всего лишь предчувствие, намек, тень, указание на то, что кто-то был рядом с ним и таинственным образом остается рядом, и, невольно сравнив эту ауру с той, что окружала Мулая Али, Амар решил, что она лучше. Все это происходило в потемках его души, сам же он сознавал только некое беспокойное чувство, источник которого и не пытался определить. Но как запах дыма может предупредить об опасности человека, погребенного в глубинах сна, так же и это незримое присутствие кого-то, которое он ощущал как некое внутреннее беспокойство, нашептывало ему о близкой опасности – какой именно, он не знал.








