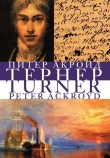Текст книги "Процесс Элизабет Кри"
Автор книги: Питер Акройд
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Глава 6
Дэна Лино часто называли самым смешным человеком того времени, да и всех времен; однако, может быть, точнее всех о нем отозвался Макс Бирбом в «Сатердей ревью»:
«Берусь утверждать, что всякому, кто видел Дэна Лино, он полюбился с первого взгляда. Вот он выскакивает на сцену с обычной своей отчаянной решимостью, всем перекрученным телом и каждым жестом неудержимо изливая некую горькую обиду, – и уже миг спустя все сердца принадлежат ему… этому несчастному, забитому человечку, облапошенному, но задиристому, с таким писклявым голоском и такими размашистыми движениями, гнутому, но не сломленному, хилому, но настырному, воплощающему в себе волю к жизни в мире, не стоящем того, чтобы в нем жить…»
Он родился в доме номер четыре по Ив-корт поблизости от старой церкви Св. Панкратия до того, как Центральная железнодорожная компания возвела на этом месте вокзал; странным образом он появился на свет в тот же день, что и Элизабет Кри, – двадцатого декабря 1850 года.[2]2
Акройд сместил год рождения Лино на десять лет. В действительности он родился в 1860 г., умер в 1904 г.
[Закрыть] Его родители были «люди театра» – они концертировали в различных мюзик-холлах и варьете как «мистер и миссис Джонни Уайлд, певческий и актерский дуэт» (Дэна Лино в действительности звали Джордж Гэлвин, но он очень скоро отказался от этого имени; точно так же Элизабет Кри никогда не выступала под фамилией матери). Их сын впервые вышел на подмостки четырех лет от роду в паддингтонском мюзик-холле «Космотека», и первый сценический наряд мать ему сшила из старого шелкового каретного тента. На этой ранней стадии своей карьеры он был означен в афишах как «трюкач, штукарь и дока по части перевоплощения», и действительно, он очень чисто исполнял ряд номеров, особенно тот, в котором изображал штопор, открывающий винную бутылку. В восемь лет он сделался в афишах «великим малышом Лино» (всю жизнь он оставался очень малорослым человеком), а через год уже славился как «великий малыш Лино, квинтэссенция комизма кокни» или же как «мастер разговорного жанра, воплотитель лондонских характеров». К осени 1864 года, когда Элизабет впервые его увидела, он уже выработал тот неповторимый юмор, который сделал его знаменитым. И как же вышло, что спустя менее чем двадцать лет полицейские из Лаймхаусского отделения заподозрили его в том, что он и есть Голем-убийца из Лаймхауса?
Глава 7
Ниже приводятся отрывки из дневника мистера Джона Кри, проживавшего в Нью-кросс-виллас, что в южном Лондоне; дневник ныне хранится в отделении рукописей Британского музея с шифром Add. Ms. 1624 /566.
6 сентября 1880 года.
Утро сегодня было прекрасное, солнечное, и я почувствовал, что убийство стучится в дверь. Мне необходимо было затушить этот огонь, и я взял кеб до Олдгейта, а оттуда пошел пешком в сторону Уайтчепела. Могу смело сказать, что я действительно жаждал боевого крещения, и мне пришло в голову начать сразу с новинки: испить последний вздох умирающего ребенка и проверить, вольется ли его юная душа в мою душу. О, в этом случае я жил бы вечно! Но отчего непременно ребенок, когда сгодится любая душа? Вот и опять я дрожу всем телом.
Я думал, что в районе Гэммон-сквер будет более людно, но обитатели этих убогих меблирашек готовы дрыхнуть хоть целый день, заглушая голод. В прежние годы они были бы на улице уже на рассвете, но в наше время устои рушатся повсеместно: до чего, спрашивается, мы докатились, если трудящиеся массы больше не считают нужным трудиться? Я свернул на Хэнбери-стрит, и вот она, эта вонь. Воздух насыщен отвратительным духом пирожковых лавок, где столь же обильно, как всегда, идет в дело кошачье и собачье мясо, где нет прохода от торговцев-евреев с их неизменным «Постойте, не убегайте» и «Как ваше самочувствие в такой чудный денек?». Впрочем, еврейскую вонь я еще могу терпеть, но вот запах ирландца, густой и тяжелый, как запах испорченного сыра, совершенно невыносим. Два таких субчика лежали мертвецки пьяные у кабака, и мне пришлось пересечь улицу, чтобы не задохнуться. Там я зашел в ветхую кондитерскую и на пенни купил лакричных леденцов, чтобы вычернить себе язык. Кто знает, где он еще окажется сегодня вечером. Потом у меня возникла другая замечательная мысль. До темноты оставался час-другой, и я точно знал, что совсем рядом, чуть в сторону реки, находится дом, ставший в 1812 году ареной незабываемых убийств на Рэтклиф-хайвей. В этом месте, столь же памятном и священном, как Тайберн[3]3
Тайберн – место в Лондоне, где в старину казнили преступников.
[Закрыть] или Голгофа, целая семья была таинственно и безмолвно препровождена в мир иной, после чего деяние совершившего это художника увековечил на своих страницах Томас Де Куинси. Джон Уильямс явился в дом Марров и стер их с лица земли, как стирают надпись с грифельной доски. Что могло быть приятнее для меня, чем прогулка по этой улице?
Для столь величественного преступления дом оказался слишком уж невзрачным – узкий фасад, в первом этаже магазин, над ним жилые комнаты. Этот самый Марр, чья кровь пролилась ради славы, был по роду занятий галантерейщик. Теперь тут расположился магазин ношеной одежды. Так, согласно Библии, оскверняются святые храмы. Недолго думая, я вошел и спросил хозяина, как идут дела.
– Неважно, сэр, – ответил он. – Неважно.
Я вперил взгляд в то место позади прилавка, где Уильямс раскроил череп одному из детей.
– Место как будто бойкое, разве нет?
– Так считается, сэр. Но здесь, на Рэтклиф-хайвей, легких времен не бывает. – Он смотрел, как я нагибаюсь и трогаю пол указательным пальцем. – Такому джентльмену, как вы, польститься здесь, пожалуй, не на что. Или я ошибаюсь?
– У моей жены есть горничная, и я ищу ей платье попроще. Есть у вас что-нибудь?
– Да, сэр, конечно, тут имеется много платьев разных фасонов. Эти, например, вполне еще смотрятся.
Он показал жестом на вешалки со старомодными обносками; я наклонился, чтобы вдохнуть их запах. Какую же затхлую плоть облегало это тряпье! И в этом вот помещении – может быть, на этих вот половицах – художник, алчущий новой крови, преследовал хозяйку дома.
– У вас есть жена, дочь?
Мгновение он смотрел на меня, потом засмеялся.
– А, понятно, о чем вы, сэр. Нет, они никогда этого не берут. Уж не настолько мы бедные.
Джон Уильямс тогда взбежал по этой самой лестнице и убил женщину ударом по голове, хоть она и перегнулась через каминную решетку.
– Тогда вас не должно удивлять, что я не возьму этого даже для горничной. Удачной вам торговли. Меня ждет еще дело в другом месте.
Я вышел на Рэтклиф-хайвей и не мог воспротивиться искушению взглянуть на окна второго этажа. Какие же чудеса совершились в этом замкнутом, ограниченном пространстве! И что, если бы они произошли вновь? Видывал ли город работу столь завершенную?
Но мне надо было начать с мелкой рыбешки, поймать и изжарить килечку. Начинало темнеть, и когда я вошел в Лаймхаус, уже стали загораться газовые фонари. Подходящее время, чтобы показать себя; но я пока что был учеником, подмастерьем, начинающим и не мог выйти на большую сцену без репетиции. Я должен был сперва отточить мастерство, улучив тайный час, выхватив его из суеты большого города; если бы я только мог отыскать уединенную рощицу и, уподобляясь некоему пасторальному существу, обагрить зеленый сумрак лондонской кровью! Но на это рассчитывать не приходилось. В моем собственном частном театрике, в ярком световом пятне под газовым фонарем – тут я должен был оставаться, тут мне надлежало играть. Но для начала сыграем за опущенным занавесом…
У входа в один переулок поблизости от театра «Лейбернум плейхаус» прохаживалась нахальная девчонка; навряд ли ей было больше чем восемнадцать-девятнадцать, но по уличным меркам она была уже в возрасте. Она хорошо усвоила Библию этого мира – можно сказать, сердцем; и каким оно, это сердце, может оказаться, если его извлечь с любовью и тщанием! Я последовал за ней, когда она двинулась к углу Глоблейн, где в меблированных комнатах обитают матросы. Видите, как я уже знаю город? Я заранее приобрел «Новый план Лондона» Марри и изучил все входы и выходы. Дойдя, она остановилась, и через минуту-другую к ней подошел рабочий, весь выпачканный кирпичом, и зашептал ей на ухо. Она что-то ответила, и вслед за тем началось быстрое движение; она повела его по Глоблейн к разрушенному дому. Когда они опять оказались на свету, на ней была пыль с его одежды.
Я подождал, пока они разошлись, и приблизился к ней.
– Пыльная, однако, у тебя работенка, лапочка моя, – сказал я.
Она усмехнулась, и в ее дыхании я почувствовал запах джина. Ее внутренности уже начали проспиртовываться, словно в банке хирурга.
– Мне разницы нет, – сказала она. – А вы при деньгах?
– Убедись сама. – Я вынул блестящую монету. – И на меня взглянуть не забудь. Джентльмен я или нет? Думаешь, я соглашусь валяться с тобой на улице? Мне требуется хорошая постель и четыре стены.
Она вновь усмехнулась.
– Ладно, джентльмен, но тогда надо задержаться у «Плечика».
– У плечика? Дай пощупаю.
– Джина нужно купить, сэр. Джина, и побольше, если хотите хорошо развлечься.
«Плечико» оказалось кабаком наихудшего сорта чуть в стороне от Уик-стрит, набитым всевозможными людскими отбросами Лондона. Как обычному человеку эта мерзость доставила бы мне удовольствие – я вскинул бы руки к небу и присоединился к общему богохульному воплю, – но как художник я должен был воздержаться. Мне нельзя было мелькать на публике перед сногсшибательным дебютом. Она заметила мое колебание и сказала с легким смешком:
– Вы, я вижу, и впрямь джентльмен, так и не надо вам туда соваться. Я родилась тут, сама дорогу найду.
Я дал ей денег, и через несколько минут она вернулась с ночным горшком, полным джина.
– Да чистый он, чистый, – сказала она. – Мы ничего в эти посудины не делаем. Улицы на что?
Она повела меня в ближайший двор размером не больше носового платка; начав подниматься по истертым деревянным ступеням, она споткнулась, и немного джина выплеснулось из горшка. Кто-то пел в одной из комнат, мимо которых мы шли, и слова старой песенки, звучавшей когда-то в мюзик-холлах, были знакомы мне так хорошо, словно я сочинил их сам:
Я час побыл с моей зазнобой
Наедине, наедине.
Из-за стряпни ее, должно быть,
Я полыхаю, как в огне.
Но на верхнем этаже все было тихо; там мы вошли в комнату, которую скорее можно назвать каморкой или клетушкой. На полу лежал засаленный тюфяк, на стены она приклеила фотографии Уолтера Батта, Джорджа Байрона и других кумиров сцены. В воздухе стоял застарелый дух алкоголя, крохотное окошко было кое-как занавешено рваной простыней. Итак, вот она, моя зеленая комната[4]4
Зеленая комната (green room) – артистическое фойе.
[Закрыть] – или, точней, красная. Вот где я впервые ступлю на мировую сцену. Она взяла грязную чашку, черпнула из горшка и выпила джин залпом. Я забеспокоился, как бы она не упустила потеху, которую я замыслил, но при всем том мне было совершенно ясно, что она желает так или иначе покинуть этот печальный мир. Кто я такой, чтобы останавливать ее или переубеждать? Я стоял неподвижно и смотрел, как она осушает новую чашку. Потом, когда она легла, я склонился над ней и начал счищать с ее платья грязь и кирпичную пыль. Выпитое привело ее в почти бессознательное состояние, но все же она сумела ухватить меня за руку, когда я до нее дотронулся. «Что вы собрались со мной делать, сэр?» И она опять погрузилась в забытье, и мне почудилось, что она разгадала мою игру и добровольно подставляет тело ножу. Ведь бывают же несчастные создания, которые, прослышав о холере, спешат в охваченные ею кварталы в надежде заразиться. Не из таких ли она? И если из таких, то не преступно ли будет оставить ее желание неудовлетворенным?
Мне ни к чему были следы ее крови на моей одежде, поэтому я снял плащ, пиджак, жилетку и брюки; на ее двери висело поношенное пальто, отороченное облезлым мехом, и я закутался в него прежде, чем вынуть нож. Эту прелестную вещицу с резной рукояткой из слоновой кости я купил на Хей-маркете в магазине Гиббона за пятнадцать шиллингов; жаль только, что ей суждено, побывав в человеческом теле, навсегда утратить первозданный блеск. Помню, как школьником я печалился, когда первая выведенная чернилами строчка губила чистоту новой тетради, – теперь мне вновь предстояло начертать мое имя, правда, иным инструментом. Она шевельнулась лишь после того, как я извлек кусочек кишки и нежно на него подул; она издала звук, похожий на стон или вздох, – впрочем, сейчас, восстанавливая сцену перед мысленным взором, я думаю, что это могла быть ее душа, оставляющая земные пределы. Она открыла глаза, и мне пришлось вынуть их ножом из страха, что мой облик выжжен теперь на них навеки. Я окунул ладони в ночной горшок и смыл ее кровь ее же джином; потом в приступе буйной радости я сел на горшок и облегчился. Дело было кончено. Я изверг ее из мира, затем изверг из себя кал. Мы оба стали порожними сосудами, ожидающими Господа.
7 сентября 1880 года.
Дозволено ли мне будет процитировать Томаса Де Куинси? На страницах его эссе «Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств» я впервые прочитал о смертях на Рэтклиф-хайвей, и с той поры это произведение стало для меня постоянным источником восторга и изумления. Кто может остаться равнодушным к портрету Джона Уильямса? Убийцы, вершившего свои дела из «чистого сладострастия, без единой мысли о выгоде» и создавшего кровавую трагедию, достойную пера Мидлтона или Тернера?[5]5
Томас Мидлтон (1570?-1627) и Сирил Тернер (1575?—1626) – английские драматурги.
[Закрыть] Погубитель семьи Марров был «одинокий художник, свивший гнездо в сердце Лондона и черпающий силу в своем собственном осознанном величии», – художник, сделавший Лондон одновременно мастерской и галереей для демонстрации своих шедевров. И до чего тонко объясняет Де Куинси ярко-желтый цвет волос Уильямса – «посредине между оранжевым и лимонным» – тем, что он красил их, намеренно создавая контраст к «бескровной, призрачной бледности» своего лица! Я в восхищении обхватывал и сжимал себя руками, впервые читая о том, как он наряжался для каждого убийства – словно для выхода на сцену: «Готовясь к очередному грандиозному кровопролитию, он всегда надевал черные шелковые чулки и лакированные туфли; ни при каких обстоятельствах он не унизил бы себя как художника затрапезным платьем. После его второго ярчайшего спектакля тот, кому, как увидит в дальнейшем читатель, было суждено стать, дрожа от смертельного ужаса в потайном месте, единственным выжившим свидетелем его зверств, особо отметил в устных и письменных показаниях, что на мистере Уильямсе был долгополый синий сюртук из роскошного материала на великолепной шелковой подкладке». Но довольно – я искренне рекомендую читателю этот труд. Так, кажется, говорят в подобных случаях?
8 сентября 1880 года.
Целый день дождь. Читал Теннисона моей дорогой женушке Элизабет перед отходом ко сну.
Глава 8
Элизабет Кри. Я предполагала, что у мужа желудочное воспаление. Поэтому я посоветовала ему послать за врачом.
Мистер Грейторекс. Часто он раньше жаловался на нездоровье?
Элизабет Кри. Он постоянно страдал желудком; мы приписывали это газам.
Мистер Грейторекс. В тот вечер он получил какую-нибудь медицинскую помощь?
Элизабет Кри. Нет. Он отказался.
Мистер Грейторекс. Отказался? Почему?
Элизабет Кри. Он сказал, что в ней нет необходимости, и попросил меня дать ему известковой воды.
Мистер Грейторекс. Странная просьба, не правда ли, для человека, страдающего такими жестокими болями?
Элизабет Кри. Я думаю, он хотел омочить этой водой лоб и виски.
Мистер Грейторекс. Не расскажете ли вы суду, что произошло дальше?
Элизабет Кри. Я спустилась вниз приготовить питье, после чего вдруг услышала шум из его комнаты. Я тут же вернулась и увидела, что он упал с кровати и лежит на турецком ковре.
Мистер Грейторекс. Сказал он вам что-нибудь?
Элизабет Кри. Нет, сэр. Я видела, что ему трудно дышать и что губы у него покрылись пеной.
Мистер Грейторекс. И что вы тогда сделали?
Элизабет Кри. Я позвала нашу горничную Эвлин и велела ей присмотреть за ним, пока я схожу за врачом.
Мистер Грейторекс. Сказали ли вы соседу, которого встретили по дороге, что Джон себя погубил?
Элизабет Кри. Я была в такой горячке, сэр, что мне трудно вспомнить, что я говорила. Я даже забыла надеть капор.
Мистер Грейторекс. Продолжайте.
Элизабет Кри. Быстро, как только могла, я привела нашего врача, и мы вместе вошли в комнату мужа. Эвлин стояла, склонившись над ним, но я сразу поняла, что он скончался. Врач понюхал его губы и сказал, что нам следует известить полицию, коронера или кого-то еще в подобном роде.
Мистер Грейторекс. Почему он так сказал?
Элизабет Кри. Он заключил по запаху, что мой муж выпил синильную кислоту или другой яд и поэтому нужна посмертная экспертиза. Естественно, я была поражена, и мне потом сказали, что я лишилась чувств.
Мистер Грейторекс. Но почему несколькими минутами раньше вы крикнули на улице соседу, что ваш муж погубил себя? Как вы могли сделать такой вывод, если вы в тот момент еще полагали, что он страдает всего лишь желудочным заболеванием?
Элизабет Кри. Как я уже объяснила инспектору Карри, сэр, он раньше не раз угрожал самоубийством. У него был очень мрачный характер, и мне в моем смятении, должно быть, вспомнились эти угрозы. Я знаю, что на ночном столике у него лежала книга мистера Де Куинси об опиуме.
Мистер Грейторекс. Мистер Де Куинси, я полагаю, тут ни при чем.
Глава 9
Молодой человек, сидящий в читальном зале Британского музея, почувствовал, открывая свежий номер «Пэлл-Мэлл ревью», что его рука немного дрожит. Он поднес ее к щетинистым усикам, отметил идущий от нее слабый запах пота и стал читать; он хотел запечатлеть этот миг, ощутить его на вкус – миг, когда он впервые увидел свои собственные строки напечатанными и помещенными под толстую обложку солидного лондонского ежемесячника. Словно кто-то другой, более именитый, чем он, обращается к нему с этих страниц – но нет, это не что иное, как его эссе «Романтизм и преступление». Быстро проглядев написанные им по просьбе редактора вступительные замечания о мрачной сенсационности, присущей газетным репортажам, он с наслаждением перешел к главной части:
«В поисках плодотворной аналогии я бы хотел обратиться к эссе Томаса Де Куинси „Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств“, которое пользуется заслуженной известностью благодаря послесловию, посвященному необычайной теме – убийствам 1812 года на Рэтклиф-хайвей, когда в магазине, торгующем галантереей, была умерщвлена целая семья. Публикация этого эссе в „Блэквудсе“ вызвала критику со стороны тех представителей читающей публики, по мнению которых автор, приукрашивая ряд крайне жестоких убийств, тем самым принижает их трагическое значение. Действительно, Де Куинси, подобно некоторым другим эссеистам в начале нынешнего века (тотчас приходят на ум Чарльз Лэм и Вашингтон Ирвинг), порой вставляет прихотливые и даже легкомысленные пассажи в весьма серьезные и глубокие рассуждения; в его эссе встречаются места, где он, к примеру, окружает излишне ярким ореолом недолгие похождения убийцы, которого звали Джон Уильямс, и выражает недостаточно сочувствия к страданиям несчастных жертв. И все же вряд ли будет справедливо на одном лишь этом основании заключить, что само по себе подчеркивание красочности этих кровавых событий в каком-либо существенном смысле принижает или тривиализует их. Можно сделать прямо противоположный вывод: убийство семьи Марров в 1812 году получило некий апофеоз и обрело бессмертие в образной роскоши и ритмических взлетах прозы Томаса Де Куинси. Безусловно, читатели „Блэквудса“ также распознали присутствие под поверхностью богато украшенной прозы Де Куинси идей и представлений, полностью исключающих какие-либо попытки принизить гибель обитателей дома на Рэтклиф-хайвей».
На мгновение он остановился и просунул палец между шеей и жестким воротничком рубашки; что-то его словно душило, но, возобновив чтение, он вскоре перестал чувствовать какие-либо неудобства.
«Хорошо известно, что в разные эпохи на убийства и убийц смотрели по-разному. В убийстве есть своя мода, как есть она во всем, что связано с человеческим самовыражением; к примеру, в нашу эпоху частной жизни и домашней отгороженности популярным средством препровождения человека в мир иной стал яд, тогда как в шестнадцатом столетии из всех способов сведения счетов наиболее достойным мужчины и бойца считался удар холодным оружием. Формы, в которых человек выражает себя в культуре, весьма изменчивы, как доказывает в своей недавней работе Хукэм, поэтому нам, изучая эссе Томаса Де Куинси, следует принимать во внимание веяния времени. Необходимо отметить, что писатель был тесно связан с поколением английских поэтов, которые по всеобщему согласию определены как „романтики“; Колридж и Вордсворт были его близкими друзьями. На первый взгляд трудно характеризовать этим словом человека, обуреваемого картинами убийства и насилия, – и все же возникает цепочка весьма любопытных ассоциаций, ведущая от ужасного побоища в Лаймхаусе к миру „Прелюдии“ и „Полночного мороза“. Томас Де Куинси повествует об убийстве Марров в таком ключе, что убийца у него предстает во всем великолепии романтического героя. Джон Уильямс выступает как одиночка, обладающий тайной властью, как отщепенец и пария, в самом своем исключении из общественной иерархии и цивилизации, как таковой, почерпнувший невиданную мощь. В действительности это был ничем не примечательный бывший моряк, которому приходилось ютиться в дешевых меблированных комнатах и который по своей собственной неописуемой глупости в конце концов попался; но Де Куинси превращает его в жестокое, неотвратимо разящее древнее божество с ярко-желтыми волосами и мертвенно-бледным ликом. В основе романтического движения лежала вера в то, что плоды уединенного самовыражения чрезвычайно важны и способствуют раскрытию глубочайших истин, вот почему Вордсворт сумел создать из своих личных наблюдений и взглядов целую эпическую поэму. Джон Уильямс под пером Де Куинси становится Вордсвортом большого города, вдохновенным поэтом, который, в буквальном смысле кромсая по живому, переформирует наличную действительность согласно своим представлениям. Кроме того, литераторы, подобные Колриджу и Де Куинси, как все деятели культуры в начале нынешнего века, испытали сильное влияние немецкой идеалистической философии и вследствие этого проявляли особый интерес к фигуре „гения“, олицетворяющего напряженный, изолированный дух. Именно так Джон Уильямс был претворен в гения для своего собственного обособленного мира – гения, обладающего вдобавок преимуществом родственности идеям смерти и вечного безмолвия; достаточно вспомнить Джона Китса, которому во время убийств на Рэтклиф-хайвей было семнадцать лет, чтобы понять, какой силы может достичь этот образ одиночества». Библиотекарь принес и положил ему на стол две книги; молодой человек не поблагодарил его, только бросил взгляд на названия, потом пригладил волосы ладонью. Опять поднес руку к носу, понюхал пальцы и продолжил чтение.
«Берега прозы Де Куинси омываются и другими весьма мощными течениями. Разумеется, роковая фигура Джона Уильямса занимает автора в первую очередь, но он постарался представить читателю свое творение (каковым убийца, в сущности, является) на фоне громадного, чудовищного города; мало кто из сочинителей отличался столь острым и трагическим чувством места, и со страниц этого достаточно краткого эссе встает зловещий, сумрачный Лондон, прибежище таинственных сил, город шагов и вспышек во тьме, город каменных нагромождений, печальных переулков и наглухо запертых дверей. Лондон безмолвно, зловеще присутствует позади – или скорее даже внутри – самих убийств; Джон Уильямс словно бы становится ангелом-мстителем этого города. Откуда у Де Куинси такая одержимость, понять нетрудно. В самой своей скандально известной книге „Признания английского опиомана“ он вспоминает период своей жизни (прежде, чем он начал употреблять опиум), когда он был бездомным лондонским бродягой; ему тогда было только семнадцать лет, и он сбежал из частной школы в Уэльсе. Добравшись до столицы, он тут же попал в ее мощные, безжалостные жернова. Он голодал; раз, устроившись на ночлег в полуразрушенном доме около Оксфорд-стрит, он обнаружил там „несчастную одинокую девочку, на вид лет десяти“, которая „жила и ночевала там совсем одна некоторое время до моего появления“. Ее звали Энн, и она испытывала постоянный и непреодолимый страх перед духами, которые будто бы окружали ее в этом ветхом строении. А воображению Де Куинси не дает покоя сама эта городская артерия – Оксфорд-стрит. В его „Признаниях“ она предстает улицей печальных тайн, „призрачного света фонарей“ и звуков шарманки; он описывает колоннаду, под которой с ним случился голодный обморок, и угол, где они встречались с Энн, чтобы утешать друг друга посреди „бескрайнего лондонского лабиринта“. Вот почему город и его неприкаянность в нем стали – если нам позволено будет позаимствовать фразу у великого поэта современности Шарля Бодлера – ландшафтом его воображения. Этим внутренним миром насквозь пронизано эссе „Взгляд на убийство как на одно из изящных искусств“ – миром, самыми сильными элементами которого являются страдание, бедность и одиночество. Кстати, на той же Оксфорд-стрит он в первый раз купил опиум; эта древняя дорога, можно сказать, прямиком привела его к тем кошмарам и фантазиям, что превратили Лондон в некое могучее видение, родственное видениям Пиранези, в каменный лабиринт, в пустыню слепых стен и дверей. Ведь именно такую картину он нарисовал много лет спустя, когда жил на Йорк-стрит у „Ковент-Гардена“.
Прослеживается еще одна любопытная и прихотливая связь между убийством и романтическим движением. „Признания“ Де Куинси были поначалу опубликованы анонимно, и одним из тех, кто приписывал себе их авторство, был Томас Гриффите Уэйнрайт. Уэйнрайт был чрезвычайно тонким критиком и журналистом: к примеру, он, в числе лишь немногих людей своего времени, сумел распознать гений малоизвестного тогда Уильяма Блейка. Он даже превознес „Иерусалим“, последнюю эпическую поэму Блейка, которую современники в один голос назвали бредом сумасшедшего, расположившего Иерусалим – где бы вы думали? – на Оксфорд-стрит! Уэйнрайт был также восторженным почитателем Вордсворта и других поэтов „озерной школы“; но имелась у него еще одна особенность, отмеченная Чарльзом Диккенсом в рассказе „Пойман с поличным“ и Булвер-Литтоном в „Лукреции“. Уэйнрайт был отъявленным и закоренелым убийцей, тайным отравителем, который, разделавшись с членами своей семьи, обратился затем к случайным знакомым. Он читал стихи днем и травил людей ночью».
Джордж Гиссинг отложил журнал; он еще не дошел до конца эссе, а уже заметил три синтаксические ошибки и несколько погрешностей стиля, что огорчило его больше, чем он мог предполагать. Как можно было выпустить в свет свое первое эссе в таком корявом виде? Прилив надежд и оптимизма начал уступать место прежнему унынию, и он закрыл «Пэлл-Мэлл ревью» со вздохом.