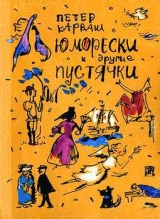
Текст книги "Юморески и другие пустячки"
Автор книги: Петер Карваш
Жанры:
Прочий юмор
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Поскольку при этих словах посетитель явно воспользовался жестикуляцией, предназначенной только для особо торжественных случаев, а свои ультимативные идеи выпускал в пространство как послания в запечатанных бутылках, я счел необходимым сообщить ему – и опять же невзирая на загруженность нашего учреждения неотложными делами (к тому же тем временем принесли газеты) – о современном состоянии систематически ведущейся борьбы с загрязнением атмосферы, а также заверить его, что в данном направлении делается все, что в человеческих силах и в бюджете на текущий квартал, как свидетельствует ежедневная и периодическая печать.
В дальнейшем слова Кодоня приобрели привкус сигарет, свернутых из чертополоха, особенно когда он заметил, что я, по-видимому, все еще не понимаю, чего он добивается, и предположил, что ему, похоже, придется добыть стрелу с ядом кураре и отравить слона индийского, гордость нашего зоопарка, влетевшую нам в огромные деньги, чтобы я наконец сообразил.
Я уж было хотел официально выставить его из помещения за умаление достоинства официального лица, когда он пустился в объяснения, которые настолько заинтересовали меня, что я отказался от вышеупомянутого намерения или, во всяком случае, временно отложил его осуществление. Было уже очевидно, что если Кодонь Фридрих и дурак, то это самый интеллигентный дурак, какого я видел когда-либо на скамье подсудимых. Если он и был бациллоносителем скандалов и чудачеств, то все же шел к своей цели так бесстрашно, что нельзя было не почувствовать определенных симпатий к нему (хотя и в неофициальном порядке).
Он, мол, избрал наглядный и однозначный пример материального характера только потому, что уже имел дело с бюрократами определенного сорта («зная эту гоп-компанию», выразился он, намекая на неизвестную мне организацию, о которой я уведомил соответствующие инстанции сразу же после ухода Фр. Кодоня) и с их сообразительностью. Прецедент, который он решил создать после долгих и основательных размышлений, естественно, затрагивает не только отравление живого организма ядовитым химическим веществом (интоксикацию), но и яды и отравления в более широком смысле, и не только в области биологии, гигиены и здравоохранения, а даже главным образом помимо этих сфер. Хотя я не все понимал, звуки его слов и вместе с ними какое-то предчувствие застряли у меня в почках или в нервной системе и продолжали там торчать как гарпун небольшого калибра.
Конечно же, ваше учреждение, продолжал аргументировать Фр. Кодонь, не теряя времени и не переводя дыхания (тут я невольно налил ему стакан воды), сделает все, чтобы никто не посмел отравить соседских кур или, скажем, пару не очень эстетичных ворон в парке имени Елены Мароти-Шолтесовой. В то же время ни мы сами, ни какой-нибудь действующий закон, или постановление, или указ никак не могут воспрепятствовать тому, что он, Фр. Кодонь, так же, как миллионы остальных граждан, превращается в ходячий склад вредных веществ, то есть в своего рода живой труп (надо же хоть раз процитировать классика), пропитанный продуктами распада шин, средств для натирания паркета и элегантных мыльниц.
Уже эта часть выступления Фр. Кодоня оставила на моей душе следы, какие бывают после грубо сдернутого лейкопластыря, но вышеназванный даже не сбавил темпа, причем его начали окружать испарения самодовольства, одержимости правдой и вообще мании.
Но если бы даже наше законодательство (так продолжал Кодонь) и наша исполнительная власть вдруг в понедельник (4. XI) в полдень эффективно приняли меры против цементных заводов, которые осыпают пагубной цементной пылью сады, пастбища, молочные кухни, кладовки и детские садики в радиусе двух световых лет, а также против нефтеперегонных заводов, отравляющих спальни молодоженов и столицы настолько, что на этих морях яда могли бы плавать живописные плоты, – ну что ж (тут Фридрих Кодонь зациклился в своей страсти), никто и никогда ничего не предпримет против отравления, например, души. Хотя согласно всем прежним идеалистическим и материалистическим мировоззрениям человеческая душа как-никак более ценный товар, чем, скажем, ворона или даже обезьяна-капуцин. Тут посетитель спросил, согласен ли я с этой точкой зрения.
Когда я уклончиво призвал его выражаться пояснее, посетитель указал, что, подобно тому, как атмосфера изобилует всеми разновидностями вредных веществ в твердом, жидком и газообразном виде, ими насыщена и определенная часть нашей духовной пищи, хотя это и менее доказательно. Атмосфера промышленных центров, утверждал Фр. К., – райский фимиам по сравнению с некоторыми областями нашей духовной атмосферы, по сравнению с кой-какими романами, фильмами, скульптурами, картинами, а о музыкальном театре легкого жанра и говорить нечего, хотя и забывать о нем тоже нельзя. Конечно, Фридрих Кодонь не хочет обобщать, но о некоторых произведениях этого нельзя не сказать. Эти представления не так уж сильно отличались от моих собственных, я готов был голосовать за них обеими руками.
Однако если (тут в голосе Кодоня зазвучал металл) – а) против изготовителя непригодных штопоров, поставщика несвежих сардин или неисправных мотоциклов можно применить действенные санкции; б) если есть основания надеяться, что завтра на детские площадки позволено будет выпускать вдвое меньшее по сравнению с сегодняшним днем, но все еще убийственное количество золы-уноса, иприта или еще чего-то в этом духе; в) и если за обезьяну, антилопу и прочих пернатых присутствующий здесь Кодонь Фр. отсидит – как он твердо надеется – срок, назначенный компетентным судом в соответствии с действующими положениями закона и с учетом очевидных смягчающих обстоятельств, то против жалкой, бездарной книжки, пошлого кинофильма, идиотского шлягера и неудобоваримой теле – или радиопрограммы нет абсолютно никаких возможностей судебного преследования, защиты или законных реторсий, то бишь адекватных ответных мер.
Именно это и есть та отправная точка, из которой исходят соображения Кодоня Фр. и из которой проклюнулся его (якобы гениальный) план предполагаемых цепных реакций прецедентов, поэтапно, но неопровержимо подтверждающих, что человек несет ответственность за ущерб, причиненный другим людям, причем не только в области котов, обезьян и ворон, и даже не только в области сероводорода, сероуглерода и прочих зловонных сыров и родов, но и в области, в которой закон сегодня полностью и трагически бессилен. В этом месте слова Кодоня звучали так настоятельно и убедительно, что воспринимались как пошлость.
Но, к счастью, это были последние его слова. В помещение вошел пор. Кьяничка, непосредственный подчиненный капитана Киндерная, которого тем временем нашла машинистка А. Рыбарикова, работающая по контракту. Слова о бессилии закона вполне обоснованно задели поручика Кьяничку. Не теряя времени, он проверил документы у посетителя, сверился с данными о разыскиваемом отравителе животных в парке имени Елены Мароти-Шолтесовой и предложил посетителю следовать за ним, что тот и сделал.
Тут А. Рыбарикова спросила меня, буду ли я ей диктовать. Я отвечал, что не буду, что к этому делу мы вернемся, когда я официальным путем получу в свое распоряжение документ о серьезном нарушении общественного порядка, связанном со значительным материальным ущербом. После чего А. Рыбарикова неожиданно заявила, что я – застрельщик ограниченности как духовной программы для целого поколения, а то и для целых полутора.
Не знаю, что она хотела этим сказать; должен сказать, до сих пор я был уверен, что двери моего кабинета звуконепроницаемы. Документы по делу Фридриха Кодоня я не получил до сегодняшнего дня.
О правде на босу ногу
Я еще не встречал человека, который бы своих детей, или учеников, или других лиц, от него зависящих и ему подвластных, наставлял в том смысле, что правдивость – качество неблагородное и бесполезное, что она себя не окупает и вообще, мол, что правда сама по себе – вещь никудышная.
А с другой стороны, мне еще не повстречался человек, который бы поклялся, положив руку на сердце, что всю свою жизнь говорил правду, чистую правду и только правду, что он намерен так поступать до конца дней своих, а если нет – чтоб ему провалиться на этом месте.
Хотя это еще ни о чем не говорит: ведь живу я уединенно, и люди мне встречаются сравнительно редко.
И все же вероятность, что за все это время я должен был повстречать хоть одного правдолюбца, значительна.
Разумеется, я не имею в виду случаи, когда ложь человечнее всего, когда врач фальсифицирует диагноз и обещает страдающему невыполнимое. Точно так же не затрагиваю я классические кривые клятвы, которые мы искренне считаем прямыми, как линейки, когда произносим их своей любимой: «Я буду верен тебе до гроба». Не касаюсь я и уверенных суждений о статуях, симфониях и романах, высказанных людьми компетентными, а также не очень компетентными. Говорить в этой связи о правде было бы не только безумием, но и поразительной неосведомленностью.
Меня интересует нечто меньшее (хотя, если разобраться, намного большее): будничная правда дней наших, так сказать, правда на босу ногу, правда с закатанными рукавами, а то и в подштанниках или в пижаме – правда в неглиже.
Мы делимся ею в переполненном трамвае, садимся с нею за письменный стол, становимся с нею к станку и ложимся с нею под стеганые одеяла. Это она образует спасительные буфера между нами и нашими любимыми ближними и нашими нелюбимыми ближними, мосты и мостки между соседями и конкурентами, выхлопы нашего равнодушия и предохранительные клапаны ревности и утомления, нам небрежно выдают ее вместе со сдачей, упаковывают в придачу к вареной колбасе и к ордеру на однокомнатную квартиру без кухни, мы вдыхаем ее с кислородом, фиалками, смогом, она сопровождает нас как темперамент или репутация или грипп.
Мы можем надеяться, что когда-нибудь выяснится правда об убийстве президента Кеннеди, о колоссах на острове Пасхи или об авторстве пьес Уильяма Шекспира. Но, ради всех святых, узнаем ли мы когда-нибудь, о чем думал в действительности наш сосед Грончок, когда сегодня утром сказал нам «добрый день»?
Но не будем с ходу погружаться в столь глубинные и прямо-таки метафизические сферы.
Найдите мне человека, который без обиняков скажет некрасивой женщине, что она уродина; для такой правды ему понадобились бы два литра водки или хотя бы огромный ком личных неудач, разочарований и жестокости.
Такую правду нельзя использовать даже в куда более умеренных тональностях. Если мы заявляем о двадцатилетней девице, что она – материнский тип, скорее всего она толстуха; если мы восторгаемся ее интеллигентностью, значит, она не вызывает ни у кого ни малейших эмоций; если дело доходит до восторгов по поводу ее успеваемости, значит, ей никак не удается найти себе парня. Мы не отрицаем правды, но старательно обходим ее стороной; мы ею гнушаемся, а это еще хуже, потому что недоказуемо, неуловимо.
Но разве при этом правда не утрачивает характер правды? Где граница между правдой и ее противоположностью, между откровенностью и хамством, между благословенной деликатностью и вопиющей ложью? Как могло случиться, что интересное мало-помалу стало противоположностью прекрасного, а добродушное, благожелательное – противоположностью притягательного, волнующего? Для этого достаточно было химически чистого раствора вежливости, разбавленного условностью в пропорции три к одному.
Или покажите-ка мне человека, который сказал бы актеру после премьеры: «Старик, скажу тебе откровенно: на эту роль ты не тянешь ни внешностью, ни интеллектом. И вообще, у меня давно уже сложилось впечатление, что таланта у тебя ни на грош. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду?»
Бог свидетель, во многих случаях это была бы правда, чистая, как снежный кристаллик в километре от земли. Но куда с ней? Мы держим ее в уме, смело выписывая пируэты: «Давно ты не был так интересен, мой милый, очень своеобразная трактовка. Как-нибудь поговорим о ней поподробнее, но над этим еще нужно подумать. И потом – тут еще многое зависит от партнеров. Скажем, Унтеркорнглаубнерова была не на высоте. И пьеса спорная. Кстати, ты знаешь, что Унтеркорнглаубнерова собирается разводиться?»
В самом деле, представьте себе театрального критика, который диктовал бы машинистке рецензию в присутствии всех участников спектакля, хотя бы и невооруженных. Вообще, для правды полезно, чтобы тот, кто ее высказывает, и тот, кого она касается, находились на достаточном удалении друг от друга. Убывает же она с квадратом уменьшающегося расстояния. Ложь может быть подлой, вероломной или глупой. Эпитет «жестокий» употребляется только в сочетании с правдой.
Но давайте вывернем проблему наизнанку: вспомним о последствиях правды, высказанной людьми, слишком молодыми или старыми, для того, чтобы хотеть или уметь применять для нее подходящую упаковку.
К вам приходит в гости симпатичная подруга вашей жены, и ваш трехлетний сыночек спрашивает при всем честном народе: «Папа, ты сегодня не будешь щекотать тетю Алису на лестнице?» Или приходит к вам на чашечку кофе самый главный ваш начальник, вы сообщаете об этом своей тугоухой теще, и та спрашивает фистулой: «Который Гарванчик – тот самый, с которым ты делишься премией, а то он на тебя донесет, что ты не учел два вагона цемента?» И так далее, в таком роде.
Между тем ваш трехлетний сынок – то самое существо, которому вы вдалбливаете, что лгать дурно и бессмысленно, что ему простится любое прегрешение, если он добровольно и искренне признается в нем; что за вранье человек последовательно попадает в угол для наказанных, в суд, за решетку, в ад. Вашей теще, опять же, некогда заниматься деталями; ей уже за восемьдесят, и к тому же она слышит так мало новостей, что хочет поскорее во всем разобраться, раз уж вы удосужились ввести ее в курс событий. Оба располагают правдой, непоколебимой и сокрушительной.
Это ужасно, что вы не можете возразить: «Простите, но это неправда!» Ведь все обстоит именно так. И тем более вы не можете сказать: «Да, это правда, но очень вас прошу, молчите о ней!» Зачем же молчать о правде? И даже если б мы нашли основание (и такое возможно), разве молчание о правде уже не пол-обмана, даже полтора обмана, хотя бы и в другом агрегатном состоянии?
Тогда где же граница между правдой и обманом?
Я слышу голоса людей хронически трезвых и, пожалуй, порядочных: «Что это еще за выкрутасы? Правда – это правда, а ложь – это ложь. Они категорически исключают друг друга. К счастью, у нас есть наука. Наука способна выявить правду! Она даже способна исключить и ликвидировать неправду!»
Ох уж эта наша надежная, неопровержимая наша наука с ее правдами!
Разве мы с вами еще совсем недавно не учили, что атом – бесспорно наименьшая и неделимая частица, вещества? Какая это была великолепная научная правда! Как мы клялись ей в верности! И разве наши дети не учат, что даже протон, часть атомного ядра, представляет собой туманность из частиц? Что он, например, в 1836 раз тяжелее, чем электрон. Да, кстати: разве наши прапредки не учили, что Солнце вращается вокруг Земли, средоточия мира? Что Земля – плоский диск, плавающий по морю? И так далее, и чем дальше, тем глубже. Какая из научных правд не была самой научной, самой доказанной, самой новой? Потом они переходили в разряд старых и испытанных, потом... А нынешние – они что, тоже с гарантией? С какой? Чьей? Может, они только потому правды, что завтра еще не наступило.
Или же – ради бога живого – речь вообще идет не о правдах, а лишь о сырье для них, о фактах?
Но отличаем ли мы невооруженным ухом сырье от суррогата? При первых же признаках тугоухости мы уже теряем уверенность. Может, технология выработки правды из фактов такая сложная и дорогая, что ее могут позволить себе только философы и учреждения на государственной дотации? Выходит, кустарное изготовление в домашних условиях, так сказать, «на колене» или в тигельке невозможно или по крайней мере не окупает себя? Один мой приятель недавно унаследовал золотой талер; но что-то я не слыхал, чтобы кто-нибудь унаследовал золотой слиток – на, держи, наделай из него талеров. Закон ему это запрещает, да он бы и не сумел. В конце концов он бы умер со страху: что ему делать со слитком в ванной?
Представьте себе, например, чистую правду обширного племени подчиненных. Скажем, секретаря. Министр спрашивает его, как ему нравится его, министра, новый галстук, а он глядит ему, министру, в глаза и отвечает: «Галстук ваш ужасно безвкусный, не идет к костюму и вообще идет только тем, кто вдвое моложе вас». Или представьте себе шофера, который бы возразил генеральному директору: «Извините, но за последнюю неделю мы накатали с вашими любовницами на девять с половиной километров больше, чем по служебным делам за весь месяц». Или первокурсника, который бы откликнулся на призыв высказать свое мнение и заявил ординарному профессору, академику, исполняющему обязанности проректора: «Позволю себе со всей учтивостью заметить, что ваша лекция была скучной, банальной и не содержала ничего, чего бы мы уже не слышали раз десять-двадцать».
Представьте себе также чистую правду великой семьи продавцов: «Этот прекрасный с виду итальянский пуловер, который вы собираетесь купить за шесть сотен, – лежалый товар, наполовину съеденный молью; он рассыплется у вас на теле». «Этот рыбный салат лежит здесь уже неделю; я бы на вашем месте побоялся отравления желудка».
Или чистую правду большой и бодрой дружины парадных чиновников: «Наш дорогой и незабвенный покойник при жизни был хапугой, карьеристом и циником, пусть же ему на том свете – если таковой существует – воздастся по заслугам». «Позвольте от всего сердца пожелать нашему юбиляру, чтобы он хотя бы к своему шестидесятилетию наконец-то освоил орфографию и, если это возможно, перестал интриговать против более молодых и способных коллег». «Приветствуем нашего нового начальника, которого, несмотря на наши дружные протесты, навязало нам министерство, хотя его бездарность и отсутствие квалификации общеизвестны и неоднократно испытаны».
У такой правды, как мы знаем, короткие ноги.
Вы обратили внимание, что Десять заповедей, которые даже в случае необходимости запрещают нам позаимствовать соседскую ослицу, нигде особенно резко не восстают против умеренного вранья? Фигурирует ли оно вообще в числе семи смертных грехов? Человек удался Богу не бог весть как, но в этом пункте Он был дальновиден: Ему ли не знать свое стадо.
Ну, и что дальше? Смириться с этим, капитулировать?
Если да – тогда почему же это не случилось уже давно? Почему – не говоря о великих правдах, ради которых люди умирают и восстают из мертвых, – почему босоногие и простоволосые правды наших сереньких дней тоже живучи, как кошки? Почему сосед Грончок в самом деле желает нам прожить день более или менее сносно, невзирая на предстоящую встречу с зубным врачом и, может быть, даже с Уголовным кодексом? Почему продавец с нимбом святого вполголоса предупреждает нас, что эта серия фенов, мягко говоря, не слишком удачна? Почему муж, вернувшись домой, с юмором заверяет жену, что она ошибается, если думает, что производственное совещание затянулось до полтретьего утра, нет, они в Юру закатились на молодое вино? Почему наш Миланко с покаянным видом признается, что получил пару по истории? Откуда она берется, эта мелкая правда, такая трудная, такая неудобная и в то же время живучая?
Не будем принимать во внимание тех, кто говорит правду из лености, по недостатку фантазии или из-за плохой памяти. Им неохота напрягаться, они просто не способны придумать практичную и небанальную неправду или панически боятся, что в следующий раз перепутают детали и выдадут себя.
Оставим в стороне и тех, кто говорит правду из страха перед высшими силами, – их правда имеет примерно такую же цену, как спасительная ложь, добытая с помощью орудий пытки. Их правдивость – не их заслуга, не говоря уже о том, что они преступно скучны.
И наконец, пренебрежем теми, кто правдив из корысти, из дальновидного расчета и, можно сказать, из изощренности. В правде они видят место наименьшего сопротивления, самое удачное капиталовложение, минимальный риск. Они говорят правду, рассчитывая, что в конце концов она окупится с лихвой, – и это отвратительно.
Но обнажим головы перед теми, кто говорит правду вопреки всему. Туманным утром и в сумерках, в паршивую погоду, с ячменем на глазу, прыгая в троллейбус на ходу, не сумев расплатиться вовремя за подбитые подметки. Без задних мыслей, рефлекторно, естественно. Так же, как мы дышим без видимой внешней причины или кровоточим, когда она есть.
Ведь, кроме правды формата «а все-таки она вертится» или «в поте лица своего будешь зарабатывать хлеб свой насущный», есть и правды формата «эта ваша книга мне не понравилась», «эту сотню я выбросила на пустяки» или «вместо того, чтобы пойти на семинар, я провел время с Яной». Это пыль на великом пути за правдой, но пыль космическая, солнечная. За нее ничего не купишь, но зато и не продашься.
Это микроскопическое доказательство того самого, благословенного центростремительного влечения к правде, на котором основываются не только сносные браки, но и вечно опровергающая себя наука. Это неутомимое подтачивание обманов, среди которых мы живем, – наверное, самый младший брат глубинного познавания, у которого, правда, нет конца, но зато есть направление.
Вероятно, чистая правда – одно из солнц в небе, удаленных на сто пятьдесят миллионов световых лет, таких, как конечное познание, или вечное блаженство. Практически его нет и не может быть в наших жизнях, но заранее, программно отказаться от него значило бы утратить смысл бытия. Человек не может расплатиться за кило груш солнцем или хотя бы золотым слитком, и, если бы он познал все окончательно, он бы, наверное, тут же бросился в Дунай.
Но до чего же это здорово – смотреть на солнце или вообще на небо, а особенно – в глаза близким и дорогим, и думать при этом: «Я их не обманываю». Или хотя бы: «Я их не унижаю». До тех пор, правда, пока одна правда не опровергнет другую. Но ведь речь здесь шла о чистой правде, а сколько лекарств изготавливают из чистого яда?






