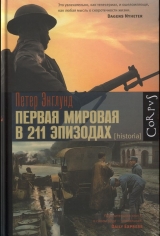
Текст книги "Первая мировая война в 211 эпизодах"
Автор книги: Петер Энглунд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
Время от времени слышится далекий гул русской артиллерии. Этот гул эхом отдается между гор, и сверху, с Арарата, иногда сходят лавины: “Гигантские белые ледяные массы ползут вниз и падают с гребня на гребень, со скалы на скалу, пока с неимоверным грохотом не обрушиваются на тихие берега Аракса”.
42.
Четверг, 18 марта 1915 года
Пал Келемен оглядывается в пустом школьном классе в Карпатах
Рана, полученная той ночью в ущелье, оказалась пустяковой. И теперь он снова на фронте, после того как подлечился в госпитале в Будапеште и прошел реабилитацию, занимаясь закупкой лошадей для армии [77]77
Конский ремонт – так назывались лошади, которыми заменяли раненых или убитых животных.
[Закрыть]в венгерском приграничном городе Маргита, где, кстати, успел закрутить роман с девушкой из буржуазной семьи, строгих правил, потрясающе стройной и высокой, – впрочем, роман так ничем и не увенчался.
Блуждания по карпатским ущельям и перевалам утомляли монотонностью и отсутствием конкретных результатов. За последние месяцы обе стороны отвоевали себе какие-то кусочки территорий, то там, то сям, потеряв при этом гигантское количество людей, в первую очередь из-за морозов, болезней и нехватки еды [78]78
С начала года австро-венгерская армия потеряла около 800 тысяч человек убитыми и ранеными, но прежде всего скончавшимися от болезней и обморожения. Эти цифры стали известны только после 1918 года. Все государства засекречивают свои потери. Предание гласности количества жертв считается чуть ли не государственной изменой.
[Закрыть]. Келемен и сам ощущал запах, разносившийся окрест: старые трупы оттаивают на весеннем солнышке, а к ним прибавляются все новые и новые. Мало кто говорил теперь о скором окончании войны.
Воинская часть Келемена находится сейчас за линией фронта и выполняет в основном полицейские функции, охраняя длинные, извивающиеся колонны обозов с пропитанием, которые постоянно ползут по этим слякотным дорогам. Это было легким занятием. И безопасным. Он вовсе не рвался на передовую. Со своими гусарами он часто останавливался на постой в пустых школах венгерских деревень. Так было и сегодня. Пал Келемен записывает в своем дневнике:
В разрушенных школьных классах, заваленных соломой и превращенных в грязные стойла, парты стоят как испуганное стадо животных, рассеянных, загнанных, разбредшихся кто куда, а чернильницы напоминают оторванные от одежды пуговицы и лежат будто мусор по углам и оконным нишам.
На стене висит текст национального гимна с музыкой, карта Европы. Черная доска опрокинута на учительскую кафедру. На книжной полке собраны тетрадки, хрестоматии, карандаши и мел. Все это мелочи, но весьма красноречивые, по крайней мере для меня, часами вдыхавшего одну лишь мерзость. Когда в этих школьных книжках я прочитал простые слова – земля, вода, воздух, Венгрия, имя прилагательное, имя существительное, Бог, – я обрел подобие душевного равновесия, без которого так долго носился по волнам, словно пиратский корабль, без руля и ветрил.
43.
Суббота, 3 апреля 1915 года
Харви Кушинг составляет список интересных случаев в парижском военном госпитале
Серое, черное, красное. Эти три цвета все время бросались ему в глаза, когда он вместе с другими два дня назад ехал в автобусе от Орлеанского вокзала, через реку, мимо площади Согласия, и далее прямиком в госпиталь в Нёйи. С жадным любопытством взирал он на улицы города. Весь военный транспорт был серого цвета: штабные автомобили, санитарные машины, броневики. В черное облачились все, кто носил траур: “Похоже, каждый, кто не в военной форме, одет в черное”. Красного цвета были брюки военных, кресты санитарных машин и госпиталей. Его зовут Харви Кушинг, он американец, врач из Бостона, приехал во Францию изучать военно-полевую хирургию. Через пару дней ему исполнится 46 лет.
В это день Кушинг находится в Лицее Пастера в Париже, или, как это теперь называлось, – Американский госпиталь ( Ambulance Americaine) [79]79
Словом “ambulance”французы называли в то время военный госпиталь.
[Закрыть]. Это частный военный госпиталь, открытый в начале войны предприимчивыми американцами, живущими в Париже, и финансируемый из разных источников. Работали здесь в основном американцы с медицинских факультетов различных университетов, добровольцы, проходившие трехмесячную службу. Некоторые приезжали из праздного любопытства, другие, как Кушинг, преследовали профессиональные цели. Ведь здесь можно увидеть ранения, которых никогда не встретишь в нейтральных и далеких от мировой политики США. Поскольку Харви Кушинг был нейрохирургом, и к тому же очень искусным [80]80
Кушинг учился в Йельском и Гарвардском университетах и уже в те времена пользовался авторитетом в профессиональных кругах. Как настоящий вундеркинд, он всего лишь в 32-летнем возрасте стал профессором хирургии в Университете Джона Хопкинса. Он – один из ведущих в мире специалистов по головному мозгу.
[Закрыть], он конечно же надеялся многому поучиться в воюющей Франции. Собственно говоря, он еще не определил своего отношения к войне. Как умный и образованный человек, он с долей иронии воспринимал многочисленные красочные, изобилующие деталями, страшные истории о том, что немцы сделали и продолжают делать. Он считал, что видит насквозь весь этот лживый пафос. Харви Кушинг светловолосый, худощавый, невысокий. Взгляд пристальный, глаза прищурены, губы сжаты. Он производил впечатление человека, привыкшего добиваться своего.
Вчера, в Страстную пятницу, прошел его первый рабочий день в госпитале. Кушинг уже начал представлять себе, к чему сведется его работа. Он видел раненых, это были чаще всего терпеливые, молчаливые люди с рваным, искореженным телом, с инфицированными ранами, которые нужно было долго лечить. Из их ран извлекали не только пули и осколки гранат, но и еще то, что на профессиональном языке называлось побочными снарядами: куски одежды, камни, деревяшки, гильзы, остатки снаряжения, фрагменты тел других людей. Он уже понял, в чем заключаются самые серьезные проблемы. Во-первых, множество солдат с больными, синими, отмороженными и почти не действующими ногами вследствие того, что они день и ночь стояли в ледяной слякотной воде (термина “окопные ноги” еще не существовало). Во-вторых, много симулянтов и тех, кто из стыда или тщеславия утрирует свои проблемы. Наконец, есть “сувенирная хирургия”, когда проводится довольно рискованная операция, хотя на самом деле снаряд мог бы и остаться в теле раненого, и после такой операции пациент гордо показывает всем извлеченную из него пулю или осколок гранаты, словно боевой трофей. Кушинг качает головой.
Сегодня канун Пасхи. Холодная, но ясная весенняя погода сменилась дождем.
С утра Кушинг обходит полупустые палаты и составляет список наиболее интересных с точки зрения неврологии случаев. Раненых с тяжелыми черепно-мозговыми травмами совсем немного, и поэтому он фиксирует различные типы поражений нервной системы. Раненые поступают почти исключительно из юго-восточных частей фронта. Большинство из них французы, есть также черные солдаты из колоний [81]81
Ему рассказывали, что немцы не берут чернокожих в плен, но он сомневался в истинности этого утверждения.
[Закрыть]и несколько англичан. (Последние, как правило, отправлялись в больницы ближе к Ла-Маншу или домой.) Постепенно список был составлен. В нем было записано следующее:
Одиннадцать случаев поражения нервов верхних конечностей, начиная от ран брахиального плексуса до мелких повреждений руки; пять из них – паралич спинных мускулов со сложными переломами.
Два случая болезненных поражений нервов бедра; Тауэр прооперировал со спайкой.
Три случая лицевого паралича. У одного пациента в щеке застрял ип morceau d’obus [82]82
Осколок гранаты или, точнее, кусок гранаты ( фр.).
[Закрыть]размером с ладонь, на который он с гордостью всем указывал, – осколок гранаты как-никак!У пациента, простреленного в открытый рот, – цервикальный паралич симпатической нервной системы.
Два пациента с переломом позвоночника – один умирает, второй восстанавливается.
Балка, подпиравшая убежище, упала на него, когда приземлившийся рядом снаряд взорвался в окопе, где как раз находился этот солдат.
Одна действительно серьезная черепно-мозговая травма: некто по имени Жан Понисинь, раненный пять дней назад в Вогезах и зачем-то привезенный на санитарной машине именно к нам.
За обедом один санитар рассказал Кушингу, как он на днях видел безногого ветерана войны 1870–1871 годов и как тот, пошатываясь, вытянулся на своих костылях, отдавая честь солдату лет на 45 моложе его, жертве нынешней войны, тоже оставшемуся без ног. После обеда Кушинг посетил отделение челюстно-лицевой хирургии, его очень заинтересовали новые эффективные методы лечения. “Уникальная работа – умение вправлять зубы и челюсть бедняге, у которого отстрелена большая часть лица”.
44.
Пятница, 9 апреля 1915 года
Ангус Бьюкенен ждет поезда на вокзале Ватерлоо
Еще один дождливый день. В сумерках Лондон кажется необычайно серым и сырым. Он ждет на перроне номер семь с шести часов вечера, а их поезда все нет. Вокруг полно народу. Весь перрон забит людьми – здесь не только мужчины в форме цвета хаки, но и много гражданских: родственники, друзья приехали на вокзал Ватерлоо провожать солдат на фронт. И хотя погода унылая, настроение у ожидающих приподнятое, они толпятся, разговаривают друг с другом. Если кто-то и недоволен опозданием поезда, он этого не показывает.
Собравшиеся на перроне будут служить в добровольческом батальоне – 25-м Королевском фузилерном, который отправляется в долгое путешествие в Восточную Африку. Известно, что европейским военным нелегко приходится в этой части Африки, но большинство людей в форме уже побывало в жарком климате или успело повидать дикую природу. Этот “Приграничный легион” набирали из жителей Гонконга, Китая, Цейлона, Малакки, Индии, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки и Египта; здесь были и бывшие полярники, и ковбои. Сам Бьюкенен в начале войны обретался далеко на севере, в канадской глуши, и занимался коллекционированием арктической флоры и фауны, а потому узнал о случившемся только в конце октября. И не мешкая отправился на юг. До первого крупного поселения он успел добраться к Рождеству, а затем продолжил свой путь, намереваясь завербоваться в армию.
Ротой Бьюкенена командовал опытный охотник на крупную дичь, Фредерик Кортни Селус, автор двух популярных книг об Африке [83]83
“A Hunter’s Wandering in Africa”и “Travel and Adventure in South-East Africa”. Автор стал еще более знаменит, когда он, по примеру многих других путешественников, совершил турне с лекциями о своих приключениях. Он остался в истории первым, кто вместе с известным Сесилем Родсом указал на высокогорное плато в Родезии как на место, пригодное для проживания британцев и для ведения сельского хозяйства. Ирония судьбы заключается в том, что сам он впоследствии испытает на себе все трудности ведения сельского хозяйства в этих местах, – трудности, о которых знает каждый, кто читал африканские романы и новеллы Дорис Лессинг и которые Селус, в своем колониальном рвении, просто недооценил.
[Закрыть]. Он был воплощением типичного викторианского путешественника-первооткрывателя: бесстрашный, оптимистически настроенный, беззастенчивый, невинный, закаленный и любознательный. Этот 64-летний мужчина с короткой седой бородкой двигался с легкостью тридцатилетнего. (Возрастная граница в батальоне составляла 48 лет, но многие новобранцы были гораздо старше и давали откровенно лживые сведения о своем возрасте – столь велико было стремление попасть на войну [84]84
Командир батальона был и инициатором его формирования, – это полковник Даниэль Патрик Дрисколл, который во время Англо-бурской войны командовал иррегулярным соединением, известным как “Скауты Дрисколла”. Предполагалось, что батальон будет чем-то подобным.
[Закрыть].)
Батальон с самого начала приобрел славу элитного соединения, где собрались избранные смельчаки. Но среди ожидавших на перроне имелись и такие, кто фактически дезертировал из других воинских частей, чтобы попасть в этот батальон. Примечательно, что он был единственным соединением во всем Британском экспедиционном корпусе, не прошедшем хоть какого-то военного обучения; считалось, что эти люди многоопытны и всякое обучение излишне, даже оскорбительно для таких gentlemen adventurers. Ничего удивительного в том, что в этот вечер в воздухе витал “a spirit of romance” [85]85
Труднопереводимое выражение, ибо у него много значений. Наверное, оно лучше всего отражает сочетание мечты о приключениях и поэтического настроя.
[Закрыть].
Большинство из них не знали друг друга, и для этих закоренелых индивидуалистов было непривычным внезапно увидеть себя в военной форме – ведь она скрывала их неповторимое своеобразие! Так что предстояло еще познакомиться. 28-летний Ангус Бьюкенен – естествоиспытатель, ботаник и зоолог, особенно его интересуют птицы. Если у него будет свободное время, он намерен собрать экземпляры восточноафриканской флоры и фауны.
Время идет. Гул голосов нарастает, в кучках собравшихся раздается смех. К одиннадцати вечера друзья и родственники начинают испытывать усталость от долгого ожидания и потихоньку покидают перрон, по два-три человека. К часу ночи здесь остаются только люди в форме. Подходит поезд, они садятся в него. Перед самым отправлением появляются полицейские, они прочесывают вагоны в поисках дезертиров. Но те уже предупреждены и быстро прячутся, пережидая, пока не уйдет полиция.
В два часа ночи поезд отходит от вокзала Ватерлоо. Он направляется в Плимут. Там их ждет пароход под названием HMTS “Нойралия”. На нем они и поплывут в Восточную Африку.
45.
Середина апреля 1915 года
Лаура де Турчинович видит, как солдат ест апельсин в Сувалках
Эпизод с апельсином потряс ее. Возможно, ее реакция вызывает удивление, ведь Лаура успела повидать так много страшного. Но скорее всего, дело как раз в том, что за последние месяцы она пережила слишком много: каждый человек имеет свой предел сил. Она неутомимо трудилась то над одним, то над другим – не только из искреннего желания помочь. Нет, она осознанно так обуздывала демонов в собственной душе: “Я была занята каждую минуту, иначе я сошла бы с ума!”
Прошло почти два месяца с тех пор, как немцы во второй раз вступили в Сувалки, и Лаура де Турчинович и ее дети оказались не по ту сторону фронта без возможности уехать.
Самым ужасным был, разумеется, тиф. Из-за болезни одного из пятилетних близнецов они вынуждены были остаться на месте, вместо того чтобы бежать от наступающего врага. А потом и второго мальчика свалил тиф. Она чуть не потеряла их:
Я превратилась в машину: все ночи напролет дежурила у постели больных: как жалко было на них смотреть! Крохотные серые тени моих дорогих мальчиков! Они не переставая бредили, только голоса их звучали все слабее. Каждая ночь означала битву со смертью.
В один из таких долгих дней бодрствования и тревоги Лаура заметила “диковатую, бледную, странную женщину” и лишь через какое-то время поняла, что видит свое собственное отражение в зеркале. А когда мальчики наконец-то, вопреки всем ожиданиям, начали поправляться, после трехнедельной борьбы за жизнь, заболела шестилетняя дочка. И тревога, изматывающая боль – все началось по новой. Тем временем сошел снег. Наступила весна.
Нехватка еды стала вечным проклятием. Запасы, сделанные в начале войны, были съедены. Много чего было украдено немецкими солдатами или конфисковано их начальством. Оставались еще мука, варенье, макароны, большие и жесткие, и чай, а также припрятанный картофель, которого было немного. (Немцам не удалось найти один из ее тайников: внутри дивана.) К счастью, у нее еще имелись деньги, но и она, и ее слуги не всегда могли что-то на них купить. Иногда ей удавалось прикупить черного хлеба, иногда нет. (Иногда покупались дрова: ведь дом стоял весь вымерзший.) Картошка и яйца продавались по баснословным ценам.
Вот радости-то было, когда она купила пять живых кур. Их заперли в бывшей библиотеке, и они сидели на замусоренных книжных полках, рылись на полу в поисках пищи, гадили на книги, но все это ее не беспокоило: книжные тома потеряли для нее всякое значение, они словно принадлежали другому миру, который канул в прошлое в августе минувшего года.
Все эти страдания были связаны для Лауры с двумя другими злосчастными событиями: войной в целом и оккупацией в частности. Они жили в условиях постоянного чрезвычайного положения, когда была ограничена не только их свобода передвижения, но и частная жизнь вообще. В любой момент к ним могли ввалиться немецкие солдаты, требуя чего-то, ведя себя угрожающе, или властно, или и то и другое вместе. Дом у них большой, импозантный, он как магнит притягивал немецких офицеров, охотно останавливавшихся здесь или же устраивавших тут свои пирушки. В одном из флигелей находилась импровизированная больница для тифозных, но остальная часть здания использовалась прежде всего высшими чинами германской армии [86]86
Даже знаменитый немецкий фельдмаршал Пауль фон Гинденбург останавливался в этом доме, когда был проездом в Сувалках. Лаура характеризует его и как галантного кавалера, и как эгоистичного обжору. И тот факт, что он был главнокомандующим этим фронтом и потому нес ответственность за все несчастья, делало его отталкивающим в ее глазах.
[Закрыть]. Лаура с детьми и прислуга ютились в нескольких комнатках. Им строго запрещалось заходить в те части дома, где немцы организовали свою телефонную связь и телеграф: из здания тянулись спутанные телефонные провода, а с крыши свисала высокая антенна.
Весь город изменился. Он утратил свой чистый, опрятный вид. Повсюду валялись кучи мусора и грязь. На улицах стояла брошенная хозяевами мебель и прочие вещи. Фронт был так близко, что до них доносился грохот канонады. По городу непрерывно сновали немецкие вагоны с припасами, автомобили, иногда шагала немецкая пехота. Солдаты почти всегда пели. Она просто ненавидела эти звуки.
Лаура не могла не ненавидеть немцев. Они были ее врагами, они оккупировали ее родной город, превратили ее жизнь в сплошное мучение. Но не все немцы одинаковы. В некоторых из них она встречала понимание и сочувствие, но многие другие держались надменно, высокомерно, иногда грубо. Она часто видела, как они избивают русских военнопленных. Немецкая пропаганда, трубившая об избавлении от русского ига, не имела большого успеха: ей внимали, может быть, местные евреи, которые усматривали в оккупации возможность освободиться от произвола бывших властей и от застарелого антисемитизма [87]87
Обвинения в сотрудничестве с немцами также раздували старый русско-польский антисемитизм. Лаура и сама с подозрением относилась ко многим евреям в городе.
[Закрыть]. Дикая смесь услужливости и грубости со стороны немецких оккупантов была своего рода отражением официальной политики. В том хаосе, который породила война и который немцы в своем превосходстве считали врожденным качеством Восточной Европы, с ее пестрой смесью народов и языков, германское командование на Восточном фронте начало осуществлять амбициозную и обширную программу, намереваясь полностью контролировать захваченные территории и их ресурсы, а также спасти оккупированное население от него самого, насадив здесь немецкую дисциплину, немецкий порядок, немецкую культуру.
Вдалеке грохочут пушки, и Лаура вместе со всеми по-прежнему надеется на то, что русская армия совершит прорыв и освободит их. (У них вошло в привычку прислушиваться, не русская ли артиллерия там стреляет – русские батареи давали залпы в особом ритме: раз – два – три – четыре, пауза, раз – два – три – четыре, пауза.) Она часто мечтала о том, что ее муж Станислав находится где-то у русских, совсем рядом, может, в десятке километров отсюда, и как только немецкая линия фронта будет прорвана, они увидятся. Но чаще всего ее охватывало чувство полной изолированности, заточения вместе со своими детьми в абсурдном и безнадежном существовании. Нью-Йорк был очень, очень далеко. И дети играли лишь с белой собачкой Дашем.
Наверное, абсурдность самой обстановки заставила ее так среагировать на апельсин. На улице она увидела простого солдата, который держал в руках апельсин: он поднес золотистый плод ко рту и надкусил его. Она с негодованием смотрела на него. Она отдала бы все на свете за один этот апельсин, за то, чтобы принести его домой детям. Но она знала, что этого не будет. Ее чрезвычайно возмутило то, как вел себя этот солдат, как он небрежно поедал апельсин. Он откусывал от этого красивого, круглого, экзотического, сияющего плода, “словно этими фруктами в Сувалках питались ежедневно”.
Когда с запада дул ветер, Лаура чувствовала тошнотворный запах. Это смердели трупы погибших зимой, их зарывали кое-как. Говорили, что там их лежат десятки тысяч [88]88
Зимой наиболее храбрые дети из Сувалок играли в такую игру: бродили по полям за городом и палочкой тыкали в снег, в поисках убитых.
[Закрыть].
46.
Пятница, 16 апреля 1915 года
Уильям Генри Докинз пишет письмо матери в порту Лемноса
Наконец в путь. И окончательно известен пункт назначения – Дарданеллы. Слухи об операции циркулировали с февраля. Тогда они узнали, что корабли союзников без особого успеха атаковали османские артиллерийские батареи, блокировавшие пролив, и что атака повторилась в прошлом месяце, но была столь же безуспешна [89]89
Целью этой наспех спланированной и лихой операции было проложить при помощи флота путь сперва через Дарданеллы, затем через Босфор, чтобы доставить военную технику терпящим поражение русским, но еще и помочь им на Кавказе, где грозное османское наступление, впрочем, уже увязло в морозах, снегу и хаосе. Надеялись также вообще вывести Османскую империю из войны. Велись бесконечные дискуссии между так называемыми “западниками” и “восточниками”, в которых первые, в большинстве своем военные, призывали отдать приоритет Западному фронту, тогда как последние, в большинстве политики, хотели вести боевые действия на слабых флангах противника, прежде всего на Балканах и в южном Средиземноморье. Операция в Дарданеллах была во многом затеей молодого, хитроумного и противоречивого Первого лорда Адмиралтейства Великобритании Уинстона С. Черчилля. Еще в 1907 году в британских военно-морских силах изучили этот вопрос и пришли к выводу, что одним наступлением флота нельзя добиться успеха, но упрямые факты не впечатляли авантюрно настроенного Черчилля.
[Закрыть]. Уже в конце марта большая часть бригады Докинза отправилась через Средиземное море к острову Лемнос, в северной части Эгейского моря. Сам же он оставался в большом лагере под Каиром. Между тем он прекрасно понимал, что затевается что-то серьезное. В прошлом письме домой он писал: “Говорят, мы станем частью гигантской армии – французской, русской, балканской (!) и британской – и сперва покорим Турцию, а потом двинемся в Австрию” [90]90
Это не лишенное натяжек, но и не совсем ошибочное описание того, что планировалось. Войска потребовались тогда, когда на горьком опыте выяснилось, что корабли союзников не сумеют самостоятельно форсировать Дарданеллы. И сухопутные соединения должны в первую очередь выбить батареи береговой артиллерии, которые доставляли столько хлопот союзническому флоту и которые вели прицельный огонь даже по минным тральщикам, шедшим впереди кораблей.
[Закрыть].
Перемены пришлись очень кстати. Месяцы бездействия – не считая учений – отравляли боевой дух и ослабляли дисциплину. Австралийцы проявляли все больше неуважения к британским офицерам, а солдаты разных национальностей все более разнузданно вели себя в Каире. Кульминацией стали события двухнедельной давности, пришедшиеся на Страстную пятницу, когда в квартале увеселительных заведений вспыхнули беспорядки. Каир считается одним из самых греховных городов мира, в нем множество борделей, игорных домов, где жаждущие развлечений могут попробовать все – от наркотиков до стриптиза. По непреложному закону “спрос рождает предложение” все это расцвело пышным цветом, когда сюда хлынули десятки тысяч молодых солдат с деньгами в карманах. Дисциплина пошатнулась, недовольство местного населения военными усилилось [91]91
В своем письме Докинз признается в неприязни к египтянам: в частности, он называет их “презренными”.
[Закрыть].
Итак, в Страстную пятницу сотни солдат, главным образом австралийцев и новозеландцев, принялись бесчинствовать в одном из увеселительных кварталов Каира. Они в ярости громили бары и бордели, выбрасывали мебель на улицу и поджигали ее. Буйствующая толпа все прибывала, так как к месту спешили другие солдаты. Вмешаться попыталась военная полиция; в ответ в нее полетели бутылки, четыре солдата были ранены. Вызванные на подмогу британские военные со штыками были тут же разоружены, их винтовки бросили в огонь. Неудачей окончились и попытки усмирить толпу при помощи кавалерии. Постепенно все успокоилось само собой. Докинз тоже был там и охранял шлагбаум на одной из улиц. В последующие дни озлобленные солдаты сожгли в лагере буфет и кинотеатр.
Примерно неделю назад воинская часть Докинза с облегчением покинула Египет, и тогда в порту Александрии стояло полным-полно военных кораблей. Через два дня они подошли к берегу Лемноса. Остров был крохотный, все уместиться на нем не смогли, так что многие солдаты просто остались на кораблях. Сейчас Уильям Генри Докинз сидит на борту корабля “Машобара” в порту Лемноса и пишет письмо матери:
Здесь есть забавные старинные ветряные мельницы, на которых мелют зерно. Это большие каменные постройки с огромными крыльями из парусины. Остров очень чистый, и люди тут чистоплотные, – слава богу, какой контраст с Египтом! Повсюду растет зеленая трава, поля очень красивые, покрыты цветущими красными маками и ромашками. Вчера мы сошли на берег, чтобы рота немного размялась и осмотрела достопримечательности острова. Местное население здесь, как и везде, стремится побольше заработать на солдатах. Больших магазинов тут нет, поэтому мы просто прогулялись по острову и посмотрели на народ. У одного – круглый сыр под мышкой, у другого – связка фиг, у третьего полный карман орехов, у четвертого – мешочек сухарей… все вокруг пытаются что-то продать. Мы приятно провели время.
Докинз знает, что скоро они отправятся дальше, он знает, какую задачу ему и его роте предстоит выполнять в будущем: они должны отвечать за обеспечение бригады водой. На борту “Машобары” множество насосов, труб, буровые установки и, кроме того, землеройное оборудование и инструменты. Да и сам корабль уже превращается в судно специального назначения: на носу открыли огромные двустворчатые “двери” для высадки. Они получили карты места, где должны будут высадиться. Оно называется Галлиполи и представляет собой узкий, длинный полуостров, запирающий вход в Мраморное море. Но об этом в письме он ничего не пишет. И он завершает такими строками:
Больше рассказывать нечего, так что на этом я заканчиваю. Передавай всем привет от меня с большой любовью. Твой любящий сын Вилли. Ххххххххх девочкам.
47.
Воскресенье, 25 апреля 1915 года
Рафаэль де Ногалес стал свидетелем уничтожения двух величайших святынь Вана
Светает. Он просыпается на пуховой перине, на зеленых шелках. Обстановка комнаты под стать его роскошному ложу: на потолке висит арабская бронзовая люстра с разноцветными хрустальными вставками, на полу лежат ковры ручной работы и стоит подставка с декоративным оружием из дамасской стали. На ней есть и дорогие статуэтки из севрского фарфора. Раньше эта комната принадлежала даме. Он догадался об этом по карандашам для подводки глаз и помаде малинового цвета, которые валялись на маленьком столике.
Вдали пробуждается турецкая артиллерия. Батареи, одна за другой, открывают огонь. Они прибавляют свой резкий треск к нарастающему грохоту, пока все не зазвучит как обычно: грохот, треск, шум падения, хлопанье, гул, выстрелы, вскрики.
Вскоре он отправляется в путь верхом. Сегодня утром он должен проинспектировать восточный сектор.
Рафаэль де Ногалес находится на окраине старинного армянского города Вана, в северо-восточной провинции Османской империи, вблизи от Персии и России – до границы всего-то 150 километров прямо на север. В городе мятеж. Ногалес несет службу в одном из подразделений, которые прибыли для подавления мятежа.
Обстановка сложная. Армянские мятежники засели в старой части города, за крепостной стеной, и в квартале Айгестан. Войска турецкого губернатора контролируют крепость на горе, над городом, и остальные кварталы. А где-то на севере находится русский армейский корпус: он пока еще не преодолел труднодоступный горный перевал Котур-Тепе, но теоретически может дойти сюда за один день. По обе стороны фронта настроение у воюющих меняется от надежды к отчаянию, от страха к уверенности. У армян-христиан нет иного выбора; они знают, что должны продержаться до прибытия русского корпуса. Их враги-мусульмане понимают, что должны победить, прежде чем русские покажутся на горизонте и осаждающие и осажденные поменяются ролями.
Это объясняет необычайную жестокость боев. Ни одна сторона не берет пленных. За все время своего пребывания в Ване де Ногалес увидит лишь трех живых армян: официанта, переводчика и человека, найденного в колодце, где он просидел девять дней, убежав по каким-то причинам от своих, – последнего допросили и покормили, чтобы он пришел в себя, после чего расстреляли “без всяких церемоний”. Жестокие расправы происходили еще и потому, что большинство здесь были партизаны, энтузиасты, добровольцы – гражданские лица, которые внезапно получили в руки оружие и безграничную возможность отомстить за былые обиды – действительные или воображаемые, или пресечь будущие несправедливости – тоже действительные или воображаемые. Под началом у де Ногалеса кого только нет – воинственные курды, местные жандармы, турецкие офицеры-резервисты, черкесские аширеты и целые банды [92]92
Массовая резня христиан практиковалась и прежде, так что это был давний конфликт между армянами и османскими властями, но в последние десятилетия он углубился. Большая война привела к внезапному, непредвиденному и крайне болезненному обострению. Многих турок охватил страх за свое будущее. Когда власти Константинополя в октябре 1914 года приняли решение встать на сторону Центральных держав, Османская империя только что проиграла еще одну войну (так называемую Балканскую войну 1912–1913 годов, в которой объединенными силами победили Сербия, Греция, Болгария и Румыния). Отдельные части империи населяли в основном христиане. Другие территории – Египет, Ливан – на практике находились под властью западных держав. Продолжится ли теперь эрозия, разъедающая Османскую империю? К старому зелью прибавился новый ингредиент, к тому же фатальный, – современный национализм. У константинопольских властей еще до октября 1914 года родилась идея большого переселения народов с целью создать этнически гомогенное государство или во всяком случае очистить главные провинции империи от немусульманской “заразы”. Среди все более притесняемых национальных меньшинств, в том числе и армян, национализм порождал мечты о сепаратизме, надежду на собственное государство.
[Закрыть].
Война оправдывает ожидания, порождает слухи, отвергает новости, упрощает мышление, узаконивает насилие. На стороне русских сражаются пять дружин армянских добровольцев; ведется агитация с целью поднять восстание против османского правления. Мелкие вооруженные группы армянских активистов совершают вылазки и организуют саботаж. И уже с конца 1914 года то и дело убивают безоружных армян: это были массовые репрессии, резня в ответ на действия активистов как предупреждение другим армянам или как месть за поражения на фронте [93]93
“Поражения” именно во множественном числе: неудачей окончилось не только наступление на Кавказе. Османское вторжение в независимую Персию также завершилось поражением. В военных операциях одержит победу русский корпус, который стоял сейчас в Котур-Тепе.
[Закрыть]. Или же только потому, что можнобыло преследовать армян. В ответ на последние, грубые и циничные, репрессии местный турецкий военачальник получил массовый мятеж, который теперь как раз и планировали погасить очередной резней.
Рафаэль де Ногалес слышал все эти слухи, знал про опасения, видел следы содеянного (беженцев, сожженные церкви, наваленные друг на друга трупы армян у обочины дороги). Да, в маленьком городке на пути в Ван он лично видел, как толпа за полтора часа забила насмерть местных армян – всех, кроме семерых, которых он сумел спасти, вытащив пистолет [94]94
Он передал семерых армян местному чиновнику, который обещал защитить их. Впоследствии де Ногалес узнал, что чиновник в ту же ночь велел задушить пленников.
[Закрыть]. Этот случай произвел на него тяжелое впечатление. В Ване ситуация иная, более простая. Он офицер османской армии и призван подавить вооруженный мятеж. Причем быстро, прежде чем прорвет плотину у Котур-Тепе. Кроме того, де Ногалес не любил армян. Конечно, он восхищался их приверженностью своей христианской вере, но в целом воспринимал их как хитрых, жадных и неблагодарных. (Впрочем, он так же прохладно относился к евреям и арабам. И напротив, любил турок: “Джентльмены Востока!” Курдов он уважал, хотя и считал их людьми ненадежными; он называл их “молодой и энергичной нацией”.)
Задача покорения Вана была не из простых. Армяне оборонялись с неистовым, отчаянным мужеством людей, которые знают, что поражение для них равносильно смерти. И вместе с тем многие добровольцы де Ногалеса были недисциплинированными, неопытными, своенравными и отчасти непригодными к настоящим боям. В довершение всего старый Ван был поистине лабиринтом из базаров, узких переулков и глинобитных домов, – в нем трудно было ориентироваться. Поэтому взятие города было доверено в основном османской артиллерии. Правда, большинство пушек являлись музейными экспонатами [95]95
Впоследствии будут использовать еще и несколько пятисотлетних мортир, тоже с большим эффектом, хотя и с таким же риском для артиллеристов.
[Закрыть], но де Ногалес обнаружил, что пушечные ядра производят гораздо больше разрушения в домах, чем гранаты, которые просто пробивают одну глиняную стену и вылетают в другую.
Таким вот образом и пробивались через сеть улочек и переулков Вана, квартал за кварталом, дом за домом, – “обливаясь потом, с черными от пороха лицами, оглохнув от пулеметного треска и близких выстрелов из винтовок”. Когда дом превращался в руины, а его защитники – в трупы, все это сжигали, чтобы не дать армянам вернуться сюда под покровом ночи. Денно и нощно над городом висел густой дым от пожаров.
Во время своей инспекции верхом по восточному сектору де Ногалес заметил полевую пушку, погребенную под развалинами дома. Он соскочил с коня. С оружием в руках, подвергаясь смертельной опасности, он сумел надежно укрыть пушку. Его капрал, находившийся рядом, был убит выстрелом в лицо.
Через час де Ногалес находился наверху, на бруствере крепости. Оттуда он наблюдал в бинокль за штурмом укрепленной армянской деревеньки, вблизи от города. Рядом с ним стоял губернатор провинции, Джевдед-бей, господин лет сорока, охотно рассуждавший о литературе, одевавшийся по последней парижской моде, по вечерам облачавшийся в костюм, с белоснежным галстуком и свежей бутоньеркой в петлице, и наслаждавшийся ужином, – иными словами, судя по всему, утонченный господин.
Между тем он, со всеми своими связями в Константинополе и со своей бесцеремонностью, стал главным архитектором разыгрывавшейся трагедии. На самом деле он представлял собой новый тип в бестиарии нового века: красноречивый и убежденный в своей идеологии массовый убийца в отутюженной одежде, руководящий резней из-за письменного стола.
Де Ногалес стоит рядом с губернатором и следит за штурмом деревни. Он видит, как три сотни конных курдов отрезают армянам путь к бегству. Видит, как курды добивают оставшихся в живых ножами. Внезапно мимо де Ногалеса и губернатора просвистели пули. Стреляют армяне, забравшись на высокий собор Святого Павла в старой части Вана. До сих пор обе враждующие стороны относились с уважением к древней святыне, но теперь губернатор отдает приказ стереть собор с лица земли. Приказ принимается к исполнению. После двухчасового обстрела из пушек высокий старинный собор обрушивается, вздымая облако пыли. Тогда армянские снайперы перебираются на минарет высокой мечети. На этот раз губернатор колеблется, отдавать ли приказ об обстреле. Но де Ногалес твердо говорит ему: “На войне как на войне”.
“Таким образом, – рассказывает де Ногалес, – за один день были разрушены два главных храма Вана, которые в течение девяти столетий являлись самыми известными историческими памятниками города”.








