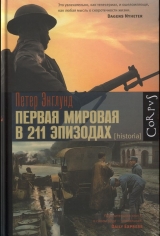
Текст книги "Первая мировая война в 211 эпизодах"
Автор книги: Петер Энглунд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Они останавливаются, разбивают лагерь, но и здесь их по-прежнему окружают мертвые тела. По истечении времени включились неумолимые механизмы разложения. В воздухе все ощутимее сладковатый трупный запах, все слышнее жужжание жирных мух. Мужчины не обращают внимания на тела или притворяются, что не обращают внимания, они считают это лишь вопросом гигиены. Но Флоренс и другие сестры милосердия чувствуют себя ужасно, особенно когда наступает время обедать. Прямо за ее палаткой лежит убитый, наполовину засыпанный землей от взрыва. Виднеется его голова. Одна медсестра идет туда и покрывает лицо убитого куском ткани. Затем Флоренс собирается с духом и достает свой фотоаппарат, чтобы запечатлеть многочисленных убитых австрийских солдат. Едва сделав два снимка, она чувствует, как ее охватывает стыд. По какому праву она пристает к этим безжизненным телам? Нет, разве она не видела убитых? Разве она совсем недавно не интересовалась Смертью?
И день продолжался под знаком смерти.
Позднее, в ожидании поручений или приказа о выступлении, она пересиливает себя и снова идет взглянуть на павших. Она проходит мимо деревни, разрушенной артиллерийским огнем русских (“Да поможет Бог ее жителям!”), мимо зловонной братской могилы и выбирается к логическому завершению цепочки событий – к маленькому и ухоженному военному кладбищу, которому от силы один год. Она знала раньше, что австро-венгерская армия очень серьезно относится к местам захоронений и с почетом предает земле даже павших врагов. Небольшая площадка тщательно огорожена. Дорожка ведет к украшенным резьбой воротам с деревянным крестом наверху и надписью по-немецки: “Здесь покоятся герои, павшие за свое отечество”. Под героями подразумеваются разные национальности, рядом с австро-венгерскими солдатами лежат и русские, и немцы. Павший герой еврейского происхождения покоится не под крестом, а под звездой Давида.
За ужином до них доходят обнадеживающие новости. Разумеется, им было известно, что военные операции на севере затянулись, но вместе с тем они собственными глазами видели, что здесь, на юге, масштабное наступление продолжается; к своей величайшей радости, они узнали, что после нового прорыва австро-венгерская армия отступает столь поспешно, что с ней фактически потеряна связь. Похоже, враг оказался на грани полного коллапса. И они воспрянули духом. Без Австро-Венгрии Германии будет трудно продолжать войну, и тогда итальянская армия сможет беспрепятственно оккупировать земли двуединой монархии [205]205
Четыре дня назад итальянская армия, ценой неимоверных усилий и гигантских потерь, наконец-то заняла австрийский город Герц на реке Изонцо и переименовала его в Горицу. Так он называется и сегодня.
[Закрыть].
Флоренс также услышала другую новость, которая особенно обрадовала ее. Одним из государств, вступивших в войну, была Персия. Это произошло год назад, когда в страну вошли британские и русские войска [206]206
Это слабое и нестабильное государство, еще до 1914 года служившее разменной монетой для русского и британского империализма, было разделено на зоны интересов. Начало войны только ухудшило положение. Буквально через несколько месяцев британские войска оккупировали узловой пункт на персидском побережье, имевший важное значение для добычи нефти, и Германия немедленно отреагировала на это, активизировав свою пропаганду и деятельность агентов в этом районе. И когда персидская жандармерия, под руководством инструкторов, шведских офицеров, в ноябре прошлого года оказалась под контролем немцев, русские войска тотчас же вторглись в страну. И русская дивизия вскоре уже стояла в Тегеране.
[Закрыть]. С тех пор там велись бои. Сегодня вечером Флоренс узнала, что человеком, кто внес наибольший вклад в восстановление, так сказать, порядка в Персии, был бригадный генерал сэр Перси Сайкс [207]207
Офицера Перси Сайкса не следует путать с политиком Марком Сайксом, который несколько ранее, в том же году, заключил секретное соглашение с французским дипломатом Франсуа Жорж-Пико (договор Сайкса – Пико), по которому соответствующие страны договаривались после войны совершить раздел Османской империи и передать большую часть ее территории под прямой контроль России, Великобритании и Франции. Среди прочего, Месопотамия должна была достаться англичанам, Ливан французам, а Армения – русским. A War to end all Wars, разумеется. Результатом этого соглашения стало, как всем, к сожалению, известно, – если заимствовать название книги Дэвида Фромкина, – A Peace to end all Peace.
[Закрыть]. Будучи британской подданной, Флоренс не могла не испытывать чувства гордости за свою страну.
Таким образом, день завершился удачно. Солнце закатилось за горизонт, а ночной ветерок доносил до палаток все более резкий запах гниющей плоти тысяч павших героев.
♦
В тот же день Ангус Бьюкенен находился у реки, где его колонна преследовала по пятам отступающего врага, который взрывал за собой все мосты. Он пишет:
Мы спустились в заболоченную низменность, воздух здесь нездоровый, сырой, полным-полно мошкары. Остаток дня и два следующих мы трудились как прилежные муравьи, строя большой свайный мост из бревен, с одного высокого берега реки на другой. В конце третьего дня у меня началась лихорадка, и не хватило сил закончить работу.
123.
Вторник, 29 августа 1916 года
Андрей Лобанов-Ростовский почти участвует в Брусиловском прорыве
Событие, едва не стоившее ему жизни и ставшее самым страшным переживанием за все годы на фронте, начиналось как дурацкая шутка. В понедельник они узнали о том, что Румыния, после долгих колебаний, примкнула наконец к союзникам и объявила Центральным державам войну. Эта новость была воспринята с энтузиазмом [208]208
На самом деле это не так. Вступление Румынии в войну скорее стало обузой для союзников, в особенности для России, которая была вынуждена посылать свои войска на юг, в дорогостоящей и бесполезной попытке помочь новоиспеченному союзнику. Румынская армия оказалась внушительной только на бумаге. Она стяжала славу в двух Балканских войнах 1912–1913 годов, но, как показала практика, славу незаслуженную. Румынским солдатам не хватало оружия, или же оно было устаревшим. Большинство было одето в разноцветную форму образца XIX века. Командный состав отличался слабостью, неопытностью и подчас занимался не тем, чем нужно. Один из первых указов в румынской армии после мобилизации гласил: только офицеры в чине выше майора имеют право применять светомаскировочные меры на поле боя. Вступление Португалии в войну в марте этого года тоже не означало усиления рядов союзников.
[Закрыть], и кое-кто из роты, которой Лобанов-Ростовский должен был оказать поддержку, не мог удержаться, чтобы не ткнуть лишний раз немцев носом в дерьмо. Они выставили большой плакат с надписью по-немецки, где для врага в окопах напротив рассказывалось о свершившемся факте.
Сперва немцы как будто не обратили на это внимания. И когда Лобанов-Ростовский ближе к вечеру во вторник вернулся на свой пост на передовой, там было совершенно спокойно. Спокойнее, чем обычно. Не слышно пулеметов, ночное небо не освещается зелеными, красными и белыми каскадами искр от ракетниц.
Несмотря на затишье (или, может, как раз поэтому), он занервничал. Схватил трубку полевого телефона и позвонил на командный пункт. Спросил, который час. Ему ответили: 23.55.
Ровно через пять минут началось. С немецкой пунктуальностью.
Собственно говоря, затишье вовсе не было иллюзией. Он с остатками гвардейской дивизии находился на реке Стоход, где линия фронта оставалась неизменной после успешного летнего наступления русской армии, названного по имени человека, который спланировал прорыв и руководил им, а именно умного и неортодоксального Алексея Брусилова. Наступление началось в первых числах июня и продолжалось – в несколько этапов – на протяжении всего лета. Результаты стали ошеломляющими. Русские войска не только отвоевали территории невиданного с 1914 года размера (некоторые соединения вновь стояли в Карпатах и угрожали Венгрии), но и нанесли австро-венгерской армии сокрушительный удар, от которого она все еще не могла оправиться.
Брусилов и его южная группа войск совершили, по правде говоря, невозможное: не имея численного превосходства ни в солдатах, ни в пушках, они осуществили стремительное и успешное наступление на отлично окопавшегося врага [209]209
Эта операция, так же как и британское наступление на Сомме, была начата в ответ на призывы о помощи со стороны осажденных союзников. Французов теснили под Верденом, итальянцев выдавливали с плато Азиаго. И когда Брусилов внял мольбам своего командования и предложил начать всеобщее наступление при минимальных резервах, нашлись коллеги, которые скептически покачали головой. Этот план – чистое безумие. Всем ясно, что наступление должно быть подкреплено массивным численным превосходством в живой силе, контролем над воздушным пространством, миллионами снарядов и тому подобное.
[Закрыть].
То, что наступления в большинстве своем оборачивались неудачами и на фронтах воцарялось затишье, имело причиной два парадокса. Первый: для победы требовались основательная подготовка и фактор неожиданности. Но одно исключает другое. Если наступающий начинает приготовления, они немедленно становятся известными противнику. И тогда фактор неожиданности сводится к нулю. Если же делать ставку на неожиданность штурма, приходится забыть о подготовке. Второй: для победы необходимы “тяжесть” и “подвижность”. “Тяжесть” – в виде тысяч орудий, тяжелых, даже сверхтяжелых, – нужна для того, чтобы прорвать оборону противника. “Подвижность” требуется для умелого маневрирования, для использования образовавшихся брешей, прежде чем враг успеет среагировать, заткнув их резервами и новыми, в спешке возведенными укреплениями.
Но и в этом случае первое достается ценой второго. Ибо если армия имеет много пушек, гаубиц, минометов и прочего, что требуется для прорыва, она так медлительна, что успевает продвинуться лишь на несколько километров вперед, оставляя на своем пути трупы и воронки от снарядов. Затем подтягиваются резервы противника, и все начинается сначала. Если же армия вместо этого попытается стать более мобильной, сумеет быстро использовать образовавшиеся бреши, у нее не будет доставать той самой тяжелой техники, которая сможет пробить саму брешь. Именно это, а не какая-то тупоголовость генералов, является главной причиной затяжной позиционной войны [210]210
Сражения были, собственно говоря, не столько дуэлью между окопавшейся пехотой и пулеметами противника и войсками и артиллерией атакующих, сколько между резервами оборонявшихся, быстро перебрасываемыми по железной дороге в нужное место, и медлительным штурмовым авангардом, с плетущейся в хвосте артиллерией, которую так тяжело было везти по земле, сплошь изрытой снарядами.
[Закрыть].
Модель Брусилова была гениально проста. Она основывалась, во-первых, на факторе неожиданности, достигавшейся прежде всего тем, что он сумел избежать массового скопления войск и военной техники. Этого, кстати, и не требовалось, потому что он, во-вторых, не рассчитывал на численное превосходство на отдельном участке фронта – как при наступлении Эверта в марте, – а вместо этого атаковал целый ряд пунктов по всей южной линии фронта. А это уже означало, в-третьих, что немецкие и австро-венгерские генералы не знали, куда направлять свои резервы, и, таким образом, нападающая черепаха победила, в виде исключения, обороняющегося зайца [211]211
Помогло и то, что Брусилов атаковал австро-венгерскую армию, отличавшуюся “прямо-таки испано-габсбургским равнодушием и некомпетентностью” (если процитировать Нормана Стоуна). К тому же сеть железных дорог здесь была менее разветвленной, а количество войск – значительно меньше, чем на Западном фронте. (Что частично объясняет, почему война на Восточном фронте велась гораздо более мобильно.) Многие дивизии Центральных держав большую часть времени провели в поездах, перебрасываемые некомпетентными командирами из одного уязвимого места в другое; Лобанов-Ростовский испытал эти перемещения на себе во время прошлогоднего февральского наступления. Кроме того, многие германские или австро-венгерские части прибывали сюда измотанные и изрядно поредевшие в верденской мясорубке или после тяжелых боев на плато Азиаго.
[Закрыть].
Именно здесь, на реке Стоход, где находится сейчас Лобанов-Ростовский, паровой каток Брусиловского прорыва выпустил весь свой пар и, захлебнувшись, остановился. Причиной тому стало прибытие мощного немецкого подкрепления и, соответственно, русские потери. А также, разумеется, проблемы со снабжением, впрочем, как обычно: нападающий автоматически удаляется от своих железных дорог, тогда как обороняющийся так же автоматически приближается к своим собственным. В районе был предпринят целый ряд наступлений и контрнаступлений. Линия фронта передвигалась то туда, то сюда, но сейчас на реке Стоход спокойно. У обеих сторон истощились силы. На востоке, как и на западе, лето 1916 года ознаменовалось гораздо более серьезным кровопролитием, чем можно было представить.
Для Лобанова-Ростовского последние месяцы выдались спокойными. Вновь обнаружилось, что он не склонен к военной службе: из саперов его перевели в более мирное подразделение, и он возглавил колонну строителей мостов. В его распоряжении оказались восемьдесят человек, шестьдесят лошадей и некоторое число громоздких понтонов. Они всегда шли в арьергарде, вместе с артиллерией. Но даже в этом положении он сумел заметить две вещи. Первое: русская армия стала значительно боеспособнее, особенно здесь, в группировке Брусилова. К примеру, русские окопы стали теперь более укрепленными, по сравнению с тем, что он видел всего год назад в Польше; искуснее стала и маскировка. Второе: войска находились в добром здравии. Он видел, как солдаты маршируют мимо него “дружным строем, с песнями”. Вместе с тем он отмечает, что хотя личный состав и укомплектован, появилось новое пополнение, совсем зеленые офицеры, вчерашние курсанты. Ветеранов 1914 года крайне мало: погибли, пропали без вести, лежат в госпиталях, отправлены домой инвалидами.
Сейчас в порядке исключения Лобанов-Ростовский откомандирован на фронт. Он временно принял командование над парой прожекторов: бывший командир заработал себе нервное расстройство после шести недель на передовой. А прожекторы остались стоять далеко впереди, врытые в землю вместе со своими генераторами. Предполагалось, что они будут включены, если ночью немцы предпримут неожиданное наступление; пехотинцы, которых Лобанов-Ростовский должен был поддерживать, считали эту затею глупой. Они прямо так и говорили: им не нужны ни он, ни его аппараты. Прожекторы вызовут на себя огонь. Но приказ есть приказ.
До сих пор прожекторы не использовались. Так что Лобанов-Ростовский, верный своей привычке, проводил время в основном за чтением книг. Как и все образованные люди, он с некой наивностью пытался через книги составить себе представление о том, что своим величием и непостижимостью однажды поразило его; часами штудировал немецких военных теоретиков и военных историков, таких как Теодор фон Бернгарди и Кольмар фон дер Гольц и, разумеется, Карл фон Клаузевиц, которого считал мрачным гением.
Так вот. Ребяческий плакат с торжествующей новостью о вступлении Румынии в войну на стороне союзников, как прямой результат неожиданного большого успеха Брусиловского прорыва, вызвал ответную реакцию немцев, столь же ребяческую по духу [212]212
В той мере, в которой вообще может быть названо ребяческим то, что несет с собой смерть.
[Закрыть]. Ровно в полночь по окопу, где был воздвигнут плакат, открыли шквальный огонь. Немецкая артиллерия сыграла на всех своих инструментах, причем с той убийственной точностью и согласованностью, на какую она только была способна: фальцет легкой полевой артиллерии, бас гаубиц и баритон минометов.
Технический термин многоголосия – “ураганный огонь”. Андрей Лобанов-Ростовский находился прямо в эпицентре этого шквала из стали, клубов дыма и газов. Он со своими солдатами забился в импровизированное убежище. Судорожно прижимает к уху трубку полевого телефона. Между взрывами возникает пауза. И он слышит обрывок телефонного разговора: “Докладывает девятая рота. Пятнадцать убитых. В остальном все в порядке”. Затем прогремел новый залп, на этот раз совсем близко. Дрожит земля. Клубы пыли. Гром. Телефон умолкает. Сквозь образовавшуюся наверху дыру просачивается свет. Лежать под огнем – это что-то новое для него:
Невозможно описать эти чувства словами, но те, кто пережил то же, что и я, меня поймут. Пожалуй, самое подходящее название происходящему – мощное землетрясение, к которому примешиваются грохот грома и гроза, словно резвится какой-то шутник-великан, зажигая сотни молний. А я лежал в своей яме, посреди шума и грохота, пытаясь сообразить, что я должен делать, чего от меня ждут.
Он приобрел тот же опыт, что и миллионы солдат, впервые оказавшиеся в окопах, а именно: зримый мир сужается – ведь видишь очень мало, – тогда как стремительно расширяется мир, воспринимаемый через обоняние и слух. Особенно звуки кажутся ревущими, оглушающими. Две мысли вспыхивают в его потрясенном сознании. Первая: “Если со мной что-то случится, будет жаль, что я так и не дочитал книгу фон Клаузевица”. Вторая: “На меня смотрят мои солдаты, я должен скрывать свой страх”.
Немного погодя Лобанов-Ростовский вообще утрачивает чувство времени в этом кипящем хаосе. В какой-то момент он чувствует, – не слышит, не видит, именно чувствует: сейчас что-топроизойдет, – и не успевает он опомниться, как рядом по кругу рвутся снаряды калибра 15 см. Очнувшись, он видит, что его засыпало землей, но он цел и невредим. Один из лежащих рядом с ним унтер-офицеров говорит, что снарядом разнесло на куски прожектор. С закатного неба сплошным градом продолжают падать снаряды.
Внезапно становится темно и наступает тишина.
Тишина возникает “так резко, что причиняет почти физическую боль”.
Ровно три часа ночи. Немецкая пунктуальность.
Теперь, когда все позади, Лобанова-Ростовского начинает трясти. Он дрожит так, что весь покрывается потом.
Этой ночью больше ничего не происходит.
124.
Суббота, 16 сентября 1916 года
Мишель Корде работает допоздна в министерстве в Париже
Ранняя осень. Высокое чистое небо. Газеты, как обычно, раздражают его. Первые полосы пестрят жирными заголовками о новых победах союзников. И только на третьей полосе он замечает печальную новость. Три строчки о том, что румынская армия продолжает отступать.
Больше ничего. Корде только что прочитал письмо, написанное одним полковником, в котором рассказывалось о кошмарном событии, недавно произошедшем в Вердене, где все ещепродолжалось сражение, пусть даже менее ожесточенное. (Неделю назад французские войска атаковали Дуамон и захватили несколько окопов. Два дня назад немцы предприняли контрнаступление. Одновременно с этим пробудились от спячки участники сражения на Сомме. Вчера там на фронте была впервые использована новая военная техника: речь шла о танке, оснащенном орудиями и пулеметами, покрытом стальной броней, на гусеничном ходу.) Неиспользовавшийся железнодорожный туннель под Таваннами давно уже служил войскам убежищем, квартирами и складом боеприпасов. Здесь всегда было полно народу: солдаты, отставшие от своих частей, или те, кто прятались от постоянного артобстрела. В ночь на 5 сентября склад боеприпасов взорвался, и в огне пожара погибло от пятисот до семисот солдат. Пресса ни словом не обмолвилась об этом происшествии. (О нем даже не доложили политическому руководству.)
Существовала жесткая и всеохватывающая цензура, ее правила нельзя было обойти [213]213
Несколько примеров того времени. Публикация статьи под названием “Мы не побеждены” приостанавливается, точно так же изымается и фрагмент из другой статьи о том, что в войне уже погибло около пятисот тысяч французов. Пресекаются любые намеки на то, что союзники выигрывают на затягивании войны, что в Румынии умерло огромное количество маленьких детей. Запрещены любые дискуссии о зондировании немцами вопроса о мире. Можно цитировать только крайне националистические и экстремистские германские газеты, чтобы продемонстрировать, что таковы взгляды всех немцев. Из официальной британской кинохроники о сражении на Сомме, показанном во Франции, были вырезаны некоторые сцены, в том числе самая известная: солдаты поднимаются из окопов, и один из них падает назад, сраженный пулей. (Следует отметить, что эта сцена, скорее всего, была постановочной.)
[Закрыть]. В газетах нередко встречались белые пустоты, зияющие после того, как из номера в последнюю секунду снимали некоторые статьи. Речь шла также о семантических манипуляциях, граничащих с нелепостью. Авторов, использовавших выражение “после мира”, заставляли писать “послевоенный период”. Один его знакомый коллега, работавший в смежном министерстве, сумел на днях убедить газеты перестать использовать слово “конные состязания” и писать вместо этого “отбор коней”. “Мы спасены!” – фыркает Корде.
Но больше всего его раздражают не сама цензура или языковые правила, а тот факт, что журналисты столь охотно позволили превратить себя в рупор идей политиков-националистов и твердолобых военных. Корде пишет в своем дневнике:
Французская пресса никогда не откроет правды, даже той правды, которая возможна в условиях цензуры. Вместо этого она бомбардирует нас пафосной болтовней, оптимизмом, систематическим очернением врага, решительно скрывая от нас ужасы и горести войны, – скрывая все под маской морализаторского идеализма!
Слово являлось стратегическим сырьем на войне.
После обеда Корде решил прогуляться к министерству пешком. На бульваре ему встретились прибывшие в отпуск израненные, увешанные медалями офицеры: “Казалось, они вернулись сюда за тем, чтобы получить в награду восхищенные взгляды”. Он проходит мимо очередей в бакалейные лавки. До сих пор непреложным аргументом пропаганды было то, что немцы во всем нуждаются, тогда как во Франции все есть. Теперь нехватку продовольствия ощущают и французы. Трудно достать сахар, масло продается только по сто граммов, апельсины вообще исчезли с прилавков. Вместе с тем город приобрел новые черты с появлением нуворишей, “новых богатых”. Их называли еще NR. Это были акулы черного рынка, спекулянты, все те, кто наживался на военных контрактах, или на нехватке товаров, или на чем-нибудь еще. Нувориши являлись завсегдатаями ресторанов, ели самые дорогие блюда и пили самые изысканные напитки. Ювелирам редко когда удавалось продавать столько драгоценностей. Дамская мода пышна и роскошна. О войне почти не вспоминают. По крайней мере, низшие классы.
В этот вечер Мишель Корде работает допоздна. Он со своим коллегой из министерства образования долго корпит над докладом для комитета по изобретениям. Доклад готов только к двум часам ночи.
125.
Понедельник, 18 сентября 1916 года
Павел фон Герих покидает передовую под Бубновом
Осенняя ночь. Осенняя тьма. Наконец-то смена! Им выпали нелегкие деньки. Новое масштабное наступление провалилось. Позавчера полк потерял 2500 человек за 20 минут. А всю вчерашнюю ночь они были заняты тем, что собирали убитых и раненых с немецкой колючей проволоки. И все это под обстрелом и при свете сигнальных ракет. Их окоп находится под интенсивным артиллерийским огнем. Множество раз Павел фон Герих оказывался на волосок от гибели. Ему было трудно передвигаться. Он остался единственным нераненым офицером в батальоне. (Во всем полку таких оставалось всего шесть.) Они пережили газовую атаку. Один из его солдат тронулся умом. В течение двух дней они не получали никакой еды.
Фон Герих вновь стал командиром батальона (исполняющим обязанности), несмотря на свои недуги: гвардейский корпус в последнее время понес колоссальные потери, в том числе среди офицеров, так что выбирать не приходилось. И когда появились представители 3-го полка и сообщили, что пришли им на смену, все несказанно обрадовались, и фон Герих тоже. Вывод личного состава осуществлялся чрезвычайно осторожно. Солдаты попарно покидали окопы, получив приказ собраться по ротам в километре отсюда, в рощице. Они не хотели, чтобы их обнаружили. Позже они шли через изрытое воронками от снарядов поле, и он ощущал миндальный запах хлора.
Днем фон Гериха отвезли на подводе в Луцк. Он не был ранен, но просто-напросто исчерпал все свои силы, был на грани коллапса. В тот же вечер его погрузили на санитарный поезд, идущий в Петроград. Он горевал при мысли о том, что оставляет своих солдат, тех, кто уцелел, и особенно свою старую роту, 14-ю, которая попрощалась с ним, когда его увозили. “Но мысль о доме вытеснила все горькие чувства, и под свист паровоза я с наслаждением откинулся на мягкие подушки”.
♦
Через несколько дней он перелистывал газеты и, к своему удивлению, обнаружил, что о большой наступательной операции, повлекшей за собой такие потери, не написано ни слова. Вместо этого кратко сообщалось, что “ничего значительного не происходило”.
126.
Сентябрьский день 1916 года
Пал Келемен посещает привокзальный ресторан в Саторальяуйхели
Кое-как исцелившись от малярии и отдохнув за время долгого периода реабилитации – были и посещения церкви, и кутежи, – он вернулся на более легкую службу. Сегодня он едет с Закарпатского фронта, из Ужока, куда он поставил партию вьючных лошадей. В Ужоке капитан пехоты, в обмен на новенькие шикарные ботфорты из золотисто-коричневой кожи, предоставил ему первый настоящий отпуск за последние полтора года. Он поедет в Будапешт. У Келемена прекрасное настроение.
В Саторальяуйхели он должен пересесть на другой поезд, а сейчас ожидает его в привокзальном ресторане. Здесь множество пассажиров, старых и молодых, женщин и мужчин, гражданских и военных, “они теснятся вокруг столиков, покрытых безобразными скатертями”. Его взгляд падает на юного, в орденах, прапорщика, с мальчишеским лицом:
Он сидит за столом и спокойно ест кусок торта, покрытый желтой глазурью, который лежит перевернутый на тарелке. То и дело оглядывает зал ресторана, но взгляд у него пустой, усталый, и всякий раз он снова опускает глаза на кусок торта, с наслаждением поглощая его. На нем неряшливая полевая форма, самая обыкновенная, на груди приколоты большие и маленькие серебряные медали. Наверное, он был дома, в отпуске, и теперь возвращается в окопы.
В ресторане толчея, картина все время меняется. А он все сидит у стены, будто эта толчея не имеет к нему никакого отношения, занятый собственными мыслями, с куском торта номер два, который быстро уменьшается на тарелке.
Он делает глоток воды и берет третий клин со стеклянной вазочки на высокой ножке, где лежит этот глазированный торт, разрезанный на готовые порции. Он ест не просто потому, что торт вкусный. В ожидании суровых времен он пытается складировать в памяти приятные вкусовые ощущения, связанные с домом.
127.
Суббота, 23 сентября 1916 года [214]214
Дата несколько неточная. Возможно, это было днем раньше.
[Закрыть]
Паоло Монелли беседует с убитым на Монте-Кауриоль
К тому времени они уже побывали на многих ужасных горах, но, судя по всему, эта оказалась самой ужасной. Около месяца назад они штурмом взяли Монте-Кауриоль, что стало большим успехом, ибо гора высоченная, а австро-венгерские позиции были весьма надежными. Потом произошло то, что обычно происходило с победителями: напряжение и потери дали о себе знать, не оставив сил на дальнейшую борьбу. Противник подтянул свежие войска и начал контрнаступление, ибо теперь этот пункт, в общем-то незначительный, упоминался во всех фронтовых сводках и ежедневных газетах, а значит, превратился в военный трофей, за который стоит сражаться.
Рота Монелли отбила несколько вражеских контрнаступлений. На колючей проволоке заграждений висели мертвые австрийцы. Потери в собственных рядах тоже были велики. Почти все это время они находились под артобстрелом с окружающих высот. Монелли замечает, что из прежнего состава взвода не осталось почти никого. От валявшихся повсюду трупов исходил запах разложения. В горной расселине поблизости тоже гнили два десятка трупов. Одним из убитых был австрийский военврач. Его тело находилось на таком расстоянии, что Монелли мог наблюдать постепенные изменения, происходившие с покойником. Вчера лопнул нос, из него потекла какая-то зеленая жижа. Странно, но глаза покойника до сих пор оставались неповрежденными, и Монелли казалось, что они осуждающе смотрят на него. Он пишет в своем дневнике:
Это не я тебя убил, и с какой стати ты, врач, отправился в эту ночную атаку? У тебя была милая невеста, писавшая тебе, наверное, лживые письма, но они были такие утешительные, что ты хранил их в своем бумажнике. Реш забрал у тебя бумажник, в ту ночь, когда тебя убили. Мы видели ее карточку (милашка, – хотя кое-кто отпустил непристойные шутки), и еще фотографии твоего замка, и все дорогие тебе безделушки, которые ты носил с собой. Мы собрали их в маленькую кучку и расселись вокруг нее в своем убежище, довольные тем, что отбили атаку, с бутылкой вина в награду за свой тяжкий труд. Ты умер совсем недавно. И ты уже ничто, не более чем серая масса, которой предназначено истлеть, а мы живы, прапорщик, так неприлично живы, что я тщетно пытаюсь найти хоть каплю раскаяния в глубине души. Стоило ли тебе так наслаждаться жизнью, держать ее юное тело в своих объятиях, чтобы затем пойти на войну, словно в этом заключалось твое призвание? Может, и ты тоже был опьянен высокой целью, своим местом в первых рядах, жаждой самопожертвования? Быть убитым ради чего? Оставшиеся в живых спешат, живые привыкли к войне и ее горячечному ритму, живые не верят, что и им придется погибнуть, они больше о тебе не вспоминают. Твоя смерть не только завершила твою жизнь, она будто аннулировала ее. Еще немного ты побудешь номером в списке сержанта как объект для патетического некролога, но как человек ты больше не существуешь, словно бы никогда и не существовал. Только углерод и сероводород – вот что лежит перед нами, прикрытое лохмотьями, оставшимися от военной формы; мы называем их умершими.
Трупный запах из расселины в скале становился все более тлетворным. С наступлением темноты четверым солдатам приказали убрать оттуда трупы. Они получили по противогазу и по стакану коньяку.
128.
Середина октября 1916 года
Флоренс Фармборо лишается волос
Ночью, несколько недель назад, в самый разгар лихорадки, ей казалось, что у нее три лица: одно – ее собственное, второе принадлежало одной из ее сестер, а третье – раненому солдату. С каждого из лиц градом катился пот, его надо было без конца вытирать. Если это прекратить, она знала, что умрет. Она попыталась было позвать медсестру, но вдруг обнаружила, что у нее пропал голос. Теперь Фармборо находится в Крыму, по-осеннему солнечном и теплом. Ее лечат в санатории для туберкулезных больных. За окном все еще зеленеет, и она быстро идет на поправку. Она пишет в своем дневнике:
Хуже всего пришлось моим волосам, они висели клоками. И вот однажды ко мне в комнату зашел парикмахер и не просто отрезал космы, – он обрил меня наголо! Меня заверили в том, что жалеть не о чем, что волосы быстро отрастут, еще длиннее и гуще, чем прежде. С этого дня я ношу свой сестринский платок, и никто, кроме нескольких человек, не догадывается, что у меня под ним голый череп, без единой волосинки!
♦
В этот же день Мишель Корде отмечает в своем дневнике:
Альбер Ж., приехавший на побывку, рассказывает, что солдаты питают ненависть к Пуанкаре, – их ненависть основывается на убеждении, что именно этот человек развязал войну. Он уверяет также, что солдат заставляет идти в атаку страх показаться трусом в глазах других. Он, смеясь, говорит, что надумал жениться, ведь это даст ему право на четырехдневный отпуск, и потом еще три дня, когда родится ребенок; кроме того, он вообще рассчитывает получить свидетельство об освобождении от армии, когда у него родятся шестеро малышей.
129.
Четверг, 19 октября 1916 года
Ангус Бьюкенен лежит больной в Кисаки
Тюфяк, на котором он лежит, набит травой. Ангус чувствует себя уже лучше, чем прежде, он все еще слаб. Дизентерия. Симптомы известные: боль в животе, лихорадка, кровавый понос. Бьюкенен слишком долго числился здоровым и неизбежно должен был заболеть.
Походной жизни и трудностям нет конца. Военные действия все больше принимают характер партизанской войны, враг вытеснен с берегов реки Пангани и отступает в глубь германской Восточной Африки. Бьюкенен – среди преследователей, они гонят врага через буш, на юг. Иногда их путь лежит через населенные места, и тогда они пополняют запасы продовольствия, ведя обмен с местным населением [215]215
Деньги их не интересуют. У них и так предостаточно обесцененных немецких бумажных банкнот.
[Закрыть]. Бьюкенену удалось выменять двух куриц и шесть яиц за старую рубашку и жилет.
Порой им улыбалась удача. У реки Лукигура в конце июня они вступили в сражение с вечно ускользающими немецкими частями. Несмотря на усталость, королевские стрелки вновь отличились: сначала молниеносной атакой с фланга, потом штыковой атакой, которая обратила противника в бегство. Важнейший город Морогоро, расположенный у центрального железнодорожного узла, был взят в конце августа: досталась эта победа ценой ожесточенных боев и утомительным, а иногда и вовсе безрезультатным маршем по труднодоступной местности, где пересеченной, а где заболоченной. Дар-эс-Салам, главный порт германской колонии, находился в руках британцев с начала сентября. Когда дивизия Бьюкенена продвигалась на юг, немцы продолжали отступать, шаг за шагом, то и дело ввязываясь в мелкие стычки.
В конце сентября, после неудачных попыток настигнуть ускользающего врага, все замерло. Линии снабжения оказались слишком растянуты, запасы истощились, солдаты обессилели. Рота Бьюкенена представляла теперь собой жалкое зрелище. Истощенные, полураздетые, к тому же они остались без нижнего белья и носков. Новости до них не доходили, письма из дома шли по полгода. Они имели весьма слабое представление о том, какова реальная ситуация на войне.
Осенью Бьюкенен переболел малярией, но поправился; теперь вот дизентерия. Компанию ему составляла та курица с белым хохолком, которую он выменял еще в начале июля, решив оставить ее себе. Курица стала прямо-таки ручной. На марше она ехала в ведерке, которое нес слуга-африканец. Когда они разбивали лагерь, она разгуливала в поисках пищи и каким-то чудесным образом всегда возвращалась обратно, отыскивая дорогу среди множества человеческих ног и конских копыт. Каждый день курица приносила ему по яйцу. Однажды он увидел, как она убила и съела маленькую ядовитую змейку. Ночью она спала рядом с его постелью.
Итак, Бьюкенен лежит на травяном тюфяке и пишет дневник. Он болен, подавлен, в том числе из-за военных неудач:
Сегодня чувствую себя бодрее, настроение тоже улучшилось. Но иногда мне становится невмоготу и я желаю, чтобы мы поскорее закончили здесь все дела и убрались из этой Африки. Я страстно желаю, чтобы мы хоть на короткое время смогли сменить краски и свойства этой давно приевшейся картины [216]216
Бьюкенен, вероятно, имеет в виду военные будни, а может быть, окружающую природу. Именно этот его текст содержит неясности. Скорее всего, он писал это во время лихорадки.
[Закрыть], которая засела в нашем сознании. Меня пугает чувство, что я будто в тюрьме и тоскую по свободе, хочу вырваться за пределы тюремных стен. В такие моменты меня обуревают мысли, воскресают старые воспоминания, милые сердцу образы прошлой жизни, которыми я не устаю восхищаться. И я жажду воскресить эти воспоминания, вдохнуть в них жизнь; хочу, чтобы они всей своей мощью подняли мое тело и перенесли через эти колоссальные расстояния в любимую, мирную страну!
♦
В тот же день Паоло Монелли в тревоге прислушивается к громыханию итальянской артподготовки на Монте-Кауриоль, где продолжались бои. Он записывает в своем дневнике:
Небо затянуто серыми, низкими тучами. Из долины поднимается туман, он окутывает обе вершины, – нашу и ту, которую нам предстоит атаковать. Если нам суждено погибнуть, мы умрем отрезанные от всего мира, с чувством, что никому не нужны. Смирившись с мыслью о самопожертвовании, все равно хочешь умереть на глазах у других. Погибнуть при свете солнца, на открытой сцене, перед всем миром – так представляешь себе смерть за свою страну. Иначе ты похож на осужденного, которого придушили в темном углу.
130.
Воскресенье, 29 октября 1916 года








