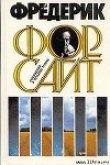Текст книги "Последняя буря"
Автор книги: Пьер Шеналь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Я могу лишь предполагать, какие чувства испытывал Алькоб. Он застыл на своем сиденье. Дыхание его участилось, он все время сглатывал слюну. Но он молчал. Что касается меня, я улыбнулся при воспоминании о том, как несколько секунд тому назад я видел себя в нелепейшем из гробов… Чистый и ясный голос, словно порыв свежего воздуха, ворвался в мой воображаемый гроб, и я с наслаждением вдыхал этот воздух. Я чувствовал, что оживаю, что мои легкие наполняются и тело обретает прежние силы. Волшебное дыхание этого голоса вырвало меня из глубокого летаргического оцепенения. Теперь я был силен, достаточно силен, чтобы приподнять крышку белого гроба! А там – опереться о его края и одним махом вырваться на свободу.
Не медля долее и отбросив все бесполезные слова, я задал самый срочный, жизненно важный вопрос:
– Сообщите, пожалуйста, метеоусловия в Сан-Хулиане!
Ответ пришел сразу, словно оператор догадывался о наших трудностях и ждал этого вопроса с готовой сводкой в руках:
– Метеоусловия Сан-Хулиана в настоящий момент!.. (Фразы перемежались короткими паузами, чтобы мы успевали записывать.) – Облачность восемь на восемь![14]14
Сплошная облачность. – Прим. пер.
[Закрыть] Высота от 20 до 50 метров. Видимость 500 метров. (Слова, определявшие эти жестокие расстояния, произносились так медленно и отчетливо, что не оставалось сомнения в точности цифр.) – Видимость уменьшена ввиду непрекращающихся сильных осадков. Ветер 040 градусов, от 50 до 60 узлов. Давление 28,84 дюйма.[15]15
732 миллиметра ртутного столба (один дюйм равен 25,4 миллиметра). – Прим. пер.
[Закрыть] Температура… – и т. д.
Это сообщение добивало нас, как огромная волна, которая прекращает мучения несчастного утопающего, упорно не желающего идти ко дну.
Одно за другим слова ударами проносились в мозгу. Это было похоже не на ледяной душ – скорее на удары молотом по голове.
Беспощадная буря, которая жестоко трепала нас вот уже несколько часов и которой, казалось, не было конца, захватила и крохотный аэродром Сан-Хулиана. Конечно, аэропорт закрыт, а метеорологические условия не позволяют даже думать о посадке.
Каждая цифра метеорологической сводки била точно в цель. Взрыва радости, вызванного чудесным появлением чистого, четкого голоса, как не бывало. Я чувствовал, что бледнею. Холод сковал меня с головы до ног, кровь застыла в жилах. Я снова превращался в ничтожную игрушку, в жалкий объект прицела. Давно забытый мир живых лишь на мгновение коснулся нас, зажег слабую надежду и тут же разрушил ее. Быстро и безжалостно.
«Небо закрыто восемь на восемь», – оказал оператор. Сплошная облачность. Так и должно было быть. Этого мы ожидали, и теперь не оставалось ни малейшей надежды встретить хоть один солнечный луч. Потолок от двадцати до пятидесяти метров. Ветер пятьдесят-шестьдесят узлов при направлении 040 градусов. Видимость пятьсот метров. Непрерывный проливной дождь. Значит, капли на ветровом стекле уменьшат видимость еще раза в два, а то и больше.
Я чувствовал, что слабею. Волшебный радиомаяк, найденный с таким трудом, оказался бесполезным. А человеческий голос, воспринятый нами как голос спасителя, как символ возвращенной нам жизни, сообщил нам, что мы погибли. Сводка метеорологиче-ских условий в Сан-Хулиане была смертельным приговором: нам.
В кабине воцарилось тяжкое молчание. Ни движения, ни жеста. Воздух, казалось, отяжелел, дышать стало трудно. Снежная буря неслась, мягкая и приглушенная. Мне чудилось, что я падаю. Я больше ничего не видел. Ни циферблатов, ни стрелок, ни цифр – все утонуло в снегу. Я словно провалился куда-то далеко-далеко…
Помню лишь, что я сидел неподвижно на своем сиденье, не вымолвил ни слова. Справа (можно и не глядеть) я чувствовал присутствие второго пилота Педро Алькоба, сидевшего прямо, не сутулясь, достойно и бесстрастно.
Во мне происходила скрытая борьба. Каждая цифра радиосо-общения вызывала мой протест. Поддавшись дьявольскому искушению цифр, все еще звучавших в моей голове, я забыл о реальности, о трудностях управления машиной.
Прежде всего – потолок. От двадцати до пятидесяти метров!.. Представив себе посадку в точно заданном месте, когда самолет выскакивает из облаков в двадцати метрах от земли, я увидел себя самого, вцепившегося в рычаги, обливающегося потом, дрожащего как осиновый лист. Двадцать метров… Это ничто. Меньше чем ничто… А видимость! Пятьсот метров!.. И бреющий полет при видимости пятьсот метров под непрерывными осадками!.. А ветер! Ветер, скорость которого достигает 110 километров в час!
Каждое из этих условий, взятое в отдельности, исключало любую, даже самую отчаянную попытку посадки. Потолок двадцать метров? Это четверть того, что необходимо для приземления в Эсеисе при нормальном функционировании ILS. Видимость пять-сот метров? Треть необходимого минимума, чтобы получить разрешение на посадку!
Потолок, видимость, осадки, ветер! Все объединилось против нас. В сумме эти факторы рисовали картину совершенно ужасную. Нет, ничего не поделаешь.
В довершение всего Сан-Хулиан – крошечный аэродром с примитивной земляной полосой, практически лишенный радиооборудования. Радиомаяк, на который мы шли сейчас, расположен не на оси полосы. Но была и еще одна причина, которая исключала возможность посадки при таких условиях, – заглохший мотор. Даже в ясную погоду садиться на одном двигателе сложно и опасно.
Устрашающий заговор враждебных стихий! Почему на моем пути столько препятствий разом – ведь каждое из них само по себе непреодолимо? Это значит, настал мой час. Мой черед. Но отчего именно такая смерть настигает меня, ведь у летчика выбор столь широк!..
Я вел самолет в прежнем направлении, слепо повинуясь стрелкам радиокомпаса. Я чувствовал, что смертельно ранен, но летел прямо вперед, не зная, что можно сделать еще, – словно подбитый зенитным снарядом бомбардировщик, который еще продолжает свой путь, прежде чем рухнуть окончательно побежденным.
Я бормотал все снова и снова, куда-то в сторону Алькоба:
– Даже с двумя моторами это совершенно невозможно. Будь видимость в четыре раза больше, мы все равно ничего не могли бы сделать.
Каждый раз я произносил эти полные пессимизма слова очень медленно, не колеблясь, полностью отдавая себе отчет в том, что я говорю. Это означало, что я долго взвешивал все «за» и «против», прежде чем решиться сообщить мои выводы второму пилоту.
Это означало:
«Мы приближаемся к финишу. Больше сделать ничего нельзя. Мы проиграли, Алькоб. Мы проиграли самую крупную и самую жестокую битву. Эта наша буря – последняя из последних!»
Алькоб всякий раз поворачивался и как-то странно глядел на меня. Одного его слова или жеста, быть может, было бы достаточно, чтобы я продолжил борьбу или ускорил развязку. Но Алькоб не отвечал ни словом, ни знаком. Он просто был на своем месте и следил за стрелками и шкалами, иногда отрываясь от них и бросая бесстрастный взгляд на пелену белых хлопьев, преграждающих нам путь.
Скорее всего, к этому времени от тоже понял, что все потеряно и что вся эта долгая борьба напрасна. И все же своим молчанием он давал мне простой урок самообладания. «Что толку от стенаний и жалоб!» – слышалось мне.
В самом деле! Какой смысл? Нас уже вычеркнули из списка живых пилотов!
– Откуда вы летите? Пункт назначения?
Снова раздался тот же голос, более ясный и четкий, более сильный, чем прежде; значит, мы быстро приближались к передающей станции. Но какая теперь от этого польза?
Откуда и куда мы летим? Какая разница? Мы пришли издалека, а уходим еще дальше. Мы на пути в никуда! Я снова внимательно вслушивался в этот голос. Но радости не было. Только настороженность, никаких иллюзий, никаких искушений. Нервы были напряжены, я был весь внимание, я только что определил географическую точку… Он доносился с другого берега реки, теряющейся вдали, там, внизу, с другого берега гигантской реки, которую нам не переплыть.
Голос с далекого берега, где была жизнь, казалось, издевался над нами: «Говорит жизнь! Спокойная жизнь! Вселяющая уверенность жизнь, которую вы знали и которую вы не увидите больше». И впервые в своей жизни я по-настоящему испытал желание быть на месте того, другого.
Выбор

Стрелки часов продолжали свой неутомимый бег. Время от времени я мысленно суммировал факторы, влияющие на полет, подводил как бы итог нашему положению.
Исчерпав свой скудный запас маневров, я должен был теперь выбирать одно из двух.
Можно было продолжать лететь, как мы летели, на той же высоте, но повернув на север, в ожидании сомнительного улучше-ния погоды, которое позволит нам где-нибудь сесть.
Я размышлял над этим вариантом и пытался представить себе, выдержу ли еще два часа такой вот борьбы. Хватит ли сил? Смогу ли я так долго сохранять управление машиной в этих невероятных условиях?.. Два часа… Такой срок отвадился нам запасом горючего с учетом нового режима его расхода.
Я задавал себе и другие вопросы. Хватит ли на два часа масла? Способен ли двигатель выдержать такой режим еще два часа? Есть ли хоть малейший шанс, что где-то впереди в течение этих, двух часов погода улучшится?
Я представил себе бесчисленное множество новых осложнений, которые, несомненно, появятся у нас, если механизмы начнут сдавать, а нас самих постепенно одолеет усталость. В таких условиях любой пустяк сможет ускорить нашу гибель.
Какова вероятность выжить в подобной ситуации? Я лихорадочно перебирал в уме все возможности, но тщетно. Итак, исход такого выбора – смерть. Неизвестно только, где именно мы ее встретим.
Второй вариант заключался в том, чтобы ускорить события, идти прямо навстречу смерти, но полностью сохраняя управление машиной до самого последнего момента. Этот второй вариант был весь передо мной и заключался он в том, чтобы снижаться по приборам до встречи с землей в Сан-Хулиане. Какой будет эта «встреча» с землей? Можно только гадать. Я знал правила жестокой игры и мысленно представлял все трудности, которые встанут на моем пути, одну за другой. И в моем воображении обобщенный их символ: я должен пролететь между гигантскими кеглями, ни одной не задев, и ни один из шаров не должен задеть меня.
Шанс выжить в этом случае? Девять тысяч девятьсот девяносто девять против и один-единственный шанс – за..
Голос радиста вывел меня из размышлений:
– Откуда идете? Куда направляетесь?
Я ответил усталым бесцветным голосом, сделав нечеловеческое усилие, чтобы не дать просочиться через микрофон ни малейшей частице моих переживаний. Я был удивлен, услышав свой голос, – я не узнавал его.
– КДП Сан-Хулиана! Мы следуем из Рио-Гальегоса. Первоначально пункт назначения был Трелью. Терпим бедствие. Из-за образования льда заглох один мотор. Хотим попытаться пробиться на ваш аэродром.
И все.
Как только я выключил микрофон, началась наша последняя битва за жизнь. Прежде всего следовало изучить схему подхода по приборам к Сан-Хулиану. Мы знали, полоса там земляная, но мы ни разу не совершали на нее посадки и даже не могли припомнить, пролетали когда-нибудь над ней или нет.
– Есть у нас схема подхода к Сан-Хулиану?
Не успел я сказать это, как Алькоб схватил огромную синюю папку и довольным жестом вытащил оттуда лист, а папку поставил на место…
На какую-то долю секунды он задержал схему у себя. Теперь, когда мы собрались начать посадку, каждое указание этого документа становилось для нас приказом. Бросив жадный взгляд на схему, он протянул ее мне и наклонился в мою сторону, чтобы продумать вместе со мной процесс посадки.
В несколько секунд мы проанализировали план, которому должны следовать с величайшей точностью, чтобы отыскать аэропорт. Изумление и ужас охватили нас обоих:
– Ветер! Последняя стадия глиссады… Направление ветра при заходе на посадку – точно в хвост.
Направления полосы и ветра практически совпадали. А на земле ветер был скоростью 110 километров в час. Значит, в воздухе его скорость должна составлять около 130 километров в час!
– Это невозможно! С таким ветром в спину не сядешь!
Я сообщил этот грустный вывод Алькобу, подчеркнув слова «в спину».
Тот единственный шанс, в который я на секунду поверил, исчез, унесенный ветром скоростью 110 километров в час!..
Для читателя, не знакомого с навигацией, можно дать следующие пояснения. Согласно схеме захода на посадку, самолет должен пройти над радиомаяком на высоте 3000 футов, затем развернуться вправо и выйти на воображаемую линию, которая проходит через радиомаяк и ориентирована по азимуту 50 градусов. Во время разворота необходимо начать снижение, чтобы в течение двух с половиной минут достичь высоты 1500 футов. Далее развернуться влево и вывести самолет на ось, направленную под углом 215 градусов и также проходящую через радиомаяк. И все это при непрерывном снижении до высоты 750 футов, предельно безопасной. Направление 215 градусов противоположно с точностью до 5 градусов направлению 40 градусов, т. е. направлению ветра. Поэтому происходит наложение скоростей ветра и самолета, и тогда получается, что наша машина выйдет на посадочную прямую со скоростью, близкой к 300 километрам в час.
Не нужно быть специалистом в аэронавигации, чтобы понять, что при таких условиях бессмысленно пытаться посадить самолет. А ведь на схеме подходов указано одно-единственное направление для посадки по приборам, так как в обратном направлении траекторию захода на посадку пересекают многочисленные препятствия. Читателю следует также знать, что ориентировка и управление самолетом при посадке по приборам в условиях ограниченной видимости всегда одна из самых сложных операций. История авиации знает множество связанных с этим аварий. Их жертвами оказывались даже опытные пилоты, и причина в большинстве случаев заключалась в ничтожнейшей ошибке, допущенной пилотом в ответственный момент.
Посадить двухмоторный самолет, у которого заглох один мотор, и в хорошую погоду на нормальном аэродроме крайне сложно, так как возможности пилотирования ограничены. Допол-нительные трудности связаны с режимом работы единственного двигателя.
Те из читающих эти строки, кто обладает некоторым аэронавигационным опытом или познаниями в этой области могут живо представить себе все эти чудовищные трудности. Самые опытные пилоты, даже те, что налетали добрый десяток тысяч часов (а таких очень мало), не способны – я в этом абсолютно уверен – даже имея пылкое воображение, представить себя в подобной ситуации. Думаю, никто не стал бы оспаривать, что тот один шанс, о котором я говорил выше, растаял у нас на глазах.
Помнится, рассматривая схему подходов к аэродрому Сан-Хулиан, я проклинал про себя все на свете. Было ли это проявлением нервозности или я просто отводил душу – не знаю. Кажется, одно из этих проклятий я даже произнес вслух, призвав в свидетели Алькоба. Взывал ли я бессознательно к всевышнему, просил ли о помощи, обращая на себя его внимание, или хотел узнать у него причину такого ожесточения против меня?
Левой рукой я потирал лоб – жест машинальный, – будто от этого могли проясниться мысли. Но подспудно я чувствовал, что скорее это было знаком покорности судьбе.
Помню, в какой-то момент на меня напал странный, без всякого повода и причины, нервный смех, будто у осужденного, поднимающегося на последнюю ступеньку эшафота.
– Нет, Алькоб, это немыслимо! С одним мотором…
Я намеренно выделил последние слова.
Изучение схемы подходов закончено. Впрочем, довольно беглое изучение. В этой задаче решать нечего. Невыполнима, и все. Я протянул лист Алькобу, чтобы он тоже ознакомился с порядком подходов и посадки. В моем жесте легко было усмотреть, что катастрофа неизбежна. Делая вид, что ничего не заметил, Алькоб взял карту и углубился в чтение ее.
А ведь я не раз давал ему понять, что гибель неизбежна, что у нас нет надежды на спасение. Разделял ли он мое мнение? Представлял ли себе, как и я, это ужасное снижение навстречу смерти; этот неосуществимый рывок, который я намеревался осуществить? Знал ли он, что, встав на этот безысходный путь, я смогу обменяться с ним лишь техническими терминами или отдавать ему краткие приказания? Подозревал ли он, что этим жестом я прощался с ним, не в состоянии произнести слова, которые сам не хотел услышать?
Одно очевидно – Алькобу не было страшно, во всяком случае он никак не выдал своего страха. Должен признать, что его хладнокровие было главным фактором, который помог мне собраться с мыслями перед началом самого жестокого испытания.
Я был готов. Физически. Психически. Технически.
Что ж, пусть мои усилия бесполезны, пусть пробиться сквозь облака и совершить посадку невозможно – я дал себе обещание выполнять все маневры с предельной точностью, на которую был способен, бороться изо всех сил, чтобы сохранить эту точность вплоть до последний секунды.
Мысленно я представил себе все действия, которые нужно осуществить, – виражи, снижение в сочетании с разворотами и кренами, установки триммеров во время маневров, изменение режима двигателя на разных стадиях посадки, и все это в сочетании с наблюдениями за каждым из бортовых приборов.
Какой-то особый ужас охватил меня при мысли об авиагоризонтах и указателях скорости. Я знал, будет очень трудно держать показания этих приборов в пределах безопасных значений, особенно после того, как все свое внимание мне придется сосредоточить на выведении самолета на траекторию последнего участка посадки. А тут еще мотор, который тянет в сторону, безжалостно смещая указатель курса и заставляя меня без конца заниматься поправками.
Алькоб положил на колени лист со схемой подходов. Очевидно, он тоже был готов. Обычно, когда мы заходим на посадку по приборам, все обстоит иначе. Я передаю управление самолетом Алькобу, а сам держу лист захода на посадку и даю ему указания. Слежу за пилотированием и работой двигателей до последнего подхода, штурвал беру в последний момент, чтобы совершить собственно посадку. Такой метод мы оба находили простым, действенным и надежным. Алькобу такая система всегда нравилась.
Сегодня лист со схемой подходов у Алькоба. Он будет давать мне указания, если я его об этом попрошу.
Время от времени я задавал ему вопросы по схеме – главным образом для того, чтобы держать его в курсе своих действий и самому запомнить необходимые цифры.
Алькоб исправно повторял столько раз, сколько я его спрашивал, каждую цифру – все они стали решающими в предстоящем спуске.
– С какой высоты начинается подход? – спросил я.
– Три тысячи футов. Надо пройти над радиомаяком на высоте три тысячи.
Я понятия не имел, какое расстояние отделяло нас от радиомаяка – начальной точки в схеме захода на посадку. Но по тому, как начали смещаться стрелки радиокомпаса, я мог предположить, что мы не менее чем в десяти минутах пути от радиомаяка. Бегло взглянув на топографическую карту местности, я убедился в отсутствии холмов выше 2000 футов и решил снижаться до высоты 3000 футов. Во-первых, чтобы выиграть время и, во-вторых, чтобы избежать снижения при полете по кругу, что совершенно бессмысленно усложнило бы всю операцию.
– Какой курс взять после прохода над радиомаяком?
– Пятьдесят градусов.
Я отметил нужную цифру на шкале радиокомпаса, повторив цифру вслух. Алькоб в свою очередь также повторил ее.
Таким образом, мысленно я был готов и представлял себе первую фазу операции достаточно хорошо, чтобы начать ее без промедления.
Меня всегда поражала одна странная черта в поведении пилотов: сознание, мысль, расчеты, воображение – все это летит впереди самолета и иногда на довольно значительном расстоянии Прошлое и даже настоящее не существуют. В расчет принимается будущее, только будущее важно.
Снижение я начал без колебаний. Машина быстро возвращала небу взятые взаймы тысячи футов. Маневр не был трудным – самолет словно рвался пойти на снижение. При малейшем прикосновении к рычагам он буквально нырял к земле с пугающей легкостью. Не нужно было даже уменьшать мощность правого мотора.
Я с грустью следил за тем, как легко равнодушные стрелки высотомеров пошли в обратную сторону. Каких усилий стоило мне еще недавне заставлять их двигаться в противоположном направлении!
Точно на 3000 футов я прекратил снижение и немедля приступил к новому циклу проверки рукояток и настройки триммеров, а также подправил регулировку правого мотора. Быстрый взгляд на приборы, точная отстройка радиокомпасов, проверка автопилота, курса, авиагоризонтов – все в порядке, все готово к последнему бою.
Прошло еще несколько долгих минут, оставалось только ждать… Ни одного движения, ни одной мысли. Теперь уже слишком поздно. Адский механизм запущен.