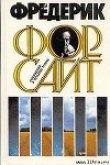Текст книги "Последняя буря"
Автор книги: Пьер Шеналь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Ледяные оковы

Если летишь сквозь снежную бурю, особенно ночью, с зажженными фарами, глазам предстает необычное зрелище. Меня оно всегда завораживало, я думаю, это одно из самых красивых зрелищ, которые доводится наблюдать пилотам.
Время от времени, протягивая пальцы к остеклению кабины, я чувствовал покалывание разрядов статического электричества, и искры длиною до 10 сантиметров с сухим треском вылетали из-под моих ногтей. Такое явление хорошо известно пилотам, летающим в полярных зонах, и все мы любим играть с этими, искрами – они изумляют, забавляют и в то же время совсем безобидны.
Мое внимание вдруг привлекло некоторое расхождение в показаниях давления наддува на входе двигателей. Показания двух стрелок этого «двойного» прибора, вращающихся на одной оси и имеющих общую шкалу, всегда совпадают. Одна из стрелок соответствует правому двигателю, а другая – левому. Сейчас одна стрелка несколько сместилась относительно другой и это сразу бросилось в глаза. Разница была около миллиметра. Тем не менее – я был абсолютно в этом уверен – раньше оси обеих стрелок совпадали и показывали давление 28 дюймов.[8]8
0,97 килограмма на квадратный сантиметр. – Прим. пер.
[Закрыть] Оба двигателя были отрегулированы мною с величайшей тщательностью, а винт фиксации ручек закреплен. Так в чем же дело?
Ни Алькоб, ни я не прикасались к ручкам – я был в этом уверен. И вследствие вибрации вряд ли могло произойти смещение в системе управления, связанное, например, с проскальзыванием тросов. В этом я был убежден. Но факт оставался фактом: одна стрелка показывала 28 дюймов, другая 27,5. Значит, под кожухом одного из двигателей BOT-BOT что-то случится.
Первым моим порывом было обратить внимание Алькоба на прибор и на разницу в давлении. Я вновь подчеркиваю, что разница была ничтожно мала – обе стрелки расходились не более чем на один миллиметр.
– Похоже, начинается образование льда на входе левого мотора!
Я сказал это Алькобу безразличным тоном, не притрагиваясь к ручкам.
С этого момента мы не отрывали глаз от злополучного прибора. Прошло несколько секунд: две… три… четыре… Во всяком случае, менее десяти. И мы увидели, как левая стрелка спустилась еще на миллиметр. Сомнений не было – мы имели дело со страшным врагом – обледенением. Лед начал пробираться внутрь левого двигателя, во входной патрубок. Ручка, управлявшая поступлением теплого воздуха, была уже в крайнем положении. Последовала короткая проверка положения этой ручки, скорее для очистки совести, – да, ручка осталась на месте, выжата до упора, ее не стронуть.
Я мысленно представил себе систему подогрева. Там была заслонка, закрывающая доступ холодному воздуху и одновременно открывающая отверстие, расположенное под цилиндрами. Мотор дышал через это отверстие, втягивая воздух, проходивший между ребрами цилиндров. Цилиндры нагревались до 185 °C, а ребра – лучшие радиаторы тепла, и воздух, который проходил между ними, был действительно горячим!.. Я старался в деталях вспомнить последний осмотр этой системы – мы проверили тогда герметичность заслонки и ее закрепление в крайнем положении…
Регулирующая заслонка, патрубок, цилиндры, ручка управления… теплый воздух… холодный воздух… лед… Все это быстро и сбивчиво пронеслось в моем воображении. В конце концов, я пришел к следующему выводу: до сих пор моторы работали, всасывая нагретый ими же воздух. Теперь по неизвестной причине в левом моторе подогрев стал недостаточным; цилиндры, хоть и были горячими, испарять снег и кристаллы льда больше не могли. Это было так серьезно, что все остальные проблемы отошли на задний план. Однако отчаиваться рано. Зло обнаружено в зародыше, и есть надежда одолеть его, причем разными способами.
Прежде всего, я начал следить за термометром системы наддува. Я знал, что датчик этого термометра расположен во впускном клапане, в каких-нибудь 20–25 сантиметрах от отверстия для теплого воздуха, на полпути от карбюратора. Температура была 10 °C в каждом двигателе, и это меня озадачило. До точки замерзания запас в целых 10 градусов! Этого вполне достаточно.
Однако, вопреки показаниям термометра, лед все-таки быстро нарастал в системе наддува левого двигателя, и сомнений в этом больше не оставалось. Я предпринял ряд мер, чтобы избавиться от льда. Ручка подачи теплого воздуха уже бесполезна. Надо увеличить собственную температуру двигателя, для этого есть разные пути.
Я подал вперед рычаги шага винтов, увеличив число оборотов каждого двигателя с 2600 до 2750 в минуту. Регулируя давление наддува и газ, я получил давление 33 дюйма с каждой стороны вместо 28. Поскольку моторы начали работать на большей мощности, выделение тепла тоже должно было возрасти, его должно было с избытком хватить на то, чтобы растопить лед.
Мы с Алькобом не сводили глаз с индикатора наддува, который стал вдруг самым главным прибором на доске. Видимость, курс, снежная буря, неудачи с радиостанциями, направление, неустойчивые показания авиагоризонтов – все это отошло на второй план. Теперь мы были заняты только одним, на приборной доске для нас существовал один прибор – указатель давления системы двигателей.
Взгляд наш был прикован к шкале, мы следили за малейшими передвижениями стрелок. Левая, подрагивая, спустилась на 29, затем на 28… 27, и это менее чем за 10 секунд!.. Показания манометра продолжали безжалостно падать, указывая на потерю мощности и на нехватку воздуха, поступавшего в двигатель.
Тогда я не колеблясь применил отчаянный прием, который спас мне жизнь шесть лет назад, тогда я в такую же снежную бурю летел через горную цепь Анд. Я принял управление штурвалом, потянул его на себя, задирая таким образом нос машины, чтобы, не сбавляя мощности моторов, погасить возросшую скорость. Быстро, не ожидая даже, пока скорость достигнет максимально допустимой для такого маневра, я разом выпустил шасси и закрылки. Одновременно нажал на рычаги шага винтов, увеличив число оборотов до 3200 в минуту.
Этот адский маневр требовал крайней решимости и был страшно рискованным. Самолет резко снизил скорость, будто кто-то схватил его за хвост. Я ждал. Точнее – мы ждали, потому что мы оба одинаково тревожились за последствия этой отчаянной попытки.
Режим полета стал действительно опасным. Должен сказать, что маневр был выполнен мною и быстро, и с полным самообладанием, без нервозности, ибо я не сомневался в успехе. Увеличение мощности двигателей неизбежно должно было привести к резкому повышению температуры цилиндров. Этому способствует также аэродинамическое торможение, вызванное выпуском шасси и закрылков. В двигатель станет поступать более теплый воздух, который растопит образовавшийся лед. Вполне логичные эти рассуждения оправдывали предпринятый мною маневр.
Мы не сводили глаз со злополучного прибора. Положение левой стрелки изменилось еще на дюйм… Затем на два… три!.. четыре!.. пять!.. десять!.. пятнадцать!.. двадцать!..
Менее чем за минуту она дошла до нуля и остановилась. Конец! Левый мотор перестал дышать. Перекрыв дыхательные пути, смерть только что нанесла удар.
Я застыл в неподвижности, будто мне тоже не хватало воздуха. Мои попытки спасти двигатель кончились неудачей. Я догадывался, что переплетение каких-то особых физических условий привело к образованию огромной ледяной пробки, которая забила систему поступления воздуха, необходимого для жизни машины.
Я всем телом ощущал последние рывки еще трепыхавшегося двигателя. Винт медленно рывками проворачивался под влиянием встречного потока и оживлял на секунду все механизмы только что заглохшего мотора.
Оба указателя скорости реагировали тотчас. Стрелки одновременно рванулись назад. Правый двигатель работал нормально: этот работяга продолжал вращать винт, который тянул самолет в свою сторону, тогда как холостое вращение левого винта затрудняло управление машиной.
Мне пришлось давить на правую педаль до предела, тем более что я только что увеличил мощность правого двигателя, чтобы остановить катастрофическое падение скорости, близкой уже к страшному «конец»…
Сильная тяга только с одной стороны в сочетании с резким торможением со стороны левого крыла создавали угрозу срыва самолета в штопор. Изо всех сил я старался преодолеть смертельную опасность, которая казалась неминуемой. Чудовищная сила выбивала педали из-под ног, пытаясь лишить меня возможности управлять машиной. Работать было чрезвычайно трудно в условиях полной неопределенности, в отсутствие видимости.
Борьба была безмолвная, велась вслепую – я отчаянно, из последних сил, жал на правую педаль ножного управления рулем и следил за показаниями приборов. В маленьком окошечке гирокомпаса цифры непрерывно уплывали – машина больше не подчинялась мне и скользила влево, описывая широкий круг. Что касается авиагоризонтов, то вертикаль и горизонталь уже давно оставили свое обычное положение и гуляли по всей шкале. Самолет резко кренился то в одну, то в другую сторону, а носовая часть по отношению к естественному горизонту сильно «клевала». Я был не в силах исправить положение.
Именно в этот момент мне было суждено пережить самые трагические и постыдные минуты, какие могут быть у пилота. Ведь у всякого летчика, как бы ни был он опытен, есть профессиональная гордость. Что за позор: моя правая нога, которой я пытался сдерживать рули направления, дрожала. Это слабо сказано: она не просто дрожала, а ритмично и высоко подскакивала, и прекратить дрожь я был не в состоянии. Я похолодел. В какую-то долю секунды я осознал всю безысходность положения. Я чувствовал, что погиб. Сопротивление педали, конечно, велико, но я-то понимал, что судороги не от напряжения, а от страха. Меня охватил настоящий ужас!
Нет ни сомнений, ни надежды – мы на краю гибели! Казалось, я вот-вот потеряю контроль над машиной. Я чувствовал приближение этого мгновения, страшного каждому, и его, конечно, уже не долго ждать, ибо совладать с собой я не мог! Я боялся еще и того, что второй пилот заметит мой страх… Я был уверен, что Алькоб не мог не заметить непроизвольных подергиваний моего колена – свидетельства страха перед неотвратимой бедой.
Шум в кабине стал другим. Согласный рокот двух двигателей сменился напряженным гудением одного, работающего на пределе. Да и снаружи снег и лед ударяли теперь о стекло и обшивку с гораздо меньшей силой.
Мы летели медленно. Самолет, казалось, висел на одном моторе, который словно чудом продолжал работать и держал нас в воздухе. Что касается левого винта, то он вращался как ветряная мельница. Я слышал, я чувствовал, как свистит воздух между его лопастями. Сила этого звука говорила об огромной бесполезной работе, производимой винтом. Я никогда не смогу описать пытку, которой подвергались мои ноги. Я боролся как одержимый. Мои ступни изо всех сил, с яростью отчаяния, жали на педаль. На педали я воспринимал вибрацию самолета. Удержать самолет в горизонтальном полете, просто вести его по прямой стало невероятно трудно, мучительно. Казалось, он вот-вот потеряет устойчивость и начнет падать.
Еще несколько секунд я надеялся на чудо.
Поскольку больше ничего не оставалось, я взялся за рычаг управления левого винта и потянул его назад в положение «флюгер». Лопасти повернулись вокруг оси, застыли в положении по ходу движения самолета, и я с облегчением почувствовал, что нагрузка на правую педаль постепенно падает.
Винт продолжал вращаться, но все медленнее, он останавливался. Свист воздушных струй, вращающих лопасти, затихал. Стиснув зубы, я наблюдал за последними оборотами и окончательной остановкой винта в положении «флюгер». Винт еще несколько раз дрогнул, длинная белая мотогондола несколько раз качнулась от этих толчков. Затем стало тихо, винт остановился.
Буря свирепствовала по-прежнему. Снег и лед обрушивались на стекла. Мы ничего не видели, ничего, кроме бесконечного бело-серого непроницаемого потока, и думали, что уж не вырвемся из него.
Как и шесть лет назад, во время такой же снежной бури в Кордильерах, я вспомнил о матери. В 15 лет я покинул отчий дом, чтобы бороться с оккупантами и стать летчиком. Я осуществил свою мечту – стал летчиком-истребителем, а позднее пилотом гражданской авиации. Я облетел все континенты, весь земной шар, и только близость смерти заставляла меня вспоминать, что у меня есть мать, что несколько десятков лет она ждет меня и плачет оттого, что я не вернулся домой…
Сквозь тучи снежных хлопьев, застилающих лобовое стекло, на этом огромном белесом экране, я увидел мою бедную старую мать. Далеко во французской деревне, которая когда-то была моей деревней, где меня уже никогда не увидят, нагнувшись, она срывала хризантемы, посаженные в саду за домом еще моим отцом. И я был счастлив. Казалось, она заметила меня и произносила теперь с печалью и смирением: «Вот видишь!.. А ведь я тебе говорила!.. Это должно было случиться рано или поздно!.. Но ты, сынок, никогда не хотел ничего слушать!»
Одной рукой она подняла уголок фартука, чтобы вытереть глаза. Но она не плакала. Нет! Ее покрасневшие глаза смотрели без всякого выражения, но она не плакала.
Именно теперь я понял наконец, что я, ее сын, умирал для нее уже столько раз, что у нее больше не осталось для меня ни единой слезинки. Затем видение исчезло. Новый снежный шквал, еще неистовее прежних, смыл его с лобового стекла. Я остался наедине с моей борьбой и еще с профессией, избранной мной когда-то, я посвятил свою жизнь этой работе, с самого детства ставшей моей мечтой. Конечно, я реализовал свою мечту, преодолев бесконечно много трудностей, но потерял свою семью.
В поисках невозможного

Большинство людей считает, что раз у самолета два мотора, то он может спокойно лететь на одном, если второй выйдет из строя… Любой пилот, летающий на самолете с поршневыми дви-гателями, знает, что это далеко не так и что лишь немногие машины действительно могут продолжать полет на одном моторе. Да еще в критических условиях: при большой нагрузке на работающий двигатель скорость падает и самолету угрожает срыв в штопор. Обычно на одном двигателе удается дотянуть до аэродрома, если он относительно близко.
Только пилотам известно, как трудно удержать эту малую скорость, зависящую от множества факторов. Если скорость упадет ниже определенной величины, начинается агония, самолет описывает нисходящую спираль и падает, как засохший лист. Если же скорость возрастает помимо воли пилота, теряется высота… В обоих случаях самолет быстро заканчивает свой полет на земле.
Нужно обладать большим искусством, чтобы даже в хорошую погоду пилотировать самолет, у которого выбыл из строя один двигатель. Летчики стараются скрывать трудности такого полета и от пассажиров и от начальства. Некоторые готовятся к встрече с подобными неожиданностями, но большинство предпочитает думать об этом как можно меньше. Такую позицию не назовешь реалистичной, но она, по крайней мере, избавляет от головной боли.
Мы с Алькобом всегда старались быть во всеоружии; мы не приучались летать на одном моторе, а старались поддерживать в таком состоянии машину, чтобы избежать поломки двигателя. Как я уже говорил, мы сами готовили ее к полету и устраняли всякие неисправности. За десять лет самолет практически ни разу не был в профилактическом ремонте, не считая, конечно, капитального. Мы совершенствовали и технику управления самолетом, чтобы исключить всякую возможность нарушения работы двигателей.
Лично я считаю, что такое отношение к машине было вознаграждено – за тридцать лет полетов мне ни разу не пришлось встречаться с техническими неполадками в пути.
Но возвратимся к драматическим событиям 22 июля 1971 года. Буквально говоря, виною всему была не неисправность двигателя, а скорее несовершенство одной из его систем.
Я сосредоточил все свое взимание на правом двигателе. Любой ценой надо было сохранить его, ибо от него зависела наша жизнь. Двигатель работал на 90 процентов мощности. Мне пришлось довести почти до упора рычаг газа: машина могла удерживаться в воздухе только в условиях предельной нагрузки двигателя. Увеличение нагрузки угнетало меня; я чувствовал, как мучается машина, слышал, что винт работает на максимальных оборотах, с таким же ревом, как при наборе высоты. Однако этой мощности едва хватало, чтобы удерживать машину в горизонтальном полете. Даже несведущий человек понял бы по надрывному реву мотора, что долго так продолжаться не может.
Угрожающе возросла температура в цилиндрах и температура масла. Ужас охватывал меня всякий раз, когда я обращался к показаниям давления масла – этой драгоценной для нас жидкости. Стрелка указателя расхода топлива подскочила до 250 фунтов в час,[9]9
Около 113 килограммов в час (1 фунт – 454 грамма). – Прим. пер.
[Закрыть] это в два с половиной раза превышало нормальный расход в наиболее экономичном крейсерском режиме.
Из всех исправно работающих приборов только один – индикатор скорости – показывал малые значения. Это не обнадеживало. Напротив! Грустная истина заключалась в том, что скорость упала почти в два раза относительно нормальной, что вовсе не упрощало положение.
Сейчас наша жизнь висела на волоске, а спасение зависело от двух факторов. Во-первых, от техники и точности пилотирования. Во-вторых, от того, сумеем ли мы обеспечить работу оставшегося двигателя, наблюдая за показаниями приборов и предупреждая перебои. Малейшая ошибка могла стать роковой.
Надежды на спасение у меня уже не было. А у Алькоба?.. Время от времени я украдкой поглядывал на него. Он сидел на месте, не обнаруживая ни малейшего беспокойства. И я задавал себе вопрос: «Сознает ли Алькоб, что мы пропали, бесповоротно пропали?» Я был в нерешительности и не знал, как поступить. Сказать ли правду или оставить его в плену иллюзий, если у него еще есть иллюзии?
Алькоб летал всего несколько лет, а со мной – последние два года. Вместе с ним мы встречали немало бурь почти над всей Южной Америкой, но ни разу не попадали в действительно опасное положение. Наши полеты обычно проходили без особых приключений.
Со мной дело обстоит иначе. Я лет на пятнадцать старше моего второго пилота, и опыт у меня, конечно, значительно богаче. Думаю, вправе сказать, что знаю свою специальность. В подобном положении я оказался впервые, но мне нетрудно предвидеть, что нас ожидает. Тридцать лет за штурвалом самолета! В каких только переделках я не побывал, на всех широтах, в условиях, которые трудно вообразить. Опыт подсказывал мне, что из этого полета нам не вернуться.
Стало трудно дышать. Каждой клеткой своего тела я испытывал страшное давление, будто воздух стал вдруг в сто раз тяжелее, будто какое-то гигантское кольцо обхватило нас и безжалостно сужается, грозя расплющить. Это кольцо существовало на самом деле, радиус его измерялся расстоянием, которое мы могли еще пролететь, и это расстояние все сокращалось по мере того, как скорость падала, а расход топлива возрастал.
Мысли и намерения все время менялись, меня бросало то в жар, то в холод. На меня напал страх, я дрожал скрыто и явно, я чувствовал, как этот страх перерастает во всепоглощающий ужас, уничтожая во мне все мои способности. Я думал о смерти, боялся ее, чувствовал, что она близко, совсем близко, что она притаилась за минутной, а может быть за секундной стрелкой. Потеряв радиосвязь с наземными станциями, лишившись возможности пользоваться навигационными приборами посреди безжалостной снежной бури, я как избавление получил теперь последний удар – потеря левого мотора означала конец пыткам.
Что мы могли сделать?.. На что могли надеяться? Тащиться на одном моторе, работающем на пределе и способном вот-вот развалиться… Да и куда лететь? Как? С такой до смешного малой скоростью?.. Все аэродромы закрыты по причине полного отсутствия видимости. Везде метеорологические условия практически ниже минимума, кроме далекого теперь аэропорта, который был для нас в начале местом назначения. С выходом из строя левого двигателя этот аэропорт стал далек, как звезды. Зона хорошей погоды недостижима для нас: правый мотор расходует огромное количество горючего, а питать его топливом из основного левого бака невозможно. Так что о Трелью нечего и думать!
Хоть бы увидеть клочок земли или неба! Это дало бы передышку, облегчение и, может, быть, надежду! Но нет. Ничего! Ни малейшего просвета в облаках, никакой видимости. Никаких намеков на линию горизонта. Стекла кабины, вибрирующие под шквалами снега и льда, годились только на то, чтобы отгородить нас. Мы теряли всякую надежду выйти из этого ада.
Все это время в моем воспаленном, измученном страшным напряжением мозгу носились сотни идей; одна за другой они были отброшены.
И вдруг, в один миг, я принял решение – спускаться немедленно, как можно быстрее, без разрешения центрального контрольно-диспетчерского пункта. О связи с «Комодоро контроль» не могло быть и речи!
Почему спускаться?.. Да потому, что мы летели на значительной высоте, потому, что на нашем маршруте гор не было, а лишь небольшие холмы. Поэтому я имел право надеяться, что на меньшей высоте найду более благоприятные условия. Может, мы встретим безоблачное пространство между двумя слоями облаков, а может, даже увидим землю, если облачность не слишком низкая!.. Оставалась еще надежда войти в менее холодную зону – быть может, там мы заведем левый мотор.
Я убеждал себя в этом, чтобы обрести силы, необходимые для того, чтобы осуществить маневр. Временами страстно хотелось верить, что не все потеряно, не все карты биты. С такими слабыми надеждами я начал снижение, не забыв взглянуть на термометр наружного воздуха. Впрочем, его показания почти не изменились с момента вылета – было -20 °C. Снижение скорее походило на ныряние. Шасси и закрылки были выпущены, так что самолет только и ждал, как бы податься вниз. С другой стороны, дополнительное аэродинамическое сопротивление шасси и закрылков, уменьшая собственную скорость самолета, позволяло ему терять высоту, поддерживая режим правого двигателя. Сохранение режима было совершенно необходимо, чтобы любой ценой избежать охлаждения цилиндров, иначе немедленно начнет образовываться лед.
Так мы «ныряли» со скоростью 2000 футов в минуту[10]10
10 метров в секунду. – Прим. пер.
[Закрыть] в поисках невероятного, в погоне за несбыточной мечтой. Одиннадцать тысяч футов, десять тысяч… девять… восемь тысяч футов… Как и я, Алькоб пристально вглядывался в снежную стену, надеясь найти зону хоть со сколько-нибудь приемлемыми условиями для полета. Но никакого улучшения метеорологических условий, ничего, кроме, пожалуй, незначительного повышения температуры за бортом. После снижения на четыре тысячи футов за ветровым стеклом все та же гнетущая картина. Передняя часть кабины, в которой установлены приемник воздушного давления и один из кронштейнов антенны радиоприемника (боковй полосы (SSB), погружена в непроглядную снежно-льдистую мглу.
Температура снаружи вдруг стала повышаться. Я был удивлен, увидев на термометре цифру -8 °C. Это было, конечно, многообещающе, но… существовало одно «но». В самом деле, увеличение наружной температуры означало, что мы уходим из зоны, где возможно образование льда на входе в воздухозаборник, и вступаем в зону, условия в которой располагают к образованию льда на крыльях. Этого только не хватало! В нашем положении незначительное обледенение крыльев равносильно гибели.
К величайшему счастью, этого не случилось, и на 6000 футов я решил прекратить снижение. Легко сказать – прекратить снижение, но я не был уверен, что смогу остановить потерю высоты. Снижаться было легко: приобретенная при снижении скорость облегчала управление машиной. Необходимость же прекратить снижение пугала меня, я знал, скорость тут же уменьшится, ручки управления ослабнут. Достигнув высоты 6000, остаться на этой высоте будет нелегко.
Нажимая то на одну, то на другую педаль и рычаги управления закрылками, я с грехом пополам сумел выровнять машину, руководствуясь приборами, которые не вышли еще из строя. Особенно трудно было с авиагоризонтом, который временами походил на раскачивающиеся качели. Я обливался потом и задыхался. Чтобы одновременно видеть все приборы и осознавать их показания, требовались нечеловеческие усилия. К тому же я не был уверен, можно ли верить им, но ведь без приборов в такую бурю не обойтись – надо удерживать машину в нужном положении.
Следует заметить, что остановка левого мотора повлекла за собой отклонение всех связанных с ним установок, в частности генератора в 100 ампер и вакуумного насоса, обеспечивающих работу гироскопических приборов. Вследствие этого поступление электроэнергии и интенсивность отсоса у приборов сократились вдвое. Создалась критическая ситуация, ибо работающий генератор нес двойную нагрузку.
И все-таки приборы продолжали работать нормально. Надо сказать, что если и было какое-нибудь отклонение в работе авиагоризонта, то ни Алькоб, ни я не замечали этого, ибо не имели никаких ориентиров.
Итак, высота 6000 футов, полет горизонтальный. Я убрал шасси и закрылки и постарался установить триммеры рулей высоты и элеронов так, чтобы полет на новой высоте с учетом другой скорости стабилизировался.
Взглянув на термометр, я убедился, что снаружи было по-прежнему – 8 °C. Значительное повышение температуры вселило вдруг в меня безумную надежду завести левый двигатель. У нас был повод воспрянуть духом. Теперь мы находились в привычных метеорологических условиях, нам часто доводилось летать при такой температуре.
Алькоб внимательно следил за каждым моим жестом. Мне кажется, что с тех пор, как мы закрепились на высоте 6000 футов, на его лице появилось выражение некоторого облегчения. Не было сказано ни слова, но я чувствовал, что второй пилот угадал мои намерения, и ожидал результата маневра с тем же нетерпением и верой, что и я.
Я решительно толкнул вперед рычаг шага левого винта и сдвинул его по сектору поворота до уровня правого мотора. При этом масло, содержащееся в воздушно-гидравлической системе, начало под давлением поступать на поршень, регулирующий угол атаки лопастей. Я не сводил глаз с основания лопасти винта, ближайшей к остеклению кабины. Лопасть дрогнула, и начала медленно проворачиваться, занимая свое обычное рабочее положение. С увеличением угла поворота стал слышен легкий свист воздушного потока, внезапно встретившего на пути препятствие.
Когда три лопасти повернулись градусов на сорок, винт сделал полный оборот, остановился, снова медленно повернулся – мы затаили дыхание – и вдруг заработал.
Мои мышцы сильно напряглись от резкого торможения, вызванного принудительным вращением винта, заработавшего только под действием свистящего меж лопастями потока. Снова пришлось изо всех сил жать на правую педаль ножного управления. Еще немного, и машина потеряет равновесие. Оба авиагоризонта, о которых я совсем забыл, указывали, что самолет дал крен 90 градусов. А я даже не заметил! И снова я как одержимый бился, чтобы восстановить горизонтальность полета и вернуть на нужное место линии искусственных горизонтов на авиагоризонтах.
Только успел я стабилизировать положение самолета, как мощный удар свел на нет мои усилия. Линии авиагоризонтов и цифры гирокомпасов буквально запрыгали перед глазами. Все это сопровождалось страшным ревом. Да, без сомнения, страшный рев рвался из левого мотора!..
Двигатель возвращался к жизни с неудержимой силой, повернувшей самолет градусов на тридцать вправо. Я не мог ничего поделать главным образом из-за того, что перевел триммеры вправо. Я поспешно поставил их в нейтральное положение – в центр.
По мере того, как шум заработавшего мотора нарастал, у меня появилось чувство, словно я сам возвращаюсь к жизни и начинаю дышать. Волна неописуемой радости захлестнула меня. Поначалу я молчал, не осмеливаясь произнести хоть слово или как-то выдать свои чувства, – столь невероятным было то, что мотор заработал.
Рядом со мной Алькоб сдвинул левую ногу и вытянул руки. Он тоже не произносил ни слова, но я чувствовал: он, как и я, понял, что фортуна вдруг в мгновение ока повернулась к нам лицом. Мы ступили на дорогу, ведущую в мир живых!
Я первый прервал молчание:
– Сегодня не наш черед, Алькоб!
Выражение классическое и бессмысленное. Я немедленно занялся управлением, уменьшил наддув, исправил положение рычагов винтов и так далее. Огромное внутреннее напряжение, леденящий ужас – все это исчезло, погружаясь в забвение… Двигатель воскрес! Я был счастлив, бесконечно счастлив, и неописуемая радость рвалась из меня.
Это состояние длилось пять-шесть секунд… Может, десять! Не больше!.. Да!.. Это так… Наше счастье длилось столько же, сколько длятся сны! Прекрасные сны!..
Я снова почувствовал давление правой педали и резкое торможение слева. Оно, казалось, готово было нас опрокинуть. Давление наддува левого мотора, достигшее почти 25 дюймов в момент возрождения надежды, за секунду упало до нуля. В ужасе следил я за движением бессильно опавшей, как лопнувшая шина, стрелки.
Рокот мотора затих. Винт продолжал вращаться по инерции и тормозил со страшной силой. Алькоб и я сидели, не шевелясь, не произнося ни слова. Мы ждали!.. Целую вечность ждали повторения чуда!.. Ждали, что мотор опять воскреснет!.. Этого не случилось!..
Скрепя сердце я снова решил вернуть лопасти винта во флюгерное положение, иначе машина стала бы неуправляемой.
Снова пришлось возиться с триммерами, чтобы удерживать машину в положении, близком к горизонтальному. Правда, мы уже давно забыли, что такое «горизонтальное» положение, и могли судить о нем лишь по приборам, которым едва ли можно было доверять. Несколько раз, когда другие рули управления и приборы на время отвлекали меня от авиагоризонта, я обнаруживал, что он показывает совершенно немыслимое положение. И тогда долгие минуты с большими усилиями мне приходилось подправлять, корректировать все заново. Мои старания наводили на мысль о затерянной в бушующем океане неуправляемой шлюпке, которая вот-вот перевернется.
Все изменения в положении самолета, управление режимом работы двигателей, повороты триммеров не позволяли мне сосредоточиться на показаниях авиагоризонтов. Именно поэтому всякий раз, когда я обращал внимание на один из авиагоризонтов, тот как бы призывал меня к порядку, предупреждая, что самолет с минуты на минуту может перевернуться, и каждое такое предупреждение казалось последним.
Хотя рокот ожившего мотора и последовавшее затем его молчание потрясли меня, сам факт возвращения мотора к жизни даже на короткое время вселял надежду. Может быть, снизившись еще, мы найдем более благоприятные условия.
Поэтому и принял решение снижаться, на сей раз с меньшей скоростью, до 500 футов в минуту, с убранными шасси и закрылками, внимательнее, чем когда-либо наблюдая за приборами, контролирующими работу доблестного мотора, который продолжал удерживать нас в воздухе среди страшной бури.