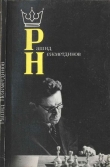Текст книги "Оставайтесь молодыми"
Автор книги: Павел Кадочников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
«А я? – терзает досада. – Даже слова ему в ответ не сказал. Если не за себя, то хотя бы в защиту мамы. Выходит, она смело с ним воевала, а я трусливо стоял и смотрел? Позор!.. И перед мамой, и перед мальчишками и девчонками – да перед всеми! – стыдно… Но что я мог сделать, что? Не мог же я драться с ним, как с темн хулиганами?»
И снова заспорили во мне два человека:
«Не оправдывайся, – упрекает второй. – Струсил – значит, честно скажи хотя бы самому себе: «Струсил».
«Да не струсил я!»
«Тогда почему молчал?»
«Он старше меня».
«Ну и что?»
«Мама, папа, бабушка Тарутина, дедушка Петроградский, все учителя внушали мне с пеленок, что я должен уважать старость».
«Но ты же видишь, что старость бывает разная: есть мудрая и благородная, а есть, выходит, старость, переполненная злобой и хамством!»
«Значит, по-твоему, я должен был, как с теми хулиганами на Пушкарской и в парке Ленина, пустить в ход кулаки?»
«Он же тебя не кулаками бил, а словами».
«А какими словами я мог ему ответить?»
«Не прикидывайся ребенком. Только этот режиссер хотел тебя видеть бессловесным и беззащитным животным. Поэтому он и крикнул на тебя: «Брысь!» Ты промолчал – значит, согласился. Но разве ты и вправду такой бессловесный?»
«Не читать же мне ему басню «Ворона и Лисица»! Тем более, он об этом меня и не просил».
«А кроме этой басни, ты больше ничего не знаешь?»
«Знаю другие басни Крылова».
«Что еще?»
«Утро» Никитина».
«Вот именно! Зря, что ли, отец столько раз рассказывал вам с Колей на берегу бикбардинского пруда на зорьке? «И, надеюсь, ты еще не забыл любимые стихи Антонины Васильевны Харловой?»
«Да все их я знаю наизусть: «Памятник» Пушкина, «Не то, что мните вы, природа…» Тютчева, «Смерть поэта» Лермонтова…»
«Вот и прочел бы ему… хотя бы эти четыре строчки Тютчева:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…»
«Ты бы мог еще спеть ему любимую песню матери «Родина», песню Феодосия Васильевича Виноградского «Мы – ШиКеМята дружные», сплясать, прочесть своего «Аполлона».
«А если бы он и слушать ничего по захотел?»
«Тогда прочел бы ему две строки из «Смерти поэта», не мигая, глядя в глаза:
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!»
«После драки кулаками не машут. Водь напрасно говорить, когда уже все потеряно».
«Что значит – все?»
«Все равно мне в таком позоре по жить».
«Согласен. Выхода у тебя другого нет… Ну, а о матери с отцом, брате и сестре ты подумал? Они будут жить в этом городе, в этом, Петроградском, районе, ходить по этим улицам, встречать твоих друзей и знакомых… Не стыдно ли им будет ходишь по этой земле? Умереть надо уметь тоже достойно. Ни в театре, ни в кино тебе уже не работать. Но позор твой ты можешь смыть И – только сегодня, сейчас, пока этот режиссер еще во дворе кинофабрики. Не медли ни минуты… ни секунды!.. Сейчас же беги к нему и… докажи, что ты – человек!»
«Как-то неудобно…»
«А ему было удобно тебя оскорблять?»
«Идти к нему… без разрешения?»
«А ты разрешал ему обзывать себя дудоргой?.. Сейчас же иди, беги немедленно!»
Бежать далеко не надо: ноги сами давно уже водят меня по улицам и переулкам вокруг кинофабрики. Вбегаю во двор – ни души!..
Появляется с метлой дворничиха. Спрашиваю:
– А где он?
– Кто?
– Ну, все они… которые сниматься пришли.
– Э-э-э, милый мой! Поздно хватился. От них уже, сам видишь, одни фантики остались. И так всегда: налетят, нагалдятся, как грачи, фантиков от конфет набросают – и разлетятся.
– Значит, опоздал, – вздыхаю так тяжело, что старушка перестает подметать.
– Достойных отобрали, а всех остальных поблагодарили и отпустили с богом, – уточняет она. – Вот они все и разлетелись, как галчата.
– Значит, достойных отобрали, всех поблагодарили и отпустили с богом? – еще больнее вскипает обида. – Выходит, я один недостойный – и меня можно к черту послать?!
– Знать, не судьба, – разводит руками старушка.
– Да, не судьба, – соглашаюсь с нею.
– Завтра приходи, соколик. Говорят, на другое кино будут школьников набирать.
– Да не будет у меня «завтра», бабуля!..
– Как это так – не будет?
– А вот так… Передайте ему и другим таким же режиссерам, что ноги моей здесь больше не будет!.. Спасибо, бабуля, и доброго вам здоровья!
Отворачиваюсь, выбегаю со двора и слышу уже вслед:
– Да ты не сокрушайся так, сынок. Пойми одно, соколик: ведь выбирают самых лучших… лучших из лучших…
– Значит, я худший из худших?.. худший из худших? – выбегая на Каменноостровский проспект, повторяю эти два слова, и они отдаются, звучат во мне, как эхо, только уже без вопроса:
«…худший из худших… худший из худших… худший из худших…»
Дедушка Петроградский говорил, что по этому Каменноостровскому проспекту спешил на дуэль с Дантесом Пушкин. Бегу по нему и я туда же, к Черной речке.
«О-о-о, – вздыхаю, словно огненным, горячим воздухом, – как хорошо я понимаю теперь Пушкина!
Погиб поэт! – невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой.
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Вот здесь, справа, совсем близко, учился Михаил Юрьевич Лермонтов. Конечно же, он хорошо понимал, что
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит!»
На месте дуэли Александра Сергеевича стою, урони и на грудь голову, а боль сама вылетает со вздохом:
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
«Пушкин хоть выстрелить в Дантеса успел, – думаю, – а мне и не в кого, и нечем стрелять…»
Смотрю на березу, на ее высокий сук, прикидываю: «Не обломится сук? Выдержит меня?» Лихорадочными движениями пальцев вытаскиваю из брюк новенький черный ремень. «Этот, – думаю, не подведет…»
Вдруг слышу рядом шаги. Оборачиваюсь – девушка с парнем в обнимку прогуливаются. «Эти, конечно же, мне помешают. А не эти, так другие. Видно еще, – размышляю, – надо темноты дождаться».
Смотрю на солнце – еще высоко. И тут я снова вспоминаю дедушку Егора. Там, на Урале, когда он поил меня впервые березовым соком, помню, говорил:
– Жизнь каждого из нас, внучек, коротка. Все мы на этой земле гости. А гости должны быть благодарными людьми. Дай бог тебе здоровья и долгой радостной жизни!.. Но если ты почувствуешь когда-то, Павлуша, что дни, часы твоей жизни сочтены, наберись мужества, мудрости и останься до последнего вздоха человеком благодарным. Поклонись, внучек, Яриле-Солнцу за его тепло и жизнь, родному дому, попроси прощения у тех, кого случайно, напрасно обидел. И тогда земля распахнет тебе свои объятия, как родимая мать, и станет для тебя пухом».
«Извиняться мне, деда Егор, не перед кем. Жил я, как ты советовал, никого не обижал, – исповедуюсь мысленно перед дедушкой Петроградским. – А все остальное сделаю так, как ты мне советовал у той березы… Спасибо тебе, солнышко, за тепло и за жизнь. Только она мне больше не нужна. Видно, потому ты так медленно опускаешься к закату, чтобы я успел еще и поклониться дому, где родился…»
Идя по берегу, думаю: «До чего же темная вода в Черной речке! Не зря ее народ так назвал».
Бегу в обратную сторону по тому же Каменноостровскому проспекту. Как только справа увидел двор кинофабрики, сразу вновь оживает в моем воображении свирепое лицо того режиссера, его проклятия мне вслед на ломаном русском языке, с явным иностранным акцентом.
Кончается Каменноостровский проспект, и я бегу через мост, по набережной Невы, мимо Зимнего дворца, сворачиваю на Невский, останавливаюсь на Дворцовой площади рядом с высокой Александрийской колонной – и снова вспоминаю Пушкина:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастет народная тропа.
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа…
Пробегаю по Невскому проспекту мимо Казанского собора, Гостиного двора, задерживаюсь на мгновение напротив Театра имени А. С. Пушкина. За памятником царице Екатерине хорошо вижу над входом в театр четырех вздыбленных коней и несущегося с венком в руке в колеснице Аполлона. Надо бы мне свернуть направо, прямо к театру, навстречу несущейся колеснице и, как раньше, прочесть богу – покровителю муз! – свое стихотворение «Аполлон». Ведь совсем рядом с театром дом, где я родился!.. Но мне кажется, десятки людских глаз перед театром смотрят на меня. Да и останавливает сомнение: «А достойному ли служителю муз так спешит Аполлон вручить свой божественный венок?»
Немного постояв, решаю: «Нет. Лучше мне подойти к своему дому со стороны реки Фонтанки». Подбегаю по Невскому проспекту к Фонтанке и, пораженный, останавливаюсь перед вздыбленными конями на Аничковом мосту. Сколько раз я уже смотрел на них! Но они никогда не производили на меня такого впечатления. Теперь же мне вдруг подумалось: «А ее те ли это самые скакуны – умницы кони бога Аполлона? Не разбежались ли они в разные стороны оттого, что бог, по случайной ошибке, мчался с венком к недостойному служителю муз – к тому постановщику-режиссеру на кинофабрики на Каменноостровском проспекте? Если это так, то напрасно его, Аполлона, верные слуги пытаются поймать и удержать вздыбленных коней. Им никогда не удастся больше впрячь свободных, разумных коней для божественного подношения венка случайному невежде и хаму в храме Искусства!»
От Аничкова, моста по набережной Фонтанки подхожу к площади Ломоносова и невольно останавливаюсь перед его памятником. Там, на Урале, сколько рассказывали нам о нем и Антонина Васильевна Харлова, и Феодосий Васильевич Виноградский! А верилось с трудом, что обыкновенный парнишка из далеких северных Холмогор пешком дошел до самой Москвы, чтобы учиться, и своего добился. А теперь сам вижу, глядя на этот памятник. Внизу сидит на пне, склонившись над книгой, простоволосый мальчишка с засученными штанинами, босыми ногами. Точь-в-точь такой, какими и мы, деревенские мальчишки, бродили по берегу Бикбардинки А вверху – великий ученый Земли. Кажется, он не просто смотрит. Он обращается к нам, мальчишкам, и я слышу его слова:
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих.
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
«Извините, Михаил Васильевич, – мысленно оправдываюсь перед ним, – видно, не всем быть учеными, поэтами… Я тоже хотел принести своему Отечеству как можно больше пользы! Но я ли виноват, что меня так оскорбили? И Пушкин, и Лермонтов не могли вынести оскорблении. Не жить и мне оскорбленному. Ведь вы бы тоже не могли пережить такой позор!.. Что ж, видно, не каждому, особенно деревенскому, парнишке суждено пробиться в Науку и Искусство. Бабуля с метлой мне сегодня так и сказала: «Знать, не судьба…» А родился я, Михаил Васильевич, вот здесь, рядышком с вами… Вот она, улица Зодчего Росси».
И иду к дому, в сторону Театра имени А. С. Пушкина. Подумалось, что я все-таки не убедил и даже, не желая этого, очень огорчил Ломоносова. Кажется, он с укором смотрит мне вслед и еще надеется, что я остановлюсь на пути к Черной речке, одумаюсь и еще смогу принести пользу своему народу.
Не скажу, что тот глубинный совет здравого смысла, который я прочел во взгляде Ломоносова, спас меня от рокового решения. Нет. Скорее он поколебал меня, посеял зерно сомнения. И, как знать, посмотри я только налево, остановись после этого лишь перед родительским домом – быть может, я окончательно избавился бы от мысли возвратиться к Черной речке.
Но я бросаю взгляд прямо на театр, обхожу его с правой стороны, смотрю выше колонн, и… мелькает мысль: «А тех четырех коней на Аничковом мосту все-таки поймали и впрягли в колесницу. Все так же стремительно летит в ней бог Аполлон с большим венком в руке и все в ту же сторону. Господи, неужели ты и вправду можешь еще раз ошибиться и вручить этот красивейший венок тому режиссеру-хаму с обрызганной грязью тростью и душой?!»
От этой мысли мне снова становится не по себе. Отворачиваюсь, торопливо подхожу к дому, где родился, низко кланяюсь ему, как учил дедушка Егор, и твержу лишь одно: «К Черной речке! Быстрее к Черной речке! Только к Черной речке!..»
Смотрю, солнце уже почти у горизонта и стремительно клонится к закату. Спешу успеть добежать до тон речки, что все успокоит во мне: и позор, и обиды, и сомнения.
Бегу по Невскому проспекту на Петроградскую сторону, а мысли лихорадочно стучат: «Под колесницей Аполлона, под копытами коней я насчитал шесть высоких колонн, пять дверей. Здесь же – лира с двумя лебедиными шеями и клювами, гусли, нимфы, музы, ангелы с легкими крыльями, актеры… Боже ты мои, если бы ты знал, как же и мне хочется войти в этот храм, петь, играть, хотя бы одним пальчиком коснуться этих волшебных струн настоящего, высокого, божественного Искусства!.. Но над каждой дверью – голова свирепого льва с недремлющим зорким взглядом и пастью с большими острыми клыками, готовыми впиться в тебя в любую минуту. Не-е-ет, видно, пока стерегут эти входы львы, а цветы и венки преподносят хамовитым и невежественным служителям муз, мне никогда не войти артистом в двери храмов Театра и Кино…»
На Дворцовом мосту, ближе к Пушкинской площади, там, где Нева рассекается Стрелкой Васильевского острова, невольно останавливаюсь, пораженный необычным цветом реки.
«Никогда еще я не видел Неву такой черной, – думаю, держась за перила. – Не от туч ли это она такая? Или от надвигающейся ночи?.. А какая громадная воронка под мостом, где Нева, набегая, сталкивается с каменным быком! Как все бесследно засасывает эта жуткая воронка: листья, стебли, цветы! Вот плывет щепка, как корабль с высоко поднятым носом. Неужели и такую большую щепку водоворот затянет в себя? Щепка начинает кружиться: один круг, второй, третий… Вот она уже, как волчок, засасывается воронкой и исчезает, как в пропасти. Даже не выплывет под мостом?..»
Перевешиваюсь через перила, чтобы увидеть, всплывет или не всплывет щепка. То ли оттого, что я смотрел с высоты, как кружится щепка, то ли оттого, что без завтрака, обеда и ужина обессилел, но у меня вдруг так темнеет в глазах, что на какой-то миг теряю равновесие. Чувствую, как мои ноги отрываются от моста, и я начинаю переваливаться через чугунную ограду…
Кто-то сильными руками ловит меня сзади почти за пятки, вытаскивает на мост и громко ругает:
– Ты что, рехнулся? Жить надоело?! В какую сторону идешь?
– На Петроградскую.
– Значит, по пути.
Идем по вечерней Пушкинской площади, мимо бывшей Биржи труда вместе, а я нет-нет да и гляну на моего попутчика. В новой спецовке, слегка испачканной соляркой или мазутом, высокий, широкоплечий, красивый, со светлыми вьющимися волосами парень.
«Вот уж на кого, – думаю, – тот режиссер не кшикнул бы и не обозвал дудоргой. Ему только в кино сниматься!»
Парень оказался к тому же добрым и общительным.
Разговорились, и я чистосердечно рассказал ему о моих неудачных попытках стать артистом.
– Нашел о чем печалиться, – добродушно хохочет мой новый знакомый. – Ты думаешь, на артисте свет клином сошелся? А я вот с детства мечтал стать, как мой отец и дедуля, рабочим «Красного путиловца». Стал им – и работаю в радость! Как тебя зовут?
– Павел.
– Павлик, приходи к нам работать.
– До этого еще надо дорасти.
– Нет, ты мне только на один вопрос ответь: хочешь быть рабочим? – спрашивает он, сворачивая от моста Строителей к парку Ленина.
– Кто же из нас не желал бы стать настоящим рабочим? Да, если хотите знать, это тоже моя самая тайная, давняя мечта! Папа, дядя Саня, учитель Феодосий Васильевич всегда с гордостью говорят о рабочем человеке.
– Вот и приходи к нам завтра на завод.
– А что я буду там делать в таком возрасте?
– Учиться и работать.
– Шутите?
– На полном серьезе тебе говорю. Завтра у нас – дополнительный набор в ШУМП.
– А что это такое ШУМП?
– Школа учеников массовых профессий.
– И кем же я могу стать?
– Мой тебе совет: учись на слесаря по ремонту двигателей внутреннего сгорания. Это… вроде доктора. Только лечить ты будешь автомобили, тракторы, комбайны, корабли, самолеты…
– И тракторы, и самолеты?!
– Конечно. У всех у них сердце одно – двигатель внутреннего сгорания. Ты представляешь. Павел? Если я, ты, все мы будем грамотно и честно работать, какие урожаи мы будем собирать, как далеко плавать и высоко летать!..
– Ну а я сам… смогу повести в поле трактор?
– А как же! Кто же лучше тебя, доктора, будет его знать?
– И в самолете смогу подняться в небо?
– Почему бы и нет? Да пойми же ты, чудак-человек: все от тебя зависит, от тебя самого! Были бы желание и воля, – крепко, как взрослому, жмет он мне руку и твердыми шагами, быстро удаляясь, идет по осеннему парку Ленина.
А я уже представил, как на Урале трактором пашу поле на глазах у радостного Феодосия Васильевича, парю в самолете над Бикбардой на глазах у ее изумленных жителей.
Спохватываюсь, ищу взглядом рабочего с «Красного путиловца», а его уже за кронами деревьев не видно.
«Не почудилось ли это мне? – думаю, улыбаясь. – Не с неба ли спустился этот человек, чтобы вернуть мне Надежду и снова окрылить меня радостной Мечтою?»
Слово Сергея Мироновича
Не сомневаюсь, что дома к моему решению стать рабочим и мать, и отец отнесутся хорошо. Так оно и случается. И дело тут не только в том, что достатка тогда у нас в семье не было и у мамы каждая копейка была на счету. Просто к человеку труда, к людям заводов, фабрик, полей – к рабочему человеку – и стар и мал относились тогда с особым уважением.
Утром следующего дня беру документы – и на завод. В отделе кадров вежливо здороваюсь, подаю документы. Глянули в них – и возвращают мне:
– Рановато. Приходите через год.
Представляете, какой это для меня удар. Стою, слова сказать не могу: все во мне онемело.
А рядом снует мелюзга, мальчишки намного ниже ме-ня ростом. Но их принимают, а меня нет. Не обидно ли?!
– Извините, – говорю, – но я отсюда не уйду, пока вы меня не примете!
– Это еще что за новость? – возмущается председатель комиссии по приему новых кадров.
– Вы ошибочно меня не приняли.
– Мы, выходит, слепые? В документе черным по белому написано, что вы родились 29 июля 1915 года, а мы принимаем тех, кто родился до 1914 года. И – по моложе.
– Да что вы все на мертвую бумагу смотрите? Вы на живого человека посмотрите! Ну, чем я хуже их, чем? – говорю запальчиво, схватив двух, к счастью, подвернувшихся под руки шкетов. – В метриках могли и ошибочно написать, но вы же видите!..
Все дружно смеются, а председатель говорит:
– А ведь он и правда выше их почти на голову. Такое желание быть рабочим! Прямо скажу: характер мне его нравится. Ну, как? Возьмем грех на душу?
– Возьмем, возьмем, – отзываются голоса.
Радость мою в то мгновение не описать. Еще бы!
С этой минуты я становлюсь полноправным учеником ШУМПа. Да где? На самом прославленном в мире заводе! Здесь я буду учиться, стану настоящим рабочим.
Начинаю учиться на слесаря по ремонту двигателей внутреннего сгорания, как мне и советовал молодой краснопутиловец.
А на заводе изготовляют тракторы «Фордзон-Путиловец». С ними меня знакомят, с ними я и начинаю общение, постигая их сердце – двигатель внутреннего сгорания. Не потому ли у меня на всю жизнь осталась любовь к этой чудо-технике? К двигателю внутреннего сгорания я отношусь, как к живому существу, как к родному брату, с каким-то особым благоговением.
Да и иначе и не могло быть. Мы, ребята того времени, были прямо-таки влюблены в технику. Собственно, не так уж много мне было лет. Но помню, как я был горд в душе, что ношу рабочую спецовку, что у меня завернуты бубликом ее рукава. Нравилось, что у меня, как и у взрослых рабочих, слегка испачканы мазутом не только спецовка, по и мои щеки, вздернутый нос. Я любил отвинчивать, промывать, ремонтировать детали трактора. С той поры на всю жизнь полюбил запах солярки, керосина, бензина… Для меня было радостно уже одно то, что я просыпаюсь и иду на завод, на свой «Красный путиловец»!..
Однажды замечаю на заводе необычное оживление, слышу громкие радостные голоса:
– К нам Мироныч приехал!
– Сергей Миронович Киров приехал!
– Киров, Киров, Киров… – только и слышно в цехе.
Я еще тогда толком даже не знал, кто такой Сергей Миронович Киров. А он приехал открывать новый механический цех.
Естественно, это было в обеденный перерыв, в тот день он начался немного раньше. И конечно же, мне тоже захотелось посмотреть на человека, о котором так взволнованно и с таким уважением говорят. Опрометью бросаюсь в другой цех, куда, по разговорам, и придет Киров. Проталкиваюсь среди рабочих, ровесников-ребят: «Скорей! Не опоздать бы! Где же это? Быстрей!..»
Вижу, на фундамент поставлена станина, как постамент. Очень похоже на трибуну, удобное место.
«Поэтому, – рассуждаю, – на нее и встали люди, чтобы лучше разглядеть Кирова. Но место там еще есть. Только бы до прихода гостя успеть взобраться».
С трудом взобрался и я на этот постамент, во все стороны верчу головой, ищу глазами Кирова.
Какой-то человек в черной рубашке-косоворотке берет меня за плечо, говорит:
– Тихо-тихо ты, парень! Не дергайся. Упадешь. Стой здесь, стой!
И так крепко он сжал мое плечо, что я приутих и стал ждать, что же дальше произойдет.
Кирова так и не вижу, а председательствующий взволнованным голосом объявляет:
– Товарищи! Мы открываем новый механический цех… Первое слово предоставляется Сергею Мироновичу Кирову!..
И вдруг этот человек, который держит меня за плечо, чтобы я не дрыгался, снимает свою руку с плеча и говорит:
– Товарищи!..
Так начался митинг.
Я этого никогда не забуду! Это осталось в моей памяти, в моем сердце навсегда!
Да разве только в моем сердце? Когда нам становилось тяжело, все мы вспоминали это призывное, задушевное слово нашего Мироныча.
Досконально изучив и пощупав каждую деталь собственными руками, начинаю постигать и пробовать себя в мастерстве вождения. Как же я был горд, когда лучший тракторист на праздничном параде доверил мне на несколько минут штурвал новенького, собранного и моими руками, «Фордзона-Путиловца», и я сам повел его от Дворцовой площади до Музея Владимира Ильича Ленина!..
Ну а как все-таки удалось поступить в Ленинградский театральный институт и стать артистом? На этот ваш вопрос, мои дорогие читатели, обычно отвечаю долго. Но попробую быть кратким. Когда у человека в руках любимое дело, душа просит песни, музыки, поэзии. И как ты ни старайся отмахнуться, отгородиться, превратиться в молчаливого рака-отшельника – не выйдет! Жизнь все равно возьмет свое.
Так и меня жизнь, как говорится, взяла за руку и снова привела на театральное отделение художественной студии Петроградской стороны, словно кто-то говорил мне: «Любимое дело у тебя в руках есть, но душа просит праздника, театра. Ты не думай, что цель искусства только в том, чтобы самому петь, плясать, играть Леля и Ромео. Она еще и в том, чтобы уметь видеть, слушать, наслаждаться искусством. Что это ты так обиделся? Не взяли артистом? Ну и что? Тебя же не оттолкнули, осветителем приняли. Да, если хочешь знать, место осветителя – самое лучшее место в театре. С этой точки ты увидишь все лица героев и героинь. Более того: сам станешь творцом искусства. Не смейся! Красавицу ты можешь так осветить, что зритель зажмурит глаза, чтобы не видеть ее. А можешь цветной подсветкой из обыкновенной девушки сотворить красавицу такую, что люди засмотрятся на нее!.. Конечно, для этого надо мастерством осветителя овладеть, электротехнику на совесть изучить. Электротехник – это минер. Раз ошибся – и смерть тут как тут. Но ты же не боишься электричества. Ты еще учеником помогал электромонтеру свет в дома проводить. Ведь было же такое? Было. Так чего же медлить? Тебе ли бояться труда?»
Так я и стал осветителем художественной студии Петроградской стороны. Днем – на «Красном путиловце», вечерами – в студии. Ребята и девчонки играют в спектаклях, а я их освещаю. Молодой руководитель театрального отделения переехал в Москву, его заменил пожилой человек – Арсений Дмитриевич Авдеев. В студию приходили другие ребята, ставились новые спектакли, а я все продолжал работать со светом.
И вот однажды Арсений Дмитриевич начал работать над пьесой, где простой деревенский парень должен был петь под гармонь залихватские частушки. Сколько ни пробовали – не получается.
– Да что вы, соколики мои? – взмолился руководитель. – Неужели вы никогда не слышали и не видели, как вечерами гуляют в деревне…
– А кто из нас ее видел, деревню? – оправдывается за своих студийных друзей-актеров неудачный герой-любовник.
Арсений Дмитриевич, как может, буквально на пальцах, объясняет и даже показывает, как должен держать деревенский парень гармонь, как перебирает пальцами пуговки своей певучей подруги-гармони, как звонким голосом запевает.
Снова муки творчества – и снова каждому видно, что не живут артисты этим образом, а, что называется, вымучивают его.
– Какой ужас! Какой кошмар! – сокрушается наш режиссер. – Мне страшно поверить, что среди моих учеников нет ни одного, кто бы по-настоящему знал народную глубинку, волжские, уральские диалекты.
И тут почти все ребята, за исключением новичков, оборачиваются в мою сторону, смотрят на меня.
– А ты, осветитель, не попробуешь? – предлагает Арсений Дмитриевич. – Некого больше пробовать. А вдруг получится. Выручай, Павел!
Оставляю прожектор с цветофильтром, медленно подхожу к ребятам, а в мыслях уже в Бикбарде. Вспоминаю, как вечерами парни с гармошкой проходили мимо наших окон и всегда начинали припевки с одной и той же, совершенно безобидной, даже какой-то извиняющейся частушки:
Мы по улице пройдем —
Не судите, тетушки.
Мы девчат ваших не тронем —
Спите без заботушки.
А потом начинали петь такое, что бабушка Гарутина затыкала уши и нещадно бранилась:
– О, пермяк солены уши! Да как же ты можешь такое горланить на все село, идол? Креста на тебе, что ли нет? Как ты можешь так припевкой своих девчат обижать?!
Мама, бывало, хохочет, успокаивает ее:
– Зря ты сердишься. Это же ведь жизнь!..
– Да какая тут в чертях жизнь? Так горланят, что никакой жизни от них нет! О, греховодники! Чтоб на том свете черти на вас воду возили!..
Бабушка Тарутина называла такие частушки «солеными». Едва запоют ребята в другой вечер – она уже закрывает форточку:
– От них, греховодников, кроме соленого да малосольного, больше ничего путного не услышишь… А девки наши тоже хороши. Парни их на весь Урал позорят припевками, а они развесили уши и слушают. Вот срамота-то! Господи, прости мою душу грешную…
– Почему же? – смеется мама. – Вы послушайте хорошенько, послушайте. Девчата им тоже не уступают: и частушки задиристые, и голоса. Ах, как поют! Так бы вышла сама и подпела!..
– Не дури! – не на шутку расходится строгая бабушка. – И дверь сейчас на замок запру, чтобы не искушали тебя все эти греховодники. Господи, что на свете делается, что делается? Срамота!..
– Теперь уже можно открывать, – улыбается мама. – Помирились они. Видишь, все вместе какие ласковые частушки запели, слышишь?
Бабушка открывает форточку, прислушивается и тоже расплывается в улыбке:
– И правда, ласковые. С этого вам, пермяки солены уши, и начинать надо бы. Давно бы так!
Воображение сразу переносит меня и на те зимние бикбардинские «катушки», где под частушки и хохот с горы вместе с санками летят огненные, набитые смоляной паклей колеса и кадки. Вспоминаю радостный праздник Ивана Купалы, когда все с удалью и хохотом прыгают через костер.
– Трудно решиться? – спрашивает Арсений Дмитриевич.
– Да нет, – отвечаю. – Просто думаю, какие частушки вам спеть. Ведь у нас, на Урале, они делятся на три сорта: соленые, малосольные и ласковые. Какие спеть?
– Да хоть перченые! Лишь бы на пользу дела, – благословляет руководитель.
Возможно, Арсений Дмитриевич сказал это в шутку, но тогда я принял его слова как руководство к действию и запел:
Мы по улице пройдем —
Не судите, тетушки.
Мы девчат ваших не тронем —
Спите без заботушки.
Потом перешел к малосольным, солоноватым и добрался до крепко соленых и перченых. Бабушка Тарутина все-таки была права – петь их, как она говорила, «вселюдно» не стоит: никакой, даже самый добрый редактор, их не пропустит, А если и пропустит редактор, то, вероятно, печатные станки рассыплются на части от хохота. Пою, а все до упада, взявшись за животы, хохочут. Завершаю частушки точь-в-точь так, как бикбардинские ребята и девчата поздно вечером: ласковыми припевками:
Над рекою идут двое,
Мы счастливые с тобой.
Твой – в лазоревой рубашке,
Мой залетка – в голубой.
Покатилась кадка —
Целоваться сладко.
Покатилось колесо —
Целоваться хорошо.
Пролетел воробей —
Целоваться не робей.
Эх!.» —
лихо заканчиваю частушки-веселушки.
– Молодец! – восторженно одобряет Арсений Дмитриевич. – Вот она, народная жажда любви, радости и счастья!.. А вы что мне мямлили, дети каменных, домов и сердец?! Спасибо, родной! От всего тебе сердца спасибо!.. Репетиция закончена. Все – свободны. А ты, Павлик, останься: хочу с тобой по душам поговорить.
Все расходятся. Остаемся вдвоем, и, положив мне руку на плечо, руководитель говорит:
– Есть у Федора Ивановича Тютчева такие четыре строки:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Я всегда верил в Россию, в ее, пока еще мало осознанные миром, силы природы… Мне один заезжий артист-иностранец так и сказал: «Тебе нравится эта строфа у Федора Тютчева, а мне – его другие строфы. Я больше всего люблю строфы его «Фонтана».
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится,
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорно преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.
«Чем же вам нравится это стихотворение?» – спрашиваю иностранца. А он мне со всей прямотой: «Тем, что в нем – правда». – «Какая, – спрашиваю, – правда?» – «А та, – отвечает, – что России никогда не подняться к небесам. Самой судьбою уготована ей участь ползать и пресмыкаться. И попробуйте поднять голову – мы тут же ее обрубим!»
– Так и сказал? – переспрашиваю Арсения Дмитриевича.
– Так и сказал.
– И что же вы ему ответили?
– А я так и ответил ему, что верю не этим шестнадцати строкам, а тем, четырем. Правду не надо путать с истиной, господин хороший. А истина в том, что Россия, моя страна, желающая всему миру добра и счастья, не может не подняться до небес, и хотите вы того пли нет, но ее сыновья и дочери рано или поздно поднимут голову и еще скажут свое слово и в науке, и в искусстве!..