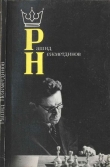Текст книги "Оставайтесь молодыми"
Автор книги: Павел Кадочников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Отец
Живо представляю ту давнюю золотую осень.
Из Амура в Бикбардинскую школу идут первоклашки. Да что там идут! Под горку, к речке, они бегут сломя голову. С шумом, гамом, хохотом на бегу подбрасывают ногами душистые листья и на лету ловят их – красные, желтые, оранжевые…
Как хочется и сверстнику их, Пете, кого-то обогнать или хотя бы не отстать от них, по он отродясь еще не сделал в жизни ни шагу: ноги висят как плети. А как хочется ему наклониться и взять вот этот, самый большой и красивый, оранжевый лист! Но и этого Петя сделать не может: он сидит высоко на плечах отца.
– Куда ото вы с сыном, Никифор Николаевич? – любопытствуют сельчане.
– Как это «куда?» – отвечает бородач. – Куда и все дети – в школу.
А во второй половине дня его тоже видят на этой дороге. Только идет он уже в Амур и несет сына из школы.
И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. На людях он никогда не жаловался на судьбу, сурово пресекал жестокие насмешки над ним и его сыном несмышленых ребят, утешал Петю и делал вид, что ему не составляет труда ежедневно дважды отмерять широкими шагами этот более чем двухверстный путь.
Лишь когда дети обгоняли его и исчезали за поворотом, когда рядом не оказывалось никого, сын видел, как отец, тяжело вздыхая, крестился и призывал на помощь небо, солнце, лес, мать-природу, умоляя: «Господи, за что ты мне ниспослал такое наказание? Милосердный, прости меня грешного и помилуй. Оживи ты моему Петеньке ноги! Молю тебя – оживи!..»
И чудо произошло! В один прекрасный день ноги Пети Кадочникова действительно ожили, он и впрямь стал обгонять однокашников, мог наклоняться и долго рассматривать прожилки оранжевого листа, белые лепестки ромашки, летучие зонтики пушистика – одуванчика…
Видно, поэтому мой отец обожествлял лес, верил в магическую силу солнечных лучей, голубых небес, природы. И эта вера отца была очень сродни вере берендеев в Ярилу – Солнце из «Снегурочки» – этих удивительно добрых, чистых душой лесных жителей, древних славян.
Учился отец прилежно. Он пытался приобщиться к городской жизни, и со свойственной его натуре жаждой справедливости и свободы всегда оказывался в самом центре городских событий.
После приезда в Петербург отец окончил техническое училище и работал вначале станочником на заводе, а потом артельщиком с золотых дел мастерами, заведовал продовольственным складом на железной дороге.
Заболев туберкулезом, отец за два года до Октябрьской революции переезжает в родной край, свято веря в исцеление природой. Как радовался он, что земляки приняли его семью дружелюбно и даже избрали председателем союза охоты Бикбарды и Амура!
Обычно охотники собирались в нашем доме вечером. Это были здоровые, кряжистые бородатые мужики, деловитые, немногословные. Особенно хорошо мне помнится папин друг Гайныша. Он мне казался главным охотником. Может, так это и было.
Гайныша знал, что и где лежит в нашем доме. Он приносил из чулана на могучих своих плечах мешок, наполненный морожеными пельменями, и ставил их в сенях у двери.
Мама большими порциями закладывала их в огромный чугун с кипящей водой и ставила в русскую печь. Когда пельмени были готовы, мама шумовкой доставала их из чугуна и раскладывала в деревянные миски, а Гайныша расставлял их перед охотниками.
Охотники по «скусу» заливали пельмени красным уксусом, сдабривали перцем, и начиналось насыщение. Упаси бог, если кто-то тайно или явно позволял себе выпить или принести с собой спиртное. Такого горе-стрелка отец сразу же отправлял до дому, до хаты.
Ели молча, до отвала, распуская пояса. Потом пили чай из пузатого самовара. Так делали всегда, потому что потом, во время охоты, перекусить времени уже не было.
Мы с братом Колей очень любили смотреть с полатей на все эти приготовления. Я буквально не спускал глаз с Гайныши. Мне казалось, что он был сделан из дуба. Будто взял кто-то топор и вырубил из него человека.
Вдоволь нахлопотавшись, Гайныша садился на лавку, пододвигал к себе огромную миску, наполненную дымящимися пельменями, и говорил:
– Моя теперь маленько ашать будет.
«Ашать» – по-татарски есть. «Ашал» Гайныша с завидным аппетитом: миски три, а то и больше, горячих пельменей «проваливались» в Гайнышу так быстро, что даже хорошо впавшие его охотники начинали добродушно ухмыляться:
– Нелегко, видать, бабе твоей прокормить тя, медведище?
– Суседи бают, из-за нехватки харчей Гайныша по ночам-ту задню лапу сосет.
Все громко смеялись, а Гайныша громче всех, поблескивая белоснежными зубами.
Как только через замороженные окна начинал брезжить рассвет, во дворе и у ворот собирались загонщики. Многие ждали прямо в розвальнях, запряженных маленькими лохматыми лошаденками. Заиндевевшие, они нетерпеливо перебирали копытами.
Платили загонщикам не очень много. И тем не менее собиралось их до шестидесяти человек – и молодых, и старых. Но больше всего было школьников, у которых в воскресный день появлялась возможность заработать на карандаши и тетрадки.
Промысловые загоны были в этих краях не так уж часты. Нам, ребятишкам, доставляло неизъяснимое наслаждение пробираться сквозь чащу леса, по пузо утопать в сугробах, трещать специальной загонной трещоткой, шуметь в тихом лесу, будить его ото сна – и ощущать свою полезность в серьезном деле.
Но еще больше мы любили с братом, когда отец брал (так напечатано в тексте!) ского пруда, в паргу.
Слово «парга» имеет свою довольно забавную историю. Вот как рассказывал об этом отец. Помещику Аносову было угодно поставить на речке Бикбардинке мельницу. Для него и соорудили плотину с вершниками-воротами. А на плотине, длиною более версты, были посажены липы.
Речка Бикбардинка остановилась, разлилась вширь, затопила луга, добралась до возвышенности, густо заросшей пихтами, и превратилась в красивое озеро протяженностью в четыре версты и в полторы версты шириною.
В девственном пихтовом лесу Аносов разбил парк, прорезал аллеи, поставил беседки, на берегу построил купальню. По озеру катались на лодках и даже на небольших яхтах. Но для бикбардинцев слово «парк», видимо, показалось трудно произносимым, и они его стали называть «парга».
Прошли годы. Аллеи заросли, беседки отжили свой век, о купальне напоминали только позеленевшие остатки свай, а слово «парга» живет и сегодня. Правда, мало кто знает сейчас, почему эта часть пихтового леса так называется. В этом я убедился после последней поездки в Бикбарду.
И вот более чем через полвека я снова в этих краях и не могу оторвать взгляда от парги. Мороз, снег, озеро покрыто льдом, а я смотрю на берег, и теплеет на сердце от воспоминаний о том счастливом лете, проведенном вместе с отцом и братом.
…На закате солнца, когда озеро превращалось в рубиновую гладь, мы оставляли у берега парги свою плоскодонку, разводили костер, ели душистую уху из нескольких сортов рыб. Обычно это были линь, налим, крупная сорога, щука, окунь… Потом отец укладывал нас на толстый войлок, разостланный на камыше, накрывал тулупом, и мы блаженно засыпали.
Пока шли приготовления к ужину и сну, велась неторопливая беседа у костра. Отблески его пламени играли на могучих ветках пихтача, а где-то в камышах глухо стонала выпь.
– Пап, а пап, – шепотом говорит брат, – слышишь, как души усопших стонут?
– Чего? – удивленно вскинув брови, отвечает отец. Он даже перестал чистить рыбу. – Кто, говоришь, стонет?
– Души, говорю, стонут.
– Кто это тебе сказал?
– Бабушка Тарутина сказала: когда красные с колчаковцами бились, дак многие без покаяния похоронены.
– Ну-ну, рассказывай, – улыбается отец.
– Вот ихни души теперь и стонут.
Отец весело хохочет, гладит брата по стриженой голове.
– Выпь это стонет, выпь! Птица такая болотная есть… Ночь-то ей одной тоскливо в камышках сидеть, вот она товарища и зовет к себе. А ты – «души».
Утро отец всегда встречал стихами Никитина. Это был своеобразный ритуал.
Мы с братом еще поеживались под тулупом от утреннего холодка у потухшего костра, а отец уже стоял на пне и читал стихотворение Ивана Никитина «Утро»:
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Полуоткрыв рты, затаив дыхание, мы слушали… Нам казалось, что отец по утрам на некоторое время превращается в доброго волшебника. Ведь все, о чем он так складно говорит, сбывается на наших глазах:
Дремлет чуткий камыш. Тишь – безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом – на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая,
И мы с Колей, откинув тулуп, уже сидим на войлоке, обхватив колени, и ждем, когда отец скажет:
Потянул ветерок, воду морщит-рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылися,
И утки, словно от волшебных слов отца, действительно с шумом проносятся рядом!..
Теперь отец смотрит на нас, глаза его смеются;
Далеко-далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалашах пробудилися…
Конечно, пробудилися: мы не спим, протираем кулаками глаза и сладко потягиваемся на войлоке. А отец уже дочитывает стихотворение:
Едет пахарь с косой, едет – песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое…
Не боли ты, душа! отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!
– Здравствуй! Здравствуй! – вопим мы, быстро срываемся с места и, не сговариваясь, бежим к позеленевшим сваям бывшей купальни умываться.
– Ашать будете, бесенята?
– Ек! – отвечаем по-татарски.
– Ну, тогда пожитки в лодку и айда щук с жерлиц снимать да «морды»-плетенки трясти: небось линей в них понатыкалось за ночь-то.
И вот мы в густых зарослях шумящего камыша. Отец с трудом вытаскивает за кол сплетенную из ивовых прутьев ловушку, которая похожа на большую бутылку или чернильницу-непроливайку. Он держит ее у борта лодки, пока не стечет вода. Чуть ли не половина плетенки забита трепещущей рыбой.
– У-ух, сколько! – спешим вытащить из горловины ловушки соломенную пробку, – и в лодку валятся золотые, словно полированные лини, сверкает серебром сорога…
Мне очень хочется подержать в руках скользкого, отливающего золотом линя, но удержать его невозможно: он выскальзывает из рук.
– Не трогай, Палька! Недосуг баловаться, – серьезно говорит брат. – Нам еще три штуки вытащить надо, да щук снимать.
С неохотой оставляю в покое линя.
Отец направляет плоскодонку через камыши к следующему колу и говорит:
– А ну, Павлик, повторяй за мной: «На реке мы лениво налима ловили; для меня вы ловили линя. О любви не меня ли вы мило молили?..»
Я путаюсь в скороговорке. Вместо «налима» говорю «малина». Отец и брат весело хохочут. Хохочу и я.
Может быть, окутанные дымкой времени, картинки моего детства кому-то и не покажутся столь значительными, чтобы их воскрешать в эмоциональной памяти. Для меня же они нечто такое, что приоткрыло двери в мир прекрасного. И если я в какой-то мере понял не только разумом, но и сердцем, что такое восходы и заходы солнца, нежный шепот камышей и свист ветра, и что такое «вологодские кружева», брошенные морозом на окна, и для чего человеку необходимы стихи, то обязан я этим моему отцу, носившему в себе удивительный мир художника.
Сегодня мне думается, что общение с зорями в парге, с природой, поэзией отцу было необходимо и для того, чтобы забыться – пусть хоть на миг – от кошмаров пережитого, от чего он бредил, вскрикивал во сие, чего не в силах был забыть всю жизнь.
В гражданскую войну колчаковцы захватили Бикбарду, арестовали отца как члена комитета бедноты, избили, бросили в броневик и трое суток держали в этом железном панцире без глотка воды, пищи, света. Можно представить, как сельчане уважали и любили отца, если, не страшась смерти, они доказали головорезам, что член комитета бедноты – выборное, неприкосновенное лицо и потому подлежит немедленному освобождению! Боясь народного гнева, отца освободили. Но – как?
– Лязгнула крышка люка, – рассказывал отец. – И меня выволокли из броневика. В глаза больно ударил свет. Показалось, ослеп от темноты, никого не вижу. Постоял немного, шатаясь. Бросили меня в глубокую телегу, по углам сели четыре солдата и молча повезли. Привозят в лес. «Ну, все, – думаю, – привезли расстреливать». Выволокли из телеги, приказывают: «Иди». «И не оглядывайся!» – добавляют. Сделал шаг и думаю: «Сейчас грянет выстрел…» Еще шаг, еще, а мысль: «Ну, вот, сейчас, сейчас…» У меня, как говорят, горела спина от мысли: этот последний шаг или – этот?.. Оглянуться не имею права. Вот опять иду… И сам удивляюсь, что еще иду… Шаг, еще шаг, еще… «Когда же раздастся выстрел?! Скорей бы уже!..» И вдруг загремела колесами телега, невольно оглянулся и вижу: телега вместе с моими мучителями уходит от меня!.. Не верю себе, «Значит, меня не расстреляли? Отпустили?..» Я прошел еще несколько шагов и упал от изнеможения…
Позже белогвардейцы вновь взяли в плен отца, на допросах жестоко избили и в Красноярске тяжело больного сыпным тифом бросили в покойницкую. Когда же красные освободили Красноярск, то в покойницкой среди трупов его земляк Илья Иванович Зверев заметил еле живого человека. Им оказался Петр Никифорович Кадочников!..
…В третий раз пришла за отцом смерть в блокадном Ленинграде. Видно, его полное изнеможение в те дни можно было сравнить только с пребыванием в покойницкой Красноярска в годы гражданской войны.
О тяжелом физическом состоянии отца я сразу же догадался по дрогнувшему почерку, которым он писал мне письма в Анжеро-Судженск. Только близкое дыхание смерти могло так обезобразить его всегда красивый и уверенный почерк.
И – что удивительно! – даже в это предсмертное время отец не утратил веры в магическую силу искусства и природы. Самым последним его желанием в блокадном Ленинграде было побывать в лесу, посмотреть на деревья, на небо, подышать родным воздухом.
Мои корни
Для меня каждое время года имеет не только цвет, но и запах, вкус. С детских лет весна связана у меня с ароматом березового сока. А все – дедушка Егор. Он впервые в жизни напоил меня этим целебным напитком природы.
– Павлуша, – помню, окликнул меня дедушка недалеко от Бикбарды на рыбалке, – пока мы здесь, на берегу, возимся, я напою тебя березовым соком. Хочешь?
– Хочу, – отвечаю, еще не зная, что это такое.
Дедушка подводит меня к березе, достает из кармана железяку, похожую на разрезанную вдоль трубочку, слегка наживляет белую кору, осторожно вводит в нее кончик чистого желобка и тихо, словно боясь спугнуть волшебство, шепчет:
– Терпение…
С удивлением вижу, как по желобку, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее сбегают в горлышко бутылки одна за другой чистые, как росинки, капли. От яркого весеннего солнца они горят и, разбиваясь о стекло, разлетаются, кажется, не брызгами, а искрами.
Терпеливо жду, когда дедушка разрешит глотнуть это лесное чудо… или хотя бы лизнуть кончиком языка.
Наконец наступает этот миг, и я с наслаждением пью, как говорит дедушка, божественный напиток. Он и по сей день мне кажется действительно божественным, ни с чем не сравнимым!
Видно, потому я так и люблю природу, что впитал ее, в прямом смысле слова, вместе с березовым соком.
Доброта дедушки Егора щедро питала всех нас, а ему в этом помогала сама природа. Да, это тот самый Егор Николаевич, что долгое время прожил в городе на Неве, служил в армянской церкви. За усердие и трудолюбив на пятнадцатом году службы получил повышение и еще десять лет в этой же церкви на Невском проспекте был старостой.
Возвратясь под старость в свою родную деревню Амур, дедушка занимался только рыбалкой и своим маленьким огородом. Его очень любили деревенские мальчишки: он был тихим, добрым, ласковым.
А разве забудешь его постоянную заботу о маме и обо всех нас! Бывало, придет, принесет маме налима или щуку и спросит:
– Ну, как Агриппина, о Петре слышно ли чего?
– Да говорят… вроде бы к весне обещают отпустить.
– Вот видишь, – искренне радуется дедушка. – А я что тебе говорил? Надо только терпеть и ждать.
– Да говорят еще, будто не в себе он после… – и мама прикладывает к глазам передник.
– Это после того, как с мертвяками-то долежал? Э, брось! Мертвенькие, они ведь тихие, никого не обидят. И Петру твоему ничего не сделали. Ты не реви. Вернется, одумается, опять человеком полезным станет.
А однажды дедушка Егор принес мне с братом сплетенные из ивовых прутьев мережки. Он сплел их с учетом ребячьих сил – маленькие.
– С вечера в камышики поставите, – говорил он ласково, улыбаясь, – а утречком, глядишь, и рыбка на ушицу.
Как же мы радовались с Колей этому подарку и как благодарны были доброте и заботе о нас!..
Когда в Бикбарде звонил большой колокол, призывая к вечерне, дедушка Егор оставлял все мирские дела и шел в церковь.
И мне, мальчишке, было как-то странно видеть, что за это недолюбливали деда Егора все его пять братьев. Особенно – мой дед Никифор.
– Лодырь он, Егорка-то, – ворчал мой родной дед, – сбаловался в городу-то. Все б ему только налимов ловить да в церкву ходить.
А если уж в кои веки к нам выбирался родной дед Никифор, мы с братом Колей либо пытались исчезнуть из дома, либо забиться в угол так, чтобы нас было не видно и не слышно. Дедка был глух, как тетерев на току, поэтому разговаривать было очень трудно. Приходилось кричать ему в самое ухо.
– Никифор! Чего не приходишь к нам? – громко кричала мама.
– Чо говоришь-то?
– Говорю, чего не приходишь к нам?
– А чо к вам приходить-то? Чо у вас взять-то?
– Взять-то у нас, и верно, нечего. Да хоть бы на внучат-то своих посмотрел!
– Чо говоришь-то?
– На внучат, говорю, посмотрел бы!
– А чо на них смотреть-то? – так же громко кричал дед. – Гармоеды они у тебя, не хрестьяны. Небось опять погоду пинают. Что ты их не бьешь? Их бить надо!
Если же кто-нибудь из нас нечаянно появлялся перед его глазами, од обязательно пошутит:
– Павлуха, подь-ка сюды: я тебе ухи отрежу!
Почему-то не хотелось, чтоб мне резали уши, и я всеми силами старался избежать встречи с дедом.
Как-то мама рассердилась на него и в сердцах сказала мне:
– Ну и дед! До чего же он любит свою кобыленку, что даже ребятишек жаль покатать в Бикбарде. Ведь масленица же идет!..
Не успела она договорить, как подъезжает дед Никифор. В кошеве у него много душистого сена. Собрал всех ребятишек, усадил нас в кошевку, на ароматное сено – и давай катать по Бикбарде. Радость ребят – не передать!..
Замечаю: если поднимаемся на горку, дедушка вылезает из кошевки и ведет маленькую, в инее – как сказочная сивка-бурка! – лошадку под уздцы; спускаемся под горку или едем по ровной дороге – он сидит вместе с нами.
Правда, удовольствие это длилось не очень долго. Покатав, дедушка говорил нам:
Ну и хватит. Справили масленицу-то.
Мы воробьями вылетали из кошевки.
И наш дедушка дарил маме какой-нибудь подарок, кряхтя усаживался в кошевке и возвращался со своей сивкой-буркой в Амур.
До чего же дедушка Никифор любил свою родную деревню!.. Едет, бывало, в кошевке по улице и вдруг останавливается:
– Тпру-у-у.
Берет витень – витой кнут – и, не считаясь со своим преклонным возрастом, выбирается из кошевки и стучит ручкой витеня в окно.
– Кто там? – слышится в ответ, и показывается заспанное лицо, взъерошенные волосы амурчанина. – А-а-а, Никифор. Чо надо?
– Хозяин ты непутевый – вот чо! – корит его мой дед. – Гли-ко, у тя канава травой заросла. Прибери ка-наву-то. Не позорь деревню и себя. Ты в Амуре живешь, а не где-то!..
Нет, не случайно деревня Амур с ее красотой и самобытным русским весельем вошла в мои кинокадры, хотя и запомнился мне этот уголок земли не только радостью и весельем. В неизменной любви к Амуру были едины все мои деды: и Никифор, и Егор, и Захар, и Илья, и Никанор…
Вспоминая дедушку Никанора, всегда вижу его у Гришкина омута.
Рано умерла у Никанора Николаевича жена, и осталась у него единственная радость – сын Гриша. Но как-то побежал Гриша ловить рыбу и… утонул в реке Солодов. С тех пор каждый вечер, пока был жив, приходил дедушка Никанор к этому глубокому месту. Придет, сядет на берегу на камень-дикарь, низко опустит голову, долго-долго смотрит в глубину и разговаривает, как с живым, с сыном.
Не забыть ярко-багровый закат и сгорбленного седого человека, идущего к речке. Все смотрим ему вслед, и женщина, приложив платок к губам, тяжело вздыхает:
– Ох, гли-ко: Никанор опять пошел разговаривать с Гришей.
Так и нарек это глубокое место народ: Гришкин омут.
Не раз и не два вспоминал я своего дедушку Никанора, работая над образами стариков нелегкой судьбы, на него похож и мой Вечный Дед в «Сибириаде».
Сегодня еще глубже понимаю и чувствую эту боль, когда иду вместе с женой к могилам своих сыновей.
«Время все сотрет», – говорят нам в утешение.
Все это неправда. Если в человеке есть великая сила любви, то боль утраты любимого существа не пройдет и не изгладится ни при каких обстоятельствах. Эту всегда открытую рану невозможно залечить ни успехом, ни народным признанием. Она всегда в сердце, всегда со мной. И мне ли не понять моего дедушку над Гришкиным омутом!..
Мои деды – мои глубинные корни. Они духовно питали моего отца, брата, сегодня питают сестру и меня. И хочу, чтобы волей, мужеством, жизнелюбием, красотой и радостью они всегда питали наших внучек, внуков и правнуков. Потому что в этих корнях вечная мудрость народа, его жизнь, молодость.
Недавно довелось побывать на своей второй родине в тридцатиградусный мороз. Видно, запасом здорового уральского воздуха, сердечной встречей земляков я и сегодня живу. Спасибо тебе, уральская зимушка-зима!
Но как же хочется и осенью, и летом, и ранней весной наведать родной лесной край!
Представляю, как подойду к той самой березе, к которой вел меня за руку дедушка Егор, низко поклонюсь ей за тот волшебный напиток и задушевной песней попрошу новых сил для жизни и творчества:
Открой мне, Отчизна, просторы свои,
Заветные чащи открой ненароком,
И так же, как в детстве, меня напои
Березовым соком, березовым соком.
Верю, что даже сейчас, прожив долгую жизнь, от глотка березового сока родной земли смогу помолодеть. И не на один день.