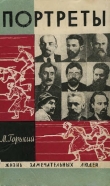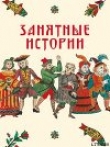Текст книги "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я"
Автор книги: Павел Фокин
Соавторы: Светлана Князева
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
СОБОЛЬ Андрей
наст. имя и фам. Юлий Михайлович Глузман(?);
13(25).5.1888 – 7.6.1926
Прозаик. Книги «Рассказы» (М., 1916), «Пыль» (М., 1916), «Бред» (М., 1917), «Люди прохожие» (М., 1923), «Обломки» (М.; Пг., 1923), «Книга маленьких рассказов (1922–1925)» (М., 1925), «Паноптикум» (М., 1925) и др. Покончил с собой.
«Соболя знал еще по Крыму 1919 года – он жил тогда в Коктебеле у Максимилиана Волошина и нередко бывал в Феодосии. Но ближе с ним познакомился в Москве, на литературных вечерах в „Доме Герцена“. Бывал он и у нас, в редакции „Накануне“. Худощавый, маленький, на редкость милый и симпатичный, Соболь щеголял в серо-зеленом костюме с брючками до колен и в толстых серых чулках.
Андрей Соболь был писателем с именем, до революции книги его рассказов выходили в Петербурге. Он считался одним из видных руководителей Всероссийского союза писателей и уважаемым современным писателем. Андрей Михайлович говорил, что пишет каждый год по шести рассказов и раз в год собирает их в книгу. Соболь был умным, наблюдательным беллетристом, очень хорошим мастером диалога. Мастерство диалога и помогло ему написать его известную пьесу „Сирокко“. Она с успехом прошла в Камерном театре у А. Я. Таирова.
Не знаю, сколько лет было тогда Андрею Соболю. Во всяком случае, был он в то время молод, и талант его год от году рос. Несколько лет спустя жизнь этого писателя трагически оборвалась. Соболь страдал нервным заболеванием, и я помню темный печальный московский вечер, когда я прибежал к его другу Ефиму Зозуле с сообщением: только что на Тверском бульваре Андрей Михайлович покончил с собой!» (Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники).
СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич

16(28).1.1853 – 31.7(13.8).1900
Философ, поэт, публицист, переводчик. Публикации в журналах «Русский вестник», «Русь», «Вестник Европы», «Русское обозрение», «Вопросы философии», «Православное обозрение» и др. Сочинения «Чтения о Богочеловечестве» (М., 1881), «Религиозные основы жизни» (М., 1884), «Смысл любви» (1892–1894), «История и будущность теократии» (1885–1887), «Оправдание добра» (СПб., 1897), «Жизненная драма Платона» (1898), «Три разговора с приложением краткой повести об антихристе» (1900) и др. Сын историка С. Соловьева. Дядя поэта С. Соловьева.
«Это был истинно великий русский человек, гениальная личность и гениальный мыслитель, не признанный и не понятый в свое время, несмотря на всеобщую известность и на относительный, иногда блестящий успех, которым он пользовался. …Горько подумать о том, сколько непонимания встречал он при жизни, несмотря на всю ослепительную ясность, на художественное мастерство своего слова. Всех привлекали лишь отдельные стороны его таланта, его деятельности, его учения. Одни ценили в нем только публициста, другие – критика, третьи – философа. Всем или почти всем было чуждо его учение в том, что для него самого было всего дороже, т. е. в своей полноте и цельности, в своем основании.
О достоинстве философских построений вообще могут существовать различные мнения; но если человечество чтит имена великих мыслителей, создавших системы целостного миропонимания, то имя Владимира Соловьева причтется к их именам.
…Учение Соловьева, учение „Положительного Всеединства“, не было эклектической системой, собранной и составленной искусственно из разнородных частей. То был живой органический синтез, изумительный по своей творческой оригинальности и стройности, парадоксальный по самой широте своего замысла и проникнутый глубокой, истинной поэзией.
…В нем было изобилие веры, откликавшейся на все религиозное, с любовью принимавшей все подлинно христианское. То соединение церквей, которое было его любимой мыслью, которое он проповедовал в прежние годы, было в душе его не только идеей, а живым, совершившимся фактом. В религиозной истории, в истории христианства нашего века личность Владимира Соловьева займет подобающее ей место – как исповедника вселенского христианства, который сумел жизненно усвоить и соединить в себе веру разрозненных церквей. Умолчать об этом значило бы умолчать о самом главном в духовной жизни Владимира Соловьева.
…Мертвой, головной веры он не знал, и от веры, как и от добра, он требовал оправдания на деле. И вся жизнь его была стремлением оправдать свою веру, оправдать добро, в которое он верил. Делу своему он отдавался весь, не зная отдыха, беспощадный к себе, пренебрегая болезнью и истощением, торопясь исполнить то, что считал своим призванием» (С. Трубецкой. Смерть В. С. Соловьева).

Владимир Соловьев
«В памяти всех, кто хоть раз видел Владимира Соловьева, самая внешность его запечатлелась навсегда, как лучезарное видение. Таинственно-прекрасные глаза… высокое чело с наглядным отпечатком дум и забот; густые, энергичные брови, пышные волосы с сильною проседью, крупными волнами окаймлявшие матово-бледное лицо; пушистая длинная темно-каштановая борода, скрашивавшая суровые очертания рта и подбородка.
Многими было основательно замечено, что верх и низ лица были у Владимира Соловьева в каком-то странном несоответствии, точно служили выражением различного духовного склада или даже принадлежали двум разным лицам. Общему чарующему впечатлению эта раздвоенность облика, однако, не вредила, так как преобладание высших душевных черт наглядно отражалось на этом замечательном лице.
Руки у Владимира Соловьева были необычайно белые, аристократичные; если допустить некоторый импрессионизм, то можно сказать, что это были умные и добрые руки католического епископа.
Манеры, полные утонченного достоинства и неподдельной простоты; добрая улыбка, в которой выражалась неизъяснимая душевная теплота; густой грудной баритон, обладавший какою-то особенной убедительностью; наконец, детский, иногда неудержимый смех с неожиданными, презабавными икающими высокими нотами – смех человека с чистою совестью, не пресыщенного суетными радостями, всю жизнь посвятившего труду и молитве и потому с особенною свежестью чувства умеющего отдаваться минутам невинного веселья. Все это дорисовывало своеобразный облик, обладавший редкою силою симпатичности.
Это было одно из тех лиц, перед которым можно высказываться только откровенно, а светская условная ложь кажется грехом. Даже как-то неловко было бы дать ему неполный или уклончивый ответ на тот или иной вопрос или, не согласившись с ним, не выяснить тут же принципиальной причины такого несогласия.
Особенно сильное впечатление производил он на детей и простолюдинов, то есть именно на тех, чья совесть наименее разъедена ржавчиною всяческой лжи; они чувствовали праведность этой души и тянулись к ней, как к свету. Сколько мне приходилось видеть простолюдинов, знавших Владимира Сергеевича, – все к нему относились как к лицу с какими-то особыми духовными полномочиями свыше.
…Какое-то мистическое доверие внушал Владимир Сергеевич даже животным. Мне случалось раза два присутствовать при водворении его с вокзала в номер гостиницы: едва успеет он приехать и потребовать себе стакан кофе, как уже в оконные стекла бьются десятки голубей. Положим, он любил кормить их размоченною булкою; но каким образом птицы узнавали о приезде Владимира Сергеевича, прежде чем он приступал к их кормлению, – это уже их тайна. Та же история повторялась с окнами моей квартиры, когда там поселялся Соловьев.
…По выражению одной моей служанки, с переездом Владимира Сергеевича в дом „нисходило благословение“: всем становилось как-то легче на душе, житейские огорчения и дрязги казались ничтожными, мысль сама собою настраивалась более высоко, и всем работалось спорее. В доме, конечно, становилось тише, потому что все домочадцы сознавали необходимость дать гостю покой и возможность заниматься.
А работоспособность его была прямо изумительна. Он мог просидеть 6–7 часов подряд, не отрываясь от письменного стола, затем заснуть часа на два и проснуться самостоятельно часа в три утра, чтобы опять сесть за работу до полудня.
…У его трудовой энергии была какая-то особенная заразительность: все, начиная со взрослых и кончая детьми, охотнее и легче выполняли свои задачи, зная, что в соседней комнате работает Соловьев. И как весело бывало, когда сходились после этого с ним за завтраком или за ужином! Сознание, что он успел много сделать за несколько часов, разжигало в нем шутливость и добродушный юмор: он сыпал экспромтами, вспоминал смешные эпизоды из своей жизни и переходил к неудержимому хохоту.
Комната, где он жил, обыкновенно пропитывалась запахом скипидара. Этой жидкости он придавал не то мистическое, не то целебное значение. Он говорил, что скипидар предохраняет от всех болезней, обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, пол и стены комнаты, а когда собирался в гости, то смачивал руки скипидаром пополам с одеколоном и называл это шутя „Bouquet Solovieff“.
…Владимир Сергеевич гостил обыкновенно дольше, чем было раньше намечено, но и уезжал иногда внезапно, без побудительной внешней причины, просто „чтобы не разбаловаться“, как он выразился однажды.
…Владимир Сергеевич любил и людей, и жизнь, с особой напряженностью испытывал радости ее, но намеренно устранялся от всяких земных уз, намеренно ставил пределы собственному сердцу, даже в проявлениях любви к родным и друзьям. Он избегал подчинения привычке решительно во всем, даже в аскетизме, этой отличительной черте его жизни. Аскет по призванию и убеждению, он боялся, если можно так выразиться, машинального аскетизма и порою нарочно прерывал созерцательное настроение невинным весельем, как светлый метеор влетая в кружок друзей, чтобы снова исчезнуть, иногда надолго.
Оттого жизнь Владимира Сергеевича – хотя и глубоко объединенная главной идеей, которой он служил, и главным чувством, преобладавшим в его сердце, – представляла собою картину сложную, производившую впечатление пестроты и даже раздвоенности» (В. Величко. Владимир Соловьев. Жизнь и творения).

Владимир Соловьев
«У Соловьевых все смеялись громко, привлекая внимание, но смех Володи Соловьева был поистине поразителен. Очень трудно передать его словами, и вместе с тем для всякого, знавшего его, он был совершенно неразделен с впечатлением о нем, с его лицом и фигурой, в которых было так много красоты и отличия от других, а также и с душой его – глубокой и любящей смешное. Если бы не было этого смеха, был бы изменен самый его образ; внешность его была необыкновенна, как бы не от мира сего, и именно любовь к смешному, цитирование Козьмы Пруткова, остроты и каламбуры в письмах и на словах, и этот его смех, странный, дикий, но такой заразительный и искренний, как бы было то, что соединяло его с людьми, с толпой, с землей.
Услышав что-нибудь очень смешное, он вскрикивал, положительно пугая всех, и закатывался, запрокидывая голову. При этом бледное, строгое лицо его и глаза принимали даже удивленное выражение, точно он сам был не рад. Громко, как в припадке коклюша, он переводил дух и опять „заливался“, вскрикивая и взвизгивая.
…Он был человек очень сильных чувств и сильной страсти. Любовь доставляла ему наибольшие страдания. Жизнь его была, однако, совершенна отлична от жизни мужской молодежи его кружка и времени. К обычной распущенности, легкой связи без любви он относился с отвращением.
Влюблен он был всегда, и притом, как обычно было со всеми Соловьевыми, как-то всегда все знали об этом. Слишком ярки, сильны, сложны были эти переживания, чтобы можно было их скрыть. Слишком многое влекли за собой.
Можно также сказать, что любовь его была всегда несчастной в том простом, по крайней мере, житейском смысле, как принято это разуметь. Мы всегда знали об его романах, в особенности о главных и позднейших из них. Несчастный их характер был, пожалуй, и неизбежен – любил он женщин властных, привлекательных, подчинявших себе, притом сложных, не простых, которые его мучили, и к самым мучениям этим его как бы влекло.
…Все земное – от природы до искусства, любви и наслаждений – было совершенно близко ему. …Но пребывание во Христе, Которого он любил, делало все низменное ему чуждым. Жизнь его была не похожа ни на какую другую» (К. Ельцова. Сны нездешние).
«Владимир Сергеевич проживал в центре Петербурга, на Исаакиевской площади, против самого собора, в отеле „Англия“ [„Англетер“. – Сост.]; в верхнем этаже у него были три комнаты. „Я в жизни моей никого не убил и никого не родил“, – говорил он, сохраняя безбрачное состояние. …В расцвете популярности молодого философа большое значение имела дружба его со светской женщиной. Но священно для него лишь было мистическое поклонение видению „вечно женственного“, которое посещало его три лишь раза в жизни, и, между прочим, в Египте, что изображено им в прекрасной поэме его. Владимир Сергеевич получал множество писем, и ему сильно докучали посетительницы, хотя, при его общительности, он и не тяготился ими, но они мешали ему работать. Поэтому время от времени он уезжал в Финляндию.
…Он еще потому ценил отель „Англетер“, что здесь его окружали все высшие установления империи: Государственный Совет в Мариинском дворце, Сенат и Синод; в Галерной улице находилась редакция „Вестника Европы“. В перерывы заседаний или после них к философу заходили члены этих установлений, крупные люди, и сообщали ему различные начинания, толкуя события наверху.
Лишенный кафедры опальный профессор-философ пользовался дружбой и уважением наиболее просвещенных сановников; его слушали. Ему казалось, что так может он влиять на политику страны. Любил он и великолепные богослужения Исаакиевского собора. Он даже открыл, где в этом соборе, выражающем в своей архитектуре только идею всеподавляющего могущества, приютилась столь гонимая Синодом, прокуратурой и монахами и попами казенного православия – мистика. В самом низу собора, над фундаментом есть ниши, в которых поставлены два коленопреклоненных ангела. Они, склонив самопогруженные лики, простирают так свои руки, что между ними образуется треугольник, и кажется, что они держат нечто треугольное, но невидимое. Триада в монаде – Троица в единстве. Есть нечто, и нет ровно ничего. Владимир Сергеевич становился на колени, молился и, вложив свою прекрасную голову с седыми кудрями в это таинственное „нечто“, поддерживаемое за углы и вершину ангелами, исповедовался им» (Н. Энгельгардт. Эпизоды моей жизни).
«Проза его, я думаю, вся пройдет. Просто он не будет читаться иначе как для темы „самому написать диссертацию о Соловьеве“. Но ведь так и Пико-де-Мирандолла „еще существует“.
Но останутся вечно его стихи… Он как-то сравнил с камнями русских поэтов: помню, „Пушкин – алмаз“, „Тютчев – жемчуг“. Ему есть тоже какой-то самостоятельный камень, особый, ценный, хороший. „Кошачий глаз“? (очень красивый и без намеков) – топаз? аквамарин? Может быть – красная, редкая, „настоящая персидская“ бирюза? или кроваво-красный (изумруд, что ли? но он, кажется, зеленый)? Не знаю. Я хочу сказать, что в поэзии его положение вечно и прекрасно. Оно где-то между Тютчевым и Алексеем Толстым. Но в некоторых стихотворениях он даже единственно прекрасен» (В. Розанов. Мимолетное).
СОЛОВЬЕВ Михаил Сергеевич

16(28).4.1862 – 16(29).1.1903
Педагог, переводчик, издатель сочинений В. Соловьева. Сын историка С. Соловьева, брат философа В. Соловьева, отец поэта С. Соловьева.
«Труднее всего было бы мне дать силуэт М. С.; в нем не было рельефов, выпуклостей; была вогнутость, рельефившая собеседника – не его; и все же: в некрасивой этой фигуре была огромная красота; поражали: худоба, слабость, хилость маленького и зябкого тела с непропорционально большой головой, кажущейся еще больше от вьющейся шапки белокурых волос; казалися слишком пурпурны небольшие, но пухлые губы, опушенные золотою бородкой; но прекрасные светлые глаза, проницающие не глядя, а походя, и строгая морщина непреклонного лба перерождали дефекты внешности в резкую красоту разливаемой атмосферы, слетающей с синим дымком папиросы его» (Андрей Белый. На рубеже двух столетий).
«М. С. Соловьев был замечательным человеком; он умел соединять спокойную уравновешенность, эрудицию с той безграничной свободой, которая не заслоняла от него ничего искреннего, какие бы формы эта искренность ни носила. Он был авторитетом и для своего брата, и для „маститых“ друзей Владимира Сергеевича, и для молодой кучки искателей, в которых в то время обливали презрением „маститости от схоластики“. Вокруг Соловьевых группировались все смелые и искренние, идущие своим путем» (Андрей Белый. Владимир Соловьев. Из воспоминаний).
СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович

13(25).10.1885 – 2.3.1942
Поэт, литературный критик, переводчик, мемуарист. Публикации в журналах «Весы», «Золотое руно», «Вопросы жизни», в сборниках «Свободная совесть». Поэтические книги «Цветы и ладан. Первая книга стихов» (М., 1907), «Crurifragium. Поэмы и сказки» (М., 1908), «Апрель. Вторая книга стихов» (М., 1910), «Цветник царевны. Третья книга стихов (1909–1912)» (М., 1913), «Италия. Поэма» (М., 1914), «К войне с Германией. Поэма» (М., 1914), «Возвращение в дом отчий. Четвертая книга стихов. 1913–1915» (М., 1915). Повесть «История Исминия» (1910). Книги «Богословские и критические очерки» (М., 1916), «Гете и христианство» (Сергиев Посад, 1917), «Вопрос о соединении церквей в связи с падением русского самодержавия» (М., 1917), «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева» (1923, изд.: Брюссель, 1977). Переводы сочинений Вергилия, Эсхила, Сенеки, Шекспира, Мицкевича и др. В конце 1915 рукоположен в диаконы, в начале 1920-х перешел в католичество (епископ, с 1926 – вице-экзарх католиков греко-российского обряда). Племянник философа В. Соловьева. Друг Андрея Белого и А. Блока. Прототип Дарьяльского в повести Андрея Белого «Серебряный голубь».
«Маленького Сережу я видел в церкви; ему было тогда лишь девять лет; он поражал надменством, стоя на клиросе с дьячками и озирая прихожан.
„Такой малыш, а кичится“, – так думалось мне.
Бедный „Сережа“, неповинный в напраслине: впечатление – от необычного вида; светло-желтое пальто с пелериной, а бледное личико в шапке пышнейших светло-пепельных волос было ангеловидное; что-то не детское: задумчивость нечеловеческих просто глаз, казавшихся огромными, сине-серыми, с синевой под ними; вид отлетающий от земли („не жилец на земле“!); нет детскости, но и нет старообразия: грустно-задумчивая безлетность, – она-то и показалась мне „чванством“; еще показалось: сумел забраться на клирос, куда не пускают, бегает с раздутым кадилом за иконостас; и, выходя оттуда – оглядывает: знай-де наших!» (Андрей Белый. На рубеже двух столетий).
«У Сергея Михайловича были огромные прекрасные серо-синие глаза, очень похожие на глаза его деда, знаменитого историка С. М. Соловьева, и дяди Вл. Соловьева. Лицо его было вообще очень красивым, но ростом он был невысок, несколько сутуловат, и на всем его облике лежал отпечаток какой-то скованности и тяжести, точно что-то над ним тяготело. Я никогда не могла себя почувствовать легко и просто с ним» (М. Морозова. Андрей Белый).
«Страшное наследство легло на крутые плечи Сергея Соловьева. Дед – знаменитый историк; из дядей один – популярный романист, другой – известный философ; тетка – поэтесса; отец – образованнейший мыслитель; мать – художница; бабушка – беллетристка. Подобное наследство не может не обязывать. Но вместе с культурным богатством двух поколений Соловьеву пришлось принять также наследие психопатологическое. Черная туча помешательства медленно двигалась и росла. В двадцать лет имеет он вид тридцатилетнего; усы пробились у него на тринадцатом году; приземистый, тучный, краснощекий, с раскатистым звонким смехом, с блестящими глазами, Соловьев казался юношей цветущего здоровья; аппетитом обладал он неимоверным.
И все это было обманчиво и непрочно, как культ Эллады и Рима, как поклонение Пушкину, как деревенская идиллия с рыбной ловлей и любовью к прекрасной поселянке – все, в чем искал исцеления несчастный поэт. Ничто не помогло» (Б. Садовской. «Весы». Воспоминания сотрудника. 1908–1909).
«Он особенно увлекался „чистой поэзией“, культом красоты, в первую очередь античной или антикизирующей по содержанию и по форме, но одновременно и христианскими темами. Особенным предметом его увлечений были некоторые полузабытые французские лирики XVIII века антично-антологического содержания. Так, он восторженно нараспев читал какую-то старинную элегию на смерть Юноши-пастуха (Адониса). …Он читал и свои новые произведения вслух, тоже полунараспев, речитативом, между прочим одно, написанное дантовскими терцинами, где изображалось смиренное русское сельское благочестие: погост с крестами, деревенская церковь, тонкие облака ладана в лучах вечернего солнца. Стихотворение было сильно и звучно написано, отточенным языком. Оно вошло потом в сборник „Цветы и ладан“, в котором, между прочим, воспевалась античным размером („Алкеевой строфой“) и „Нимфа Айсидора“ (Айседора Дункан). Другой сборник, главным образом сказок, носил вычурное название „Crurifragium“, которое я никак сначала не мог понять. Потом с помощью словаря я выяснил, что это означало „Перебитие голеней“. Впоследствии Сергей Соловьев всецело обратился к религиозным интересам. Он окончил после университета Московскую духовную академию, был православным священником, перешел в католичество, потом, кажется, опять вернулся в православие и, как я слыхал, умер в большевистской тюрьме как исповедник христианства.
Это был несколько неуравновешенный (ибо очень несчастный в личной жизни: в один и тот же день он 16-летним юношей потерял и отца, и мать, причем мать лишила себя жизни, чтобы не пережить мужа), но несомненно одаренный и благородный человек» (Н. Арсеньев. О московских религиозно-философских и литературных кружках и собраниях начала ХХ века).
«Он был причисляем к лучшим нашим пушкинианцам, прекрасная ясность стала действительным достоинством его поэзии, ревность по строгой форме всегда была ему присуща» (С. Дурылин. Луг и цветник).