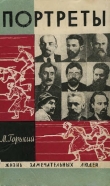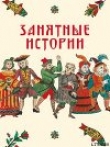Текст книги "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я"
Автор книги: Павел Фокин
Соавторы: Светлана Князева
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
ТАРТАКОВ Иоаким Викторович
1860 – 23.1.1923
Российский певец (баритон), режиссер. Солист (с 1882, с перерывами) и главный режиссер (с 1909) Мариинского театра. Профессор Петроградской консерватории (с 1920). Роли: Онегин («Евгений Онегин» Чайковского), Риголетто («Риголетто» Верди), Яго («Отелло» Верди); исполнитель романсов П. Чайковского.
«Молодого Тартакова я не слышал. Узнал я его, когда ему было лет под пятьдесят. От красавца, в юности похожего на Антона Рубинштейна, к этому времени осталось уже очень мало: красивая копна волос на красиво посаженной голове и общая элегантность фигуры.
…Голос у него был довольно большой, матовый, глуховатый, сверху донизу как бы очень плотно прикрытый, благородного тембра; певучий, гибкий, прекрасно обработанный, идущий откуда-то из глубины его небольшой, но очень складной, изящной и в то же время солидной фигуры. Голос, овеянный раз навсегда как бы растворенной в самой его звуковой массе благородной грустью.
Эта грусть была как бы второй натурой его пения. Именно поэтому он так трогал в роли несчастного отца – Риголетто; именно поэтому так бесконечно искренне звучали в его исполнении лирические романсы – в первую очередь шедевры Чайковского. И именно поэтому в его исполнении ролей Фигаро или Тореадора, невзирая на высокий класс этого исполнения, многие интонации наводили слушателя на такую мысль: встряхнулся бы он, Тартаков-то, сбросил бы с себя печать грусти…
Грустил он в пении с избытком, веселился же с ущербом.
…Как вокалист не уступая Касторскому, Тартаков в чисто актерском смысле превосходил его. Но все же его актерское дарование не соответствовало его певческому таланту. В частности, у него была слабая мимика. Подлинная его сила была в вокальном мастерстве, в его умении „пе-еть, пе-еть“…
Года за два или за три до начала первой мировой войны голос Тартакова стал сдавать, а затем, ко времени революции, был уже в значительном упадке. Продовольственные затруднения, отсутствие транспорта и прочие неудобства, вызванные гражданской войной, во многом пошли Тартакову на пользу. Он избавился от излишней полноты. У него улучшился обмен веществ, облегчилось дыхание, и его голос стал звучать все лучше и лучше.
Незадолго до кончины его, когда ему было за шестьдесят, мы встретились с ним в одном из концертов для моряков. В этом последнем нашем совместном выступлении я поражался, как полнозвучно, сочно и мягко-певуче звучал голос незабвенного Иоакима Викторовича. Конечно, он брал дыхание несколько чаще прежнего и изредка прорывались какие-то два или три усталых звука, но, право же, с таким звуком можно было начинать певческую деятельность и быть уверенным в успехе» (С. Левик. Записки оперного певца).
ТАСТЕВЕН Генрих Эдмундович

псевд. Эмпирик;
1880–1915
Литературный критик, секретарь редакции журнала «Золотое руно» (1907–1909). Книга «Футуризм (На пути к новому символизму)» (М., 1914).
«Будучи еще мальчиком, Тастевен обращал на себя внимание своей задумчивостью и рассеянностью. Эти черты остались в его характере до конца дней. Ему была присуща еще одна особенность – это какая-то необычная для эпохи старомодная вежливость. С дамами он разговаривал, как маркиз. …Тастевен был инициатором общества „Les Grandes Conferenses“, членами коего состояли Верхарн, Поль Фор, Мерсеро и мн. др. Но как ни значительна культурная деятельность Тастевена, как ни интересны его мысли и суждения… все это невольно забываешь, когда думаешь о нем. В его личности было что-то более важное, чем его литературные опыты и публичные лекции… Для многих он был лишь дилетантом, обладавшим немалыми знаниями в области живописи, поэзии и философии. Но в Тастевене был не только дилетантизм: в нем была душевная чистота и высота и была какая-то напряженная и бескорыстная жажда истины. И эти качества сочетались у него со скромностью и какою-то нежностью в отношении к людям» (Г. Чулков. Годы странствий).
ТАТЛИН Владимир Евграфович

16(28).12.1885 – 31.5.1953
Живописец, график, художник-конструктор, книжный иллюстратор, дизайнер, сценограф. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1902–1903 и 1909–1910) у В. Серова и К. Коровина и в Пензенском художественном училище (1904–1909). Участвовал в выставках объединений «Мир искусства» и «Союз молодежи», а также в выставках «Бубновый валет», «Ослиный хвост». В 1912 устроил в Москве свою собственную мастерскую-школу. Побывал в Германии и Франции (1914), посетил студию П. Пикассо в Париже. Автор модели памятника III Интернационалу (1919–1920).
«Владимир Евграфович Татлин, конечно, явление особенное. Ни на кого не похож ни внешне, ни внутренне. Излучает талант во всем, за что бы ни брался.
Внешность его далека от красоты. Очень высокий, худой. Узкое длинное лицо с нечистой, никакого цвета кожей. Все на лице некрасиво: маленькие глазки под белесыми ресницами, над ними невыразительные обесцвеченные брови – издали будто их нет, нос большой – трудно описать его бесформенность, бесцветные губы и волосы, которые падают прямыми прядями на лоб, похож на альбиноса. Движения нарочито неуклюжие, как бывает у борцов, а на самом деле он ловок и легок в движениях.
На нем морская полосатая тельняшка, пиджак и штаны разных тканей – все широкое и дает возможность для любых движений. Отбывал воинскую повинность на флоте – привык к открытой шее. Руки большие, не холеные, ловкие и всегда очень чистые. Говорит баритональным басом, как-то вразвалку, с ленцой, задушевно-проникновенно поет, аккомпанируя себе на бандуре, которую сам сделал.
Первые же его слова – они всегда неожиданны, заинтересовывают и приковывают внимание, и уши развесишь. Он понимает это и „нажимает“, и вы уже в его власти (если он заинтересован в этом), он вам уже нравится, и вы понимаете, что это совершенно особый человек. Я думала: влюбиться в него нельзя, но также и не полюбить его по-товарищески – невозможно» (Вал. Ходасевич. Портреты словами).
«Когда он приехал, многие из тех, которые только изредка бывали в квартире № 5, теперь приходили „посмотреть на Татлина“. Он, действительно, привез с собой новые вкусы, новое понимание искусства, стихийную волю к творчеству, неукротимую веру в будущее „конструктивизма“; это был человек революционной воли, не способный ни на какие компромиссы, участник „первых московских боев“. Из Парижа, куда он ездил, как рассказывали тогда, с бандурой, зарабатывая себе проезд песнями слепцов-бандуристов, – он вывез „последнюю стадию кубизма“ – пространственную живопись. Татлин был одним из немногих русских художников, глубоко зачерпнувших кубизм. Одаренность его, очевидно, превосходила одаренность почти всех его современников. Он обладал совершенно особенным, чистым, проработанным вкусом. Я уверен, что и сейчас с его чувством качества никто не в состоянии соперничать. В то время каждая его оценка, каждая выраженная им мысль об искусстве была для нас пробоиной в новую культуру, в будущее. Нам оставалось только слушать его, приспособляя свои индивидуальности к этой огромной машине, дышавшей энергией и взрывавшей вековые пласты живописной культуры, чтобы положить их по-новому. „Пусть Млечный путь расколется на Млечный путь изобретателей и Млечный путь приобретателей“, – эти слова Хлебникова хорошо изображают нашу встречу с Татлиным в шестнадцатом году. По одну сторону был он, по другую – все мы. Мы приобретали у него все; каждая наша новая мысль, казавшаяся нам независимой, была, в конце концов, либо осколком, либо раздробленным отражением какой-нибудь его мысли. Подражали не только его работам, но, как всегда бывает при встречах с действительно большими людьми, его манере говорить, его движениям; ходили так же, как он, так же клали руку. Впрочем, трудно было поступать иначе. В Татлине не только была творческая сила, под давлением которой почти невозможно пружинить, но и во всем, что являлось проводником этой силы, во внешности его был особый подбор качеств, который, обычно, определяют словом „обаяние“. У каждой эпохи есть свой тип „arbitri elegantiarum“ [лат. законодателя моды. – Сост.]; в эпоху индустриального кубизма этот термин применим к Татлину. Это человек с пробой стиля, человек прекрасно организованной формы, прекрасно сделанный из одного куска.
Влияние на нас Татлина в шестнадцатом году было – говорю – неограниченно, оно продолжалось и в последующие годы» (Н. Пунин. Квартира № 5).
«Внешность его была своеобразна. Высокий, некрасивый, очень характерный, белесые волосы лежали на затылке как-то прядями. Он напоминал пеликана. Глаза смотрели доверчиво, благожелательно и спокойно, как у человека, на сердце которого все спокойно!
Я всегда вспоминал этот добрый взгляд, единственный взгляд у „новатора“, глаза которых всегда излучают подозрительность и „тайное недоброжелательство“, как сказал Пушкин, упоминая о новейших игральных картах! Да! Новейшая игра меньше всего требует спокойствия и доброты!
…Симпатична была простота Татлина и внутренняя, и внешняя. Никакой позы, никакого подпрыгивания и подыгрывания. А этим отличались все „новые“ люди. Все немного были в „ролях спектакля“, любительского, конечно!
…Татлин иногда брал бандуру и под ее аккомпанемент пел протяжные, полные тяжести и горя каторжные песни!
Придет цырульник с острой бритвой,
Заброооит он мне висок…
Все слова не помню, но эти запомнились…
Пел Владимир Евграфович прекрасно, изумительно, проникновенно, с полным перевоплощением в этого горевого человека, которого заковывают в кандалы…
Песни какие-то старинные, эпохи Николая I. Как же он их проникновенно пел… Он мог бы, конечно, быть знаменитостью в этой области. Футуризм, „новаторство“, предполагающие определенный отскок от жизни, от истории и от быта, никак не вязались ни с бандурой, ни с этими песнями!
Но он влюблял в себя этими песнями… Я был настоящим его поклонником, его песенного дара!» (В. Милашевский. Тогда, в Петербурге, в Петрограде).
«Это подлинный русский талант-самородок. Но с ним случилась та же беда, которая случается со многими талантами-самородками. Дело в том, что ему не хватало общего образования и художественной культуры; а так как он убедился, что у него талант, то он всю жизнь надежду возлагал на него и считал, что не от культуры он должен кое-что почерпнуть, а что сама культура должна исходить от него. По этой же причине он был весьма тщеславен, не входил в художественные группировки, очевидно считая себя выше всех, – и просил не называть его товарищем» (И. Клюн. Мой путь в искусстве).
ТАУБЕ (урожд. Аничкова) Софья Ивановна
баронесса;
1888–1957
Поэтесса, издательница, хозяйка литературного салона. Издательница и редактор журнала «Весь мир». Стихотворный сборник «Три пути» (СПб., 1908). Книга воспоминаний «Загадка Ленина» (Прага, 1925).
«За Калинкиным мостом, очень далеко, жила баронесса Т[аубе]. Она писала стихи и печатала их под псевдонимом в собственном журнале.
Когда ночью загулявшей компании не хотелось расходиться, а ехать было некуда, кто-нибудь предлагал: поедем к баронессе.
Вопрос был только в извозчиках – повезут ли в такую даль? Гостям в доме за Калинкиным мостом были всегда рады. Заспанная горничная не удивлялась, впускала ночных визитеров. Через четверть часа в пышном пеньюаре выплывала густо нарумяненная, тоже заспанная, но улыбающаяся хозяйка. „Ах, как мило, что заехали… Раб (голос ее становился повелительно-суровым), раб, – кричала она куда-то в пространство, – собери закусить“.
Еще через четверть часа „раб“ – муж баронессы, морской офицер, распахивал двери столовой: „Пожалуйте, господа“.
В столовой, просторной и хорошо обставленной, в углу стоял человеческий скелет. В костлявых пальцах – гирлянда электрических цветов. В глазных впадинах – по красной лампочке.
Закуска, сервированная „рабом“, не отличалась роскошью, зато вина и водки подавалось „сколько выпьют“. Баронесса показывала гостям пример. Муж больше курил и молчал. О нем вспоминали, только когда слышался окрик: „Раб – еще мадеры! Раб – принеси носовой платок!“ Он исполнял приказания и стушевывался до нового окрика.
– Баронесса, расскажите историю вашего скелета.
– Ах, это такой ужас. Он был в меня влюблен. Имя? Его звали Иван. Он был смуглый, красивый… Носил мне цветы, подстерегал на улице. На все его мольбы я отвечала – нет, нет, нет. Однажды он пришел ко мне страшно бледный. – „Баронесса, я пришел за вашим последним словом“. Я смерила его взглядом: „Вы его знаете – нет“.
Он уехал в свое имение (он был страшно богат) и стал учиться стрелять. Учился целый год, но, представьте, выстрелил так неудачно, что мучился сутки, пока не умер. Ужас! Свой скелет он завещал мне.
Баронесса подносила к глазам платок:
– Иван, Иван, зачем ты это сделал!
– И вы не ушли после этого в монастырь?
– Я сделала больше – я написала стихи. Они выгравированы на его могильной плите.
В широком (слишком широком для мужского скелета) тазу „Ивана“ видна аккуратно просверленная дырка – след рокового выстрела. Скелет маленький, желтый, он дрожит, когда его трогают, и трясет своей электрической гирляндой.
– Прежде он стоял в моей спальне, – томно прибавляет баронесса, – но пришлось вынести – несколько раз он обрывал свою проволоку и падал ко мне на кровать» (Г. Иванов. Петербургские зимы).
«Существовал тогда и совсем грошовый еженедельник в бледно-кирпичной обложке с изображением земного шара, обвитого, как змеей, какой-то символической лентой. Назывался он гордо – „Весь мир“ и составлял любимое чтение швейцаров, трактирных завсегдатаев, мелких канцеляристов. Там печатались коротенькие рассказы с незамысловатой психологией и упрощенным сюжетом. В изобилии были представлены фотографии на злобу дня, щедро и без излишней щепетильности настриженные ножницами из русских и иностранных источников. Редакция то и дело судилась по обвинению в плагиатах, и всегда она умудрялась выходить сухой из воды. С цензурой и полицией у этого журнальчика существовали самые добрососедские отношения, и поэтому все мы – литераторы малого ранга – чувствовали себя здесь вольготно и ничуть не смущались бульварным налетом и явной безыдейностью такого пятикопеечного „ревю“.
Издавала его некая София Ивановна Таубе, очень плохая и высокопарная поэтесса, женщина, как говорили, с некоторыми средствами. У нее была склонность к непризнанной литературной мелкоте. Она была „меценатом“, но в особом смысле этого слова. Трудно было понять, где кончается в ней любитель отечественной литературы и где начинается предприимчивый и часто весьма жесткий делец. Собственные стихи писала она на мистические отвлеченные темы с обязательным участием Хаоса, Бездны, Зла, Красоты – и все это с прописных букв, разумеется. Особой любовью пользовалась у нее тема изгнания Адама и Евы из рая, причем самые яркие краски отдавала поэтесса рассказу о грехопадении и познании добра и зла, что позволяло ей разматывать, как китайский фокусник, бесконечную ленту цветистого, ходульного, всегда переполненного эротическими намеками красноречия. Дама эта была, что называется, в полном соку и плотной комплекцией своей напоминала только что выдернутую из земли и свежевымытую репку. От нее так и веяло здоровьем и благополучием. Голос чрезвычайно вкрадчивый, обхождение самое бархатное. Но, повторяю, выгоду свою блюла София Ивановна крепко, и даром аванса у нее никогда, бывало, не допросишься.
В материале ее журнальчик недостатка не испытывал, и, что всего удивительнее, получала этот материал София Ивановна почти всегда даром. Она, впрочем, не претендовала на произведения хорошего качества, а хозяйственно подбирала все варианты, черновики, случайные заготовки каких-нибудь рукописей и опытной редакторской рукой придавала им вполне пристойный литературный вид. Добрая часть этой добычи поступала в виде дружеского подарка или одолжения. И, словно чувствуя себя чем-то обязанной перед своими беспечными и нерасчетливыми авторами, София Ивановна примерно раз в месяц устраивала у себя в квартире пиршество, не очень изысканное и богатое, но такое, чтобы привести всех присутствующих в самое благодушное настроение, когда налево и направо раздаются щедрые обещания и не так уж трудно получить для журнала свежие стихи или только что написанный рассказик. Так приятное соединялось у нее с полезным. И через неделю, к удивлению всех почтенных редакций города, на жалких страничках „Всего мира“ появлялись тексты самых труднодоступных, знающих себе цену корифеев тогдашней литературы, правда, только в отрывках, с осторожным редакционным примечанием: „Из новой повести такого-то“. Очевидно, при таком ведении дела редакция отнюдь не терпела убытков, и ежемесячные пиршества, предлагаемые сотрудникам, прочно вошли в обычай. Чувствовали все себя у Таубе просто и посещали ее охотно, заходя как бы невзначай, ибо хвастать знакомством с баронессой в более почтенных литературных кругах считалось не особенно приличным: журнальчик был плоховат, а его хозяйка отличалась многими странностями, и к тому же излишней свободой обращения. Называла она себя „женщиной вполне эмансипированной“ и в особое достоинство ставила себе то, что умела с самой очаровательной улыбкой называть вещи своими именами, охотно придерживаясь таких тем в разговоре, которые обычно именуются „скользкими“.
Любопытно, что она на своих сборищах совершенно не терпела женщин и, распространяя вокруг себя атмосферу самого рискованного кокетства, любила оставаться в пестрой мужской компании единственным центром общих восторгов и внимания. Муж ее, скромный, рыжеватый остзейский барон в морском сюртучке весьма невысокого ранга, был человеком любезным и совершенно незаметным. Но и он, видимо, находил немалое удовольствие в этих полуночных сборищах и чрезвычайно гордился своим знакомством с разными „знаменитостями“. Во всяком случае, он был счастлив, не в меру любезен и даже угодлив. На нем, в сущности, лежала вся хозяйственная часть этих пиршеств. И хотя жили супруги довольно скромно, в маленькой квартирке, всегда выходило так, что было у них и шумно, и весело, и бестолково – без всяких притязаний на высокие разговоры или какие-нибудь идейные диспуты.
…В прежние времена возле рояля красовался серебряный гроб на львиных ножках, кокетливо обитый внутри светло-розовой шелковой тканью. Пуховая подушка лежала в его изголовье. Здесь в лунные ночи под своими пальмами ложилась отдыхать сама поэтесса, настраивая себя на мистический астральный лад, и при свете какой-то арабской лампады исписывала узкие полоски цветной бумаги причудливыми и бесконечными рифмами. Днем это непонятное для „простых смертных“ ложе заботливо прикрывалось вышитой восточной тканью и принимало тогда вид обыкновенной кушетки.
…Белые обои комнаты были испещрены шуточными стихотворными и прозаическими посвящениями хозяйке. Вот здесь действительно обнаружилось много любопытного, если не по качеству и содержанию, то по разнообразию литературных имен, писавших эти краткие, то восторженные, то иронические мадригалы. Тут я наглядно убедился, что круг литературных знакомств чудаковатой Софии Ивановны был необычайно широк. И мелкая литературная братия, и богема дореволюционных времен, и даже самые солидные имена, оказывается, бывали здесь. Не отыскал я одного Блока и, признаться, обрадовался своей неудаче. Что бы стал он делать в подобной компании?» (Вс. Рождественский. Страницы жизни).
ТЕЛЕШОВ Николай Дмитриевич

29.10(10.11).1867 – 14.3.1957
Прозаик, мемуарист. Организатор литературного кружка «Среда» (с 1899). Один из организаторов «Книгоиздательства писателей» в Москве (1912). Сборники рассказов, очерков и повестей «На тройках: Очерки и рассказы» (М., 1895), «За Урал. Из скитаний по Западной Сибири. Очерки» (М., 1897), «Повести и рассказы» (М., 1899), «Рассказы» (т. 1–2, СПб., 1903–1908), «Рассказы и сказки для юных читателей» (СПб., 1911), «Рассказы» (т. 1–4, М., 1915–1918) и др.
«Телешов принадлежал к небольшой группе тех второстепенных писателей, которые имели мужество идти против течения, литературные побрякушки их не прельщали. Они не устремлялись к дешевым лаврам литературного кликушества, не гаерствовали перед толпой, а выдерживали скромно и серьезно строгие линии художественного реализма. И по этой-то причине читатель заметил и оценил их произведения. Ведь сенсации скоро приедаются. Пряности порождают пресыщение, и простая, но здоровая пища вдруг начинает казаться милее кулинарных кунштюков. Тот же закон действует и в области духовного питания. И скромные, непритязательные, но обвеянные трепетом поэзии повести Телешова нашли благодарного читателя, их приветствовали, как приветствуют струйку чистого, свежего воздуха, когда он вдруг ворвется в распаренную атмосферу какого-нибудь притона.
Телешов и не думал претендовать на какую-либо „роль“ в литературе. Этот скромный и совестливый писатель не чувствовал влечения к „роли“ и к позе, но как-то само собой вышло так, что в начале XX столетия гостеприимный дом Телешовых в Москве на Покровском бульваре сделался любимым местом собрания писателей, брезгливо сторонившихся от попыток превращения литературы в масленичный балаган» (А. Кизеветтер. На рубеже двух столетий).

Николай Телешов
«Самый облик Николая Дмитриевича Телешова говорил о благородстве его писательской жизни. Телешов был весь, целиком, в традициях русской передовой литературы, и притом самых лучших ее образцов. Это означало прежде всего глубокую любовь и преданность трудному делу писателя и уважение к Слову.
…Личность Телешова была столь же собирательной, сколь и его радушный писательский дом, в котором родилась прославленная литературная „Среда“, колыбель не одного таланта.
Незлобивость, которая некоторым кажется слабостью, может быть и родной сестрой самой высокой принципиальности. Так оно было и с Телешовым. Он был человеком кротким, располагавшим к себе решительно всех, и вместе с тем до непримиримости принципиальным, когда дело касалось литературы.
…Обращаясь к общественной деятельности Телешова, поражаешься его неутомимости: он участвовал почти в любом начинании, когда дело касалось помощи литератору или печатникам, и участвовал широко, не пропустив ни одного случая послужить делу литературы. Письма писателей к нему всегда любовны, как любовны и надписи на фотографиях, которые дарили „Митричу“, скромному и глубоко душевному человеку. Душевность – это тоже составная часть тех качеств, без которых не может быть полон и внутренне закончен образ писателя» (В. Лидин. Люди и встречи).