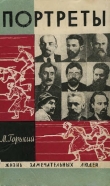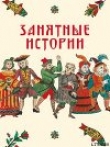Текст книги "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я"
Автор книги: Павел Фокин
Соавторы: Светлана Князева
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
СТЕПУН (Степпун) Федор Августович
19.2(2.3).1884 – 23.2.1965
Философ. Издатель философского журнала «Логос» (1910–1914). Сотрудник журнала «Труды и дни», издательства «Мусагет». Сочинения «Жизнь и творчество» (Берлин, 1923), «Основные проблемы театра» (Берлин, 1923) и др. C 1922 – за границей.
«Степун появился у нас франтоватый и полный, такой самодушный с актерским, немного насмешливым бритым лицом и с зачесанными волосами, помахивая, точно веткой сиреневой, мистикой, но полагая границу меж нею и логикой… сошелся с Э. К. [Метнером] и с редакцией; он исходил самосевами слов, говорил очень смачно, легко и красиво, вставая со стула, закидывая характерным кокетством логический лоб, говоря своим видом: – Да, да: несмотря на логический лоб, – понимаю романтику, ветку сирени, люблю рудотворные силы природы; не удивляюсь чудачествам Эллиса; не удивляюсь в Москве ничему: это – ценности состоянья; мы ценностями положенья все быстро оформим! Он очень нам нравился…» (Андрей Белый. Начало века).
СТОЛИЦА (урожд. Ершова) Любовь Никитична
29(?).6.1884 – 12.2.1934
Поэтесса, хозяйка литературного салона «Золотая гроздь» в Москве. Публикации в журналах «Современный мир», «Современник», «Нива», «Новое вино». Стихотворные сборники «Раиня» (М., 1908), «Лада» (М., 1912), «Русь» (М., 1915), «Голос незримого. Поэмы» (София, 1934); роман в стихах «Елена Деева» (М., 1916). Ряд стихов был положен на музыку А. Гречаниновым и Р. Глиэром. С 1920 – за границей.
«Смелы, сильны и закончены стихи Любови Столицы, но в них есть какое-то сюсюкающее сладострастие, производящее неприятное впечатление» (Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. 1911).
Любовь Столица, Любовь Столица,
О ком я думал, о ком гадал.
Она как демон, она как львица.
Но лик невинен и зорько ал.
(С. Есенин)
«В Москве, вернее, под Москвой сохранялся еще перед революцией пережиток старых лет – ямщицкое сословие. Было оно немногочисленно, но довольно строго держало свой особый уклад в жизни, уже сильно ушедшей от прошлого.
Меня познакомила с этим сословием поэтесса Любовь Столица, урожденная Ершова. Сейчас о ней не вспоминают, а прежде ее имя часто встречалось в журналах и газетах. Я не литературный критик и не берусь судить о художественной ценности ее произведений, я просто любила и люблю ее легкий, глубоко русский стих. Почему-то ни у кого я не чувствую такого яркого, сочного описания Москвы, как у Любови Столицы:
Вот она пестра, богата,
Как игрушки берендейки.
Русаки и азиаты,
Картузы и тюбетейки,
И роскошные франтихи,
И скупые староверки,
И повсюду церкви, церкви
Ярки, белы, звонки, тихи.
Помню вечера „Золотой грозди“, которые она устраивала: приглашения на них она посылала на белой карточке с золотой виноградной кистью сбоку. В уютной квартире выступали поэты, прозаики со своими произведениями, в числе их и хозяйка. В платье наподобие сарафана, на плечи накинут цветной платок, круглолицая, румяная, с широкой улыбкой на красивом лице. Говорила она свои стихи чуть нараспев, чудесным московским говором. Под конец вечера обычно брат хозяйки пел ямщицкие песни, аккомпанируя себе на гитаре. И над всем этим царил дух широкого русского хлебосольства. Не богатства, не роскоши, а именно хлебосольства» (Л. Рындина. Ушедшее).
«Поэтесса Любовь Никитична Столица не забыла своего намерения видеть меня у себя. Вскоре после вечера поэтесс я получила среднего формата плотный конверт с литой, розового сургуча, печатью. Внутри, на сложенном вдвое листе слоновой бумаги, нарисованный тушью и золотом медальон с изображением бегущей богини Дианы. Под ним двустишие гекзаметром:
Ах, одного Андромеда Диана, купаясь, пленила.
Если б была это ты – право, сбежались бы сто.
И приглашение на очередное собрание „Золотой грозди“ в квартиру Столицы на Мясницкой.
В передней встретил брат поэтессы Алексей Никитич Ершов в венке из виноградных лоз на голове, с позолоченной чарой вина, которая подносилась каждому приходящему. Томительное ожидание трезвыми гостями выпивки за ужином, таким образом, отпадало: все сразу впадали в приятное оживление, воспринимали происходящее через золотую завесу головокружения. Любовь Никитична – хмельная и ярко дерзкая, с знакомым мне вакхическим выражением крупного лица, с орлиным властным носом, серыми, пристальными, распутными глазами, в круглом декольте с приколотой красной розой и античной перевязью на голове, с точки зрения комильфотной элегантности выглядела и держалась претенциозно, вульгарно и крикливо. Говоря о ней, дамы всегда вспоминали ямщицкое происхождение Ершовых, дед которых держал постоялый двор.
На „Золотой грозди“ собирались те, кто мог любить искусство, опьяняться чувственными минутами наслаждения, не заглядывая глубоко в настоящее, не предвидя будущего или, как я, махнув на все рукой.

„Я люблю, чтобы кругом меня дышали атмосферой любви, беспечных схождений, беспечальных разлук“, – декламировала Любовь Никитична, сама покровительствуя легкому ухаживанию своего мужа, красивого, смуглого брюнета инженера, за внезапно выдвинутой режиссером Туркиным новой кинозвездой Верой Холодной. Младший брат мужа, с лицом молодого Вакха, глубоко и постоянно влюбленный в невестку, был основным вдохновителем ее „песенного дара“. Они составляли крепко спаянный треугольник: муж, жена и любовник.
…Длинные столы с деревянными, выточенными в псевдорусском кустарном стиле спинками широких скамей, убранство столов с такими же чарками и солонками подчеркивало мнимую национально-народную основу творчества хозяйки.
Большая чарка, обходя весь стол, сопровождалась застольной песней:
Наша чарочка по столику похаживает,
Золотая по дубовому погуливает,
Зелье сладкое в глубокой чаше той,
Это зелье силы вещей, не простой:
Всяк, кто к чарочке заветной ни притронется,
От любви огневой не ухоронится.
Эх, испейте свое счастье с ней до дна,
Молодые и румяные уста.
На каждом приборе лежали приветственные стихи, соответствующие какой-нибудь характерной черте присутствующего гостя. Вели себя все, начиная с хозяйки, произносящей по общей просьбе разные стихотворные тосты, кончая идиотом прапорщиком, приехавшим с фронта мужем Веры Холодной, с ура-патриотическими речами, – весело, непринужденно, разговорчиво. …После ужина все, в лоск пьяные, шли водить русский хоровод с поцелуями, с пеньем хором гимна „Золотой грозди“.
Любовь Никитична, неистово кружась в сонме развевающихся пышных юбок и распустившихся волос, казалось, была готова отдаться, в буйном припадке страсти, всем присутствующим мужчинам» (Н. Серпинская. Флирт с жизнью).
СТОЛПНЕР Борис Григорьевич
1871–1937
Писатель, переводчик, философ. Сотрудник «Еврейской энциклопедии». Член совета Религиозно-философского общества в Петербурге.
«Столпнер, вертлявый, маленький, лысенький, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлялось, что может желудок его варить пищу действительности» (Андрей Белый. Начало века).
«Столпнер, один из самых умных людей в России, писать же он не умеет, умеет говорить» (В. Шкловский. Сентиментальное путешествие).
«Бедный, почти нищий, он какой-то Белинский без слов, без милых „Литературных мечтаний“. Он вполне еврей и только еврей. Он не примазывается к русской образованности, он „помнит отца и мать“: иногда я его мысленно сравнивал с „отцами Талмуда“, великими Гаонами. По молитвослову в Вильне он выучился по-русски, зачитывался Некрасовым, Белинским, и общечеловеческим сочувствием и не мурмольным сочувствием полюбил русских крестьян и русскую книгу, русский журнал. …Это был самый дорогой у меня гость в комнате. Удивительное в нем – глубокая аристократичность крови, аристократичность манер (да! да!), аристократичность всего духа. Мы просиживали ночи, и он мне выдал кое-какие крупицы великих и трогательных еврейских тайн… В знакомство мое с ним мы никогда о политике не разговаривали (неинтересно было), но теперь я думаю, что он погубил свою возможную роль на Руси, прекрасную и трогательную и поучительную роль Сковороды, – записавшись в социал-демократию, после чего перестал быть виден как именно еврей и как свое „я“. Т[ак] к[ак] он моложе меня, то я вижу, естественно, дальше горизонта: „еврейский вопрос в России“ разрешился Столпнером, ибо он был нужен и полезен и благ всякому русскому и целой России тем, что нес ей себя и знал и научал общим и спасительным тайнам, спасительным для всякого „я“, которые, конечно, содержатся у древнего народа, видевшего построение пирамид» (В. Розанов. Письмо М. Гершензону. Январь 1913).
СТРАВИНСКИЙ Игорь Федорович
5(17).6.1882 – 6.4.1971
Композитор, дирижер. Ученик Н. Римского-Корсакова. Основные произведения: симфонии; фантазия «Фейерверк» (1908); кантаты «Фавн и Пастушка» (1906), «Звездоликий» (на стихи Бальмонта, 1912); оперы «Соловей» (по сказке Андерсена, 1908–1914), «Мавра» (по поэме Пушкина «Домик в Коломне», 1922), «Царь Эдип» (по Софоклу, 1926–1927), «Похождения повесы» (по мотивам картин Хогарта, 1951); балеты «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913), «Пульчинелла» (1920), «Аполлон Мусагет» (1928), «Поцелуй феи» (1928), «Игра в карты» («Покер», 1937), «Орфей» (1948), «Агон» (1957); мелодрамы (балеты с хорами) «Персефона» (по пьесе Жида, 1933) и «Потоп» (1962); хореографическая кантата «Свадебка» (1914); пантомима «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» (1916), симфоническая поэма «Песнь соловья» (1917); сочинения для хора «Pater Noster» (1926), «Credo» (1932), «Canticum sacrum» (1956); месса для смешанного хора и двойного духового квинтета (1948), «Проповеди, притчи и молитвы» (1961); камерная музыка, регтаймы, романсы на стихи Городецкого, Бальмонта, Верлена. Друг С. Дягилева, М. Равеля, Л. Мясина. С 1910 – за границей.
«Я часто вспоминаю пение баб из соседней деревни. Их было много, и они пели в унисон каждый вечер, возвращаясь с работы. И сейчас еще я помню точно этот напев и их манеру петь. Когда дома, подражая им, я напевал эту песню, взрослые хвалили мой слух. Помнится, эти похвалы доставляли мне большое удовольствие.
И – любопытное дело – этот простой эпизод, сам по себе довольно незначительный, имеет для меня особенный смысл, потому что именно с этого момента я почувствовал себя музыкантом» (И. Стравинский. Хроника моей жизни).
«Честь открытия Стравинского принадлежит целиком Сереже [Дягилеву. – Сост.], который, услыхав его „Scherzo“ и „Фейерверк“ в концерте, сразу решил, что это тот человек, который нам нужен. Мне кажется, что и Стравинский, попав в нашу компанию, тоже почувствовал, что это та среда, которая нужна ему. Одной из связующих нитей между нами, кроме музыки, был культ Стравинского к театру, а также его интерес к пластическим художествам. В отличие от других музыкантов, обычно равнодушных ко всему, что не есть их искусство, Стравинский интересовался живописью, архитектурой, скульптурой, и, хоть он не обладал какой-либо подготовкой в этих областях, он все же являлся ценным собеседником для нас, ибо вполне „реагировал на все“, чем мы жили. Ему вообще был тогда присущ известный „шарм ученичества“. Он жаждал „просвещаться“, его тянуло расширить область своих познаний и впечатлений. В музыкальных же вкусах мы были почти во всем заодно: его любимцы – и среди них Чайковский – были нашими любимцами, его антипатии были и нашими. Но самое ценное в нем было отсутствие даже в намеке того доктринерского начала, которое затем (что бы ни говорили его поклонники и адепты) подорвало творческие силы чудесного мастера. В общем, если Стравинский и шокировал нас подчас своей „типично русской“ резкостью и какой-то склонностью к цинизму, то в нем было еще много и той чарующей экспансивности, и того „сентиментального реагирования“, которые являются лучшими источниками вдохновения» (А. Бенуа. Русские балеты в Париже).
СТРАЖЕВ Виктор Иванович
1879–1950
Поэт, прозаик, критик; редактор-издатель московской еженедельной газеты «Литературно-художественная неделя» (1907; осуществлено всего четыре выпуска). Стихотворные сборники «Opuscula» (М., 1904), «О печали светлой» (М., 1907), «Путь голубиный. Лирическая повесть» (М., 1908), «Стихи. 1904–1909 гг.» (М., 1910), «Горсть» (Сухуми, 1923).
«Высокая, легкая фигура с беспомощно сдвинутой всегда чуть-чуть набок головой, в высоких крахмальных воротничках. Круглые, детски-огромные, удивительно серо-зеленые глаза над тонким актерским ртом. Преподаватель любимого нами предмета – Виктор Иванович Стражев. Из всех гимназических учителей в этой с трудом тащимой лямке старших классов самый интересный, загадочный, привлекательный. Все ученицы читали его сборник стихов и прозы „Opuscula“. Декламировали:
Они стояли молча. И плакала она,
И тихо плакал ветер у темного окна,
И улица рыдала огнями фонарей,
И плыли мимо пятна неведомых людей.
И грустно-грустно было у темного окна,
Они стояли молча, и плакала она.
Сидя на первой парте, под экстатически-вдохновенную лекцию о Бодлере, вглядывалась я в мерцающие каким-то фосфорическим морским свечением глаза и неотступно думала об „этой женщине“, стоящей с ним у окна. Какая она? Где? Продолжает ли он быть с ней?» (Н. Серпинская. Флирт с жизнью).
«Худой, бритый, зеленый от кисли, обиженно-томный (до черных кругов под глазами), во веки веков благородный, „наилиберальный“, „наилевейший“ во всех отношениях Ленский, „с душою геттингенской“, им вынутой, видно, из томика стихотворений Коринфского, – Виктор Иванович Стражев, учитель словесности, ставивший В. Ходасевичу, „ученику“, – о, не балл: треугольник (не смей, гимназист, защищать декадентов); и тут же, через несколько лет уже перепрыгнувший через ученика, чтобы в „третьей волне символизма“ обставить всех нас – строчкой, напоминающей Фруга, Сергея Сафонова иль Мазуркевича (были такие поэты)» (Андрей Белый. Начало века).
СТРУВЕ Петр Бернгардович

26.1(7.2).1870 – 26.2.1944
Экономист, публицист, философ. В 1890-е редактировал журналы «легальных марксистов» «Новое слово» и «Начало». В 1896 участвовал в IV конгрессе II Интернационала. После Первого съезда РСДРП в 1898 был привлечен членами ЦК РСДРП к составлению «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии». С 1902 редактировал журнал «Освобождение», с 1903 один из лидеров «Союза освобождения». С 1905 член ЦК партии кадетов, возглавлял ее правое крыло. Был депутатом Второй Государственной думы (1907), редактором журнала «Русская мысль». В 1918–1920 – член «Особого совещания» при генерале А. Деникине, член правительства генерала П. Врангеля. Участник сборников «Вехи» и «Из глубины». Сборники статей «На разные темы» (СПб., 1902), «Сборник статей 1905–1910 гг.» (СПб., 1911). С 1920 – за границей.
«Струве, Петр Бернгардович. Высокий, худой и сильно сутулый; рыжая борода, очки на близоруких глазах, прекрасный лоб. Говорит, если чем заинтересован, страстно, с увлечением, но нужных слов для правильного построения фразы не находит, речь получается путаная, обрывистая; он старается ей помочь, нелепо размахивая длинными руками. В обращении его – то изысканнейшее джентльменство, то совершенно непонятная грубость. Умница первостатейный – это первое и главное от него впечатление. Горький недавно назвал Струве „болтуном“ и писал, что Струве с первого же знакомства произвел на него впечатление болтуна. Это не так – никогда в Струве не было ничего такого, что характеризует болтуна.
…И еще тем производил он сильное впечатление, что чувствовался в нем темперамент прирожденного бойца.
…Струве первым всегда шел против течения под самые сильные и жесткие удары. Так было с его „Критическими заметками“ – первой легальной книгой в защиту марксизма; он принял на себя сокрушающие удары Михайловского, про которого тогда еще нельзя было знать, что это колосс на подгнивших ногах. Первым же Струве пошел против марксизма, когда он восторжествовал по всей линии, и вызвал к себе взрыв негодования прежних своих товарищей» (В. Вересаев. Литературные воспоминания).
«Первое время я просто была ослеплена разнообразием знаний, кипеньем мыслей, которыми Струве был окружен, как алхимик волшебными излучениями. У него была отличная память, в особенности книжная. Он запоминал факты, аргументы, цифры, подробности полемики, мысли, мог цитировать целые страницы. Все это не лежало сырым грузом, а непрерывно переваривалось в его емкой мозговой лаборатории. Напряженная энергия его мысли рассыпала искры, будила, заставляла мозги шевелиться. История, политика, экономика, философия, до известной степени литература – всем этим Струве был пропитан, всем делился с теми, кто готов был его слушать, кто способен был поспевать за быстрым бегом его мыслей. Их нельзя было ни остановить, ни перебить. Можно было иногда, в ответ на вопрос о чем-нибудь, что интересовало не его, а его собеседника, получить отрывистую, но всегда точную справку. Но отвести его собственные мысли на то, о чем думал собеседник, было очень трудно. Струве, как хорошая охотничья собака, сразу возвращался на свой след, бежал за своей дичью.
Марксизм, от которого тогда и он, и Бердяев теоретически уже отказались, наложил свой след на его умственные привычки, на подход к проблемам, на построение фраз, в особенности в разговоре, но отчасти и в писаниях.
…Для Струве не было ничего раз навсегда, никаких незыблемых политических или экономических выводов. Его сила, его редкое интеллектуальное обаяние состояло в том, что в его неугомонном мозгу вдруг разверзались шлюзы, прежние наслоения смывались, на их место из глубины всплывали новые обобщения, если не озарения. Но еще долгий путь предстояло ему пройти, прежде чем он стал либеральным консерватором, как он сам себя под старость называл.
…В мыслях Струве был очень смелый человек. Иногда его смелость переходила в подлинное дерзание. Он не боялся думать вслух, выбрасывать не до конца выношенное, особенно когда был захвачен новой идеей, когда его неутомимый ум искал новой постановки, новых решений. Найдя их или только еще их нащупывая, он, что называется, пер напролом, не боялся ударов ни слева, ни справа. В такие творческие полосы своей умственной жизни Струве становился, выражаясь словами Ницше, дарящей добродетелью. Он будил, толкал, тревожил, сердил, заставлял и других шевелить мозгами, не давал остановиться на застывших формах. Для публициста и мыслителя такое беспокойство мысли было ценным даром» (А. Тыркова-Вильямс. То, чего больше не будет).
«Особенно хорошо знали П. Б. Струве, этого прелестного, умного и талантливого человека, этого… писателя? Профессора? Журналиста? Политика? Ученого? Как его назвать? Он всегда, делая, как будто делал не вполне свое дело, но главное, – и, однако, делал всякое прекрасно. Мы знали его еще в те далекие времена, когда он и М. Туган-Барановский были „первыми русскими марксистами“. Воды много утекло, но по существу П. Б. Струве оставался все тем же: немножко тяжелым, упрямым, рассеянным, глубоким – и необыкновенно, исключительно – прямым. Много он, от марксизма, сделал поворотов, но умел, благодаря прямоте и серьезности, именно поворачивать: он никогда не „вертелся“» (З. Гиппиус. Живые лица).
СТУПИН Алексей Дмитриевич
1846–1915
Книгоиздатель.
«Из всех московских издателей Алексей Дмитриевич Ступин был наибольшим энтузиастом гравюры: на протяжении свыше тридцати пяти лет он применял гравюру в своих изданиях. Даже странно было видеть на книжном рынке в 1910–1916 годах, в эпоху безраздельного господства цинкографии, ступинские издания с гравированными рисунками.
…Меня удивляло, как этот, в сущности почти неграмотный человек, еле-еле научившийся писать, мог выработать тонкий вкус в работе с художниками. Будучи очень требовательным и осторожным, Ступин умело подбирал художников и привязывался к тем из них, в чью добросовестность верил. Так было у него с М. В. Нестеровым, да так и с остальными.
…Во время наших деловых бесед Ступин не раз делился впечатлениями о начале своей книгоиздательской деятельности. Придя в Москву мальчишкой из Серпухова, он работал в книжной лавке у Шарапова. Но скромная роль приказчика его не удовлетворяла: он мечтал о собственном деле, и непременно с иллюстрированными книжками.
Будучи исполнительным работником, Ступин попросил однажды у своего хозяина разрешения выпустить книжонку, которая тогда страшно занимала его воображение. Он обожал танцы, хотя сам и не танцевал; иллюстрированный самоучитель танцев, по его мнению, должен был сыграть соответствующую воспитательную роль.
Так появилось первое издание Ступина, выдержавшее в короткий срок несколько тиражей. Тогда он попросил хозяина разрешить ему открыть самостоятельное издательство.
– Я задумал издавать изящную детскую книгу, – сказал Ступин Шарапову. – И я должен осуществить это свое желание.
– Иди, у тебя своя дорога, – ответил Шарапов.
Сняв маленькую лавку в доме Ремесленной управы размером в три аршина по длине и в полтора по ширине, Ступин приступил к книгоиздательской деятельности. Было, конечно, тесновато, но новый издатель скоро расширил свое помещение, заарендовав, у церкви „Святого Духа“ половину квартиры священника в первом этаже, где и устроил склад и издательство. Обороты быстро росли. Этому помогло и то, что Ступин являлся одновременно и комиссионером синодальной типографии, выпускавшей книги духовного содержания; они отлично расходились как обязательный товар среди духовенства. Кроме того, Ступин сумел добиться рекомендации многих своих изданий через Ученый комитет министерства народного просвещения, ведомства императрицы Марии и Ученый комитет при Святейшем Синоде; виза этих учреждений увеличивала распространение изданий среди библиотек.
Специализировался Ступин главным образом на детской литературе, среди которой основной серией была известная серия миниатюрного формата „Библиотечка Ступина“. Он довел это издание до ста двадцати названий, причем некоторые из них, как „Азбука-крошка“, „Книжка-первинка“ и другие, переиздавались до десяти раз. В ступинской библиотечке были сказки, рассказы, исторические были, путешествия, популярные очерки о жизни природы, игры, забавы и т. п. в очень примитивном изложении. Каждый выпуск стоил десять копеек (оптом – шесть копеек) за тридцать две страницы; бумага и обложка были высокого качества. Выпускалась библиотечка тиражом от двух до десяти тысяч экземпляров.
На свою любимую библиотечку Ступин не жалел денег. За иллюстрации платил он художнику 200 рублей и столько же граверу за каждую книжку. Когда ему задавали вопрос, почему он так делает, это должно давать убыток, Ступин отвечал:
– Ишь ты, поди ж ты, я не понимаю! Я ведь рассчитываю сразу на несколько изданий. Первое для меня – всегда малый убыток, второе – небольшая польза, а остальные – тут уж сплошной барыш в карман.
В целях рекламы своей библиотечки Ступин в дальнейшем стал даже выдавать премию: оптовым покупателям всех номеров книг он прилагал шкафчик, чтобы, как он говорил, его библиотечка имела еще более „изячный“ вид и бросалась в глаза на прилавке. И дельный издатель, несмотря на сравнительно большую себестоимость шкафчика, не прогадывал.
Ступин любил украшать свои книги гравированными рисунками; иногда на тридцати страничках текста иллюстрации занимали чуть ли не все место. Он предъявлял свои требования и к художникам, и к граверам, и к материалам, и к самой технике издания. Ступинская библиотечка печаталась в лучших московских типографиях, хозяева которых считали честью работать для фирмы Ступина, конкурируя друг с другом. За свои заказы Ступин всегда платил, по собственному выражению, „чистоганом“ и никогда не задерживал оплаты счетов» (И. Павлов. Моя жизнь и встречи).