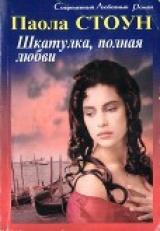
Текст книги "Шкатулка, полная любви"
Автор книги: Паола Стоун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Глаза 6
И это будущее наступило.
Томаш, оказавшись в одном доме с Николой, обрушил на нее все прелести полноценной семейной жизни.
А она встала перед необходимостью вырабатывать характер.
Вскоре он понял, какова сила итальянской крови, так ярко цветущей в Божене, но в Николе льющейся подземным потоком, еще не готовым ударить ключом.
При ближайшем рассмотрении Томаш оказался не так уж мудр и всесилен. К тому же, страшно угнетенный разрывом с Боженой, он не искал в себе сил войти в свежую воду женской любви, но и не хотел остаться в полном одиночестве.
А Никола… Уже через несколько дней после отъезда Божены она смотрела на красное сердечко фуксии, вянущей на окне, и ждала той поры, когда сможет спокойно выйти из этого дома – чтобы больше не возвращаться.
Слова значили для нее так же мало, как и для Божены. Томаш и сам был скуп на них, и это избавляло их от неуклюжих сцен и объяснений.
Никола скоро убедилась, что в рассказе Божены была доля неправды. Несколько раз она заставала Томаша за странным занятием: он перебирал те многочисленные безделицы, которые делали будни Божены такими очаровательными. Все эти придворные из королевства мелочей расставлялись на длинном стеклянном столе в гостиной, и он ходил вдоль них, как король‑вдовец. Но игра в бирюльки не была столь уж безобидной: Божена обладала способностью делать вещи, ее окружающие, частью себя. Даже пустота, зияющая на месте каких‑то мелочей, взятых ею с собой, стала теперь частью Божены.
И еще был Холичек. Он тосковал. Днем и ночью, как верный пес, лежал он под кроватью в спальне Божены, устроившись на ее пушистых тапочках, и согревал их, как маленьких крольчат. И только когда все уходили из дома, он посещал украдкой кухню, поедая оставленные ему Николой лакомства.
…А потом Томаш подарил ей платье – матового медно‑зеленого цвета, воздушной туникой спускающееся до колеи, – и фиолетовый шелковый шарф. Никола была удивлена. Этот необычный для Томаша, скованного новыми условиями их жизни, жест мог бы стать шагом в их будущее. Но вскоре Никола нашла в старом кожаном альбоме фотографию Божены: сестра стояла на Карловом мосту, и ветер развевал на ней тунику, подаренную теперь Николе, и точно такой же шарф туго обхватывал ее стройную шею.
Никола поняла, что ей надо уйти, но она не сделала этого. Она даже ничего не сказала Томашу, ложась с ним рядом на новое широкое ложе, купленное по ее настоянию в первый же день после отъезда Божены.
И так продолжалось, пока не подул теплый, порывистый ветер, без труда рассыпавший карточный домик их лжи…
Глава 7
Иржи был привычен для Николы, как мозаика паркетного пола в танцевальном классе, как липы во дворике ее детства; но сама она не могла бы сравнить его ни с чем и ни с кем, ибо не выделяла его из окружающего мира, как не выделяет ребенок до поры до времени самого себя.
В их доме мальчика звали Париж, и этим странным именем он был обязан всему семейству Америги. Когда он впервые появился в гостях у Николы, получив по почте маленький голубой конвертик с приглашением на ее день рождения, все сидевшие за красиво убранным круглым столом, по которому бегали блики от пяти длинных свечей, разом воскликнули:
– Вот и Рыжик!
– Это наш Паж!
– Милый Иржик!
И когда все угомонились, глуховатый дедушка Америго спросил:
– Какой Париж?
И на импровизированном совете этой большой дружной семьи новое имя было принято и утверждено. Несмотря на свою странность, оно отлично прижилось, и скоро Иржи уже с удовольствием говорил в телефонную трубку: «Скажите, пожалуйста, Колочке, что это Париж ее спрашивает!»
Они вместе пришли в танцевальный класс, потом вместе кривлялись у огромного зеркала и устраивали совместные побеги с занятий, объедаясь запретным мороженым и гоняя голубей на Ратушной площади, вместе рисовали карты неведомых стран и играли в пиратов и в мальчиков, потерянных няньками.
Но со временем полугаврошеское существование для Николы закончилось, у нее появились подружки‑щебетуньи, с которыми можно было мириться и ссориться по пять раз на дню, и она на время отставила огненно‑рыжего мальчика в сторону, отчасти стесняясь его, но в большей степени из‑за девчоночьего кокетства.
А он стал дарить ей цветы после их первых выступлений, и когда, поссорившись с подружками, она шла с занятий одна, увязывался за ней. Идя с ней рядом, он не мешал и не смущал ее, и Николе было по‑прежнему легко и весело с ним.
Париж был способен заразить своим весельем многих – даже уток, деловито снующих по глади реки. Это он придумал утиный цирк, посмотреть на который приходили даже старики‑шахматисты с набережной. Брались чуть подсохшие бабушкины кнедлики, нанизывались на длинный ивовый прутик, который можно было скрутить кольцом, а затем этот самодельный обруч с лакомством держали на фут от воды: особенно голодные утки подпрыгивали и, ухватившись клювом, повисали, пытаясь отцепить черствый кнедлик. Или по‑другому: ивовый обруч медленно плыл по течению, в центре его кружились легкие сухарики, и утки, почему‑то не догадываясь взлететь над прутиком, подныривали под него и всплывали в центре, разбрызгивая воду в разные стороны. Сколько раз Никола ни присутствовала на утином представлении – она не могла удержаться и смеялась до слез, а Париж с победным видом укротителя делал мужской балетный поклон и прямо в кроссовках летал в пируэтах над зеленым газоном.
И еще Париж обладал удивительным качеством: он не умел обижаться. Никола, повзрослев, проверяла его и так, и эдак – ничего не получалось. Очерствев еще немного, она не раз пыталась сделать ему больно – будто верность только того и достойна, – но он все равно не обижался. Потому что уже слишком давно любил ее – девочку, подростка, девушку. Это чувство было настолько естественным в нем, что не требовало ни отчета, ни даже названия.
…Он поджидал Николу после утренней разминки: обычно они вместе спускались во дворик и, обрастая по пути веселыми попутчиками, двигались в ближайшую кофейню: перед лекциями можно было позволить себе легкий завтрак.
Но вдруг в полутьме коридора он заметил приближающуюся мужскую фигуру. Мужчина остановился у окна, и Париж разглядел Томаша, мужа Божены, которого он первый раз встретил в гостеприимном доме Америги года два назад, а потом стал часто встречать по вечерам – Томаш, видимо по поручению Божены, встречал Николу в те дни, когда занятия заканчивались поздно. Париж и сам не отказался бы от этой миссии, но накатившая на него подростковая застенчивость мешала ему тогда самому предложить Николе себя в провожатые, а случайность не могла прийти ему на помощь – им было не по пути.
А теперь Парижу было восемнадцать, мальчишеская стеснительность уже не мешала ему. Он часто провожал Николу домой, и ему казалось, что ей это приятно. Во всяком случае, цветочный дождь, которым он осыпал ее в такие вечера, увлажнял ее глаза и льстил самолюбию.
…Париж хотел уже было спрыгнуть со старых декораций, на которых коротал время (мужская половина раздевалок освобождалась раньше девичьей: юные балерины еще долго прихорашивались, прежде чем выйти), чтобы приветствовать Томаша. Но прозрачная дверь танцкласса блеснула на солнце, и появилась Никола. Необычайно бледная, она, ослепленная ярким светом, прищурилась и тут же оказалась в крепких объятиях, не сразу поняв в чьих. Париж, спрыгнув, подался вперед, но сразу отпрянул. Томаш привлек Николу к себе и целовал ее лицо… Это было не шутливое приветствие старшего, взявшегося опекать юное существо: жадность и несдержанность зрелого мужчины, берущего ему принадлежащее, сквозили во всех движениях Томаша – Париж понял это сразу. Голоса выпархивающих из класса приятельниц Николы заставили Томаша оторваться от нее и, слегка подтолкнув девушку вперед, быстро пойти следом.
Первым порывом Парижа было желание ринуться за ними, оттеснить Томаша и, схватив Николу за руку, увлечь ее за собой – вниз по лестнице, во двор и дальше на людные улицы, чтобы солнце развеяло это липкое наваждение, повисшее перед глазами и не желавшее улетучиваться. Но когда он очнулся, коридор был заполнен воздушными девушками: кто‑то окликнул его, чья‑то рука легла ему на плечо – кутерьма большого перерыва закрутила Парижа, и, когда он выскочил на улицу, было уже поздно.
До звонка он просидел на скамейке у гардероба, не сводя глаз с входной двери, – но Никола не пришла ни на лекции, ни на вечернюю репетицию. А назавтра ему сказали, что она, сославшись на недомогание, ушла с утренних занятий.
Париж с трудом дождался вечера и, добежав до ближайшей телефонной будки, стал звонить ей домой, но трубку никто не брал. Тогда, вскочив в быстрый трамвайчик, он поехал к дому Николы. У нее светилось одно окно. Будучи не в силах ничего предпринять, он перешел на другой берег канала и стал ждать. Свет в окне вскоре погас, затем зажегся снова, и, спустя еще четверть часа, дубовая дверь открылась. В свете фонаря Париж разглядел хорошо одетого мужчину, который, приподняв низко опущенную шляпу, махнул пару раз в сторону знакомого Парижу вновь темного окна.
Когда мужчина растворился в вечернем сумраке, Париж, мигом перемахнув через мост, стал вжимать в панель кнопку домофона. Но видимо, вахтер уже дремал, а Никола не отвечала…
Глава 8
Париж был удивительно красив еще мальчиком. Время превратило кудрявого шаловливого амура в стройного крепкого юношу. Блеск его зеленых глаз, чуть приглушенный золотистой бахромой ресниц, проникал в сердца многих девушек, и со всеми, кроме Николы, он был трепливо обаятелен и приветлив; для нее же готов был каждый день превращать в праздник, веселый и полный сюрпризов.
Однажды, в нежно‑теплый весенний вечер, он встретил ее во дворе Консерватории, держа в руке старинный фонарь, вокруг огонька которого вились изумрудные звезды светлячков. Так и шли они по узким улицам и полным воздуха площадям, а светлячки не желали их покидать; и за ними, как королевский кортеж, шли удивленные прохожие, и столько же оставалось стоять, глядя вслед.
Париж всегда, сколько он себя помнил, старался окружить жизнь Николы флером своих выдумок. А она уже настолько привыкла ко всему, что кружилась с ним в праздничном танце его фантазий, не замечая в этом ничего, кроме дружбы, казавшейся ей такой естественной.
Да и балетная жизнь с ее прикосновениями и переодеваниями сделала обычным для Николы многое из того, что так волнует в юности. Париж «продержал» Николу на руках практически двенадцать лет их совместных репетиций: доведенная до автоматизма техника поддержек, всевозможные переплетения тел в движении – иногда это радовало ее, но чаще, на фоне усталости, оставляло равнодушной. И никогда не заставляло замирать от нахлынувшего волнения.
Лишь однажды он переступил чуть заметный ручеек, мягко, но верно отделяющий их друг от друга, – и оказался на одном берегу с ней.
Они стояли на террасе «Золотого колодца» – есть такой ресторанчик на Малой Стране. Входят в него через старинный жилой дом, а потом поднимаются по бесконечной каменной лестнице, круто вздымающейся вверх – кажется, до самых небес. Внизу курилась садами весенняя Прага, а Париж, в холщовой котомке которого всегда могло оказаться все, что угодно, пускал мыльные пузыри, весело разлетавшиеся в разные стороны. При этом он с серьезным и важным видом просил Николу повелевать их полетом – и она отправляла их в Касабланку и в Будейовицы, на берега Миссисипи и к антарктическим льдам.
Внезапно налетевший ветер бросил горсть радужных пузырей прямо в Николу – они лопались, разлетаясь сотнями крошечных брызг, а один покатился по ворсинкам ее льняной блузы и замер на холмике груди.
Париж, подойдя совсем близко, бережно подставил ладонь под грудь Николы, чуть касаясь ее – будто она так же воздушна, как и пузырик, скатившийся ему на пальцы. Так он и держал на ладони легкую тяжесть груди и еще несколько секунд живший лиловый шар… В эти мгновения Николе казалось, что стоит пузырику лопнуть – и между ними не останется ничего, что мешало бы им любить друг друга. Но подошел официант, и у Парижа в пальцах осталось лишь мыло, а Никола, присев за столик, спрятала глаза в вазочке с земляничным желе.
Весь последующий день они провели вместе. Им было так хорошо вдвоем, будто сам мир вокруг них изменился – стал свежее и звонче.
Охваченные каким‑то неудержимым весельем, они, взявшись за руки, забежали в попавшийся на пути магазин. Там Париж, не спрашивая свою хохочущую спутницу ни о чем, принялся примерять ей блестевшие всевозможными заклепками, замками и множеством маленьких колесиков ролики, потом – себе, и на улицу они уже не вышли, а выкатились: Никола – в шлеме, неуклюже сползающем на лоб, а Иржи, ставший от смеха еще рыжее, – в каких‑то глуповато‑розовых наколенниках и с букетом пестрых диких цветов, прихваченным уже в дверях у маленькой цветочницы в огромной белой панаме.
Панама тоже рассмешила их до безумия, но они уже мчались дальше, хохоча и вместе ловя разлетающийся подол длинной юбки, которая вилась вокруг ног Николы.
Этот день еще долго вспоминался и ей, и ему, но почему‑то они никогда не говорили о нем – и о последовавшем за ним вечере, будто стесняясь тревожить какую‑то тайну, которой они завладели раньше, чем смогли ее понять.
Этот вечер однажды приснился Николе, и, растревоженная своим сном, она проснулась – рядом с другим… Открыв глаза и глядя в синий потолок Божениной спальни, по которому внезапно пробежали отсветы фар проехавшей внизу машины, она вспоминала… Тогда все было иначе, чем в ее сегодняшнем сне.
…Они исколесили всю Старую Прагу и к вечеру оказались в Королевском саду.
Освободив, наконец, уставшие ноги и неся в руках свои веселые доспехи, они медленно побрели по мягким дорожкам.
Заходящее солнце сверкало в кронах огромных платанов, которым даже тонкие шпили были по плечо. И на фоне платанов Никола показалась Иржи еще тоньше и стройнее, а он сам внезапно ощутил себя необычайно сильным, заметив, что она стала дольше задерживать на нем свой взгляд, будто удивляясь чему‑то.
Природа, обычно глядящая внутрь себя, впустила их в свои владения: им казалось, что деревья прислушиваются к ним. И даже витиеватые бронзулетки – садовые украшения – заглядывались на них глазами цветов, животных и щекастых амуров.
В полной тишине зашли они в одну из галерей, позолоченную вечерним светом, и, остановившись, заглянули друг другу в глаза. Минуты – крошечные пылинки времени – кружились над ними в розовых лучах, они же все стояли не шевелясь, а потом вдруг шагнули навстречу друг другу и попытались обняться, но лишь рассмеялись. Никола держала в руках свой дурацкий шлем, а Париж потрясал двумя парами пыльных коньков.
Но когда все это легло на мелкие камушки пола, то освободившиеся руки, не находя себе места, внезапно попрятались – по карманам и за спину…
Тогда их хозяева уселись на ступеньки и еще долго болтали, постепенно возвращаясь к дневному веселью. Когда же совсем стемнело, вновь надели коньки и поехали, никуда не спеша.
С того дня их встречи стали трогательнее и таинственнее, а взгляд Николы, когда они прощались по вечерам, – многообещающим.
Но пришло лето, Никола вместе с сестрой и ее мужем уехала на юг Франции. Париж, который был старше на год, сдавал выпускные экзамены…
А осенью все было уже по‑другому. Домой Никола уезжала теперь на машине Томаша, и Париж встречался с ней лишь в перерывах между лекциями и репетициями – в Консерваторию он забегал на несколько часов, ассистируя своему старшему педагогу, а все остальное время проводил в Черном театре, куда его приняли сразу после выпускного показа.
Репетиции в театре отнимали много сил, но Париж был неутомим и, выкроив свободный час, мчался в Консерваторию, надеясь встретить там Николу. Такой режим заметно накалил его чувства…
* * *
А теперь, когда он понял, что его лишают не только последней возможности видеться с Николой, но и ее самой… Он был полон решимости. Решимости, которая заставила его в тот вечер ехать к дому Николы, караулить под ее окном и пытаться с ней объясниться.
Но с детства обладая идеальным вкусом в человеческих отношениях – в том, что может, а что не должно происходить между людьми, – действовать в том же духе и дальше он не мог.
Он чуть отступил. Но не собирался уступать.
Глава 9
Никола взяла в руки мыльного дельфинчика, и он поплыл по ее телу, смывая дневную усталость. Стоя в аквариуме душевой, она думала о том, как трудно быть женщиной, которая всегда рядом, – особенно с мужчиной, привыкшим к твоей удаленности и малодоступности.
Томаш, лишившийся Божены, теперь тосковал по ней, определив Николе незавидную роль наследницы. Всем своим существом Никола протестовала. Но вырваться из этой ситуации было непросто – его телесная власть над ней была велика.
То, чему Томаш уже почти не придавал значения, совсем иначе отзывалось в Николе: она была в плену сокрушающей новизны их физической близости. Стоило ему случайно коснуться ее во сне – она сразу просыпалась, и вместе с ней просыпалось желание. Но крепкий сон был одной из немногих добродетелей, отпущенных Томашу, и он мог сладко сопеть несколько ночей кряду, не прикасаясь к Николе. Она же молча изнывала, не находя в себе смелости показать ему это.
Но если он начинал ласкать ее – чаще всего это случалось здесь, в ванной, – Никола просто теряла голову и отдавалась так страстно, что ему становилось не по себе.
Вот и сейчас она, освеженная теплыми брызгами, сгорала от внутреннего огня, разожженного им в ее юном теле. Она знала, что Томаш сегодня задержится в мастерской и, вернувшись домой, наверное, спешно поужинает и спрячется от нее в сон.
Но в глубине души Никола уже чувствовала, что все это скоро не будет иметь к ней никакого отношения, а ее молодость и желание быть любимой еще надолго останутся с ней. Поэтому она лишь должна быть чуткой к тому едва уловимому, далекому гулу, что зовется судьбой и всюду преследует человека, если ОН еще не окончательно оглох.
Никола никогда раньше не проводила так много времени в одиночестве. К одиночеству была склонна Божена: ее вполне устраивало то, что Томаш так мало времени проводит с ней вне мастерской. Она любила гулять и путешествовать одна и приучила Томаша не претендовать на ее свободное время, пока она сама не пригласит его.
Но Николе, прежде часто проводившей вечера в шумной компании «балетных», не хватало нервного ритма консерваторской жизни, пульсирующего теперь где‑то рядом, но в стороне от нее.
Поначалу она была заворожена теми новыми чувствами, что пробудил в ней Томаш, и сама отстранилась от прежней компании. Она думала только о нем и пряталась в свое одиночество, наполненное ожиданием. Но ей не хватало воздуха, света – свободы для ее любви.
Никогда раньше она не вела дневников, считая их принадлежностью эпохи, ушедшей вместе с ее бабушками, и посмеивалась над девчонками, имеющими такую привычку. Но когда навалившееся на нее отчаяние сделалось невыносимым, когда она сутками напролет сидела в пустом доме, не в силах показаться никому на глаза, ждала, ждала и не могла дождаться прихода Томаша, – рука сама тянулась к пустому листу. Листок за листом она писала письма Томашу, зная, что он никогда не прочтет их.
Последнее письмо было прощальным. Никола написала его вечером того дня, когда Томаш в последний раз побывал у нее дома. На следующий день от него ушла Божена, а Никола перестала быть его тайной. Вот оно, это письмо:
«Без тебя, как без воды и без сна. И я чувствую, что скоро будет – как без воздуха.
Цветы вянут. Я задыхаюсь.
Ты не придешь больше. Я знаю, что нет. Теперь самое время написать красивое слово – прощай».
С тех пор прошел уже месяц, и они могли любить друг друга свободно, а не украдкой, как раньше. Никола желала, ждала этого от Томаша, но он, будто испугавшись чего‑то, сторонился ее, беспомощно делая вид, что все случилось так, как он того хотел. Но скоро Никола поняла, зачем и как уехала Божена…
Все, что было после этого письма, стало послесловием к ее любви. Именно сейчас, запертая в четырех стенах ванной, Никола остро почувствовала, что вот уже почти месяц живет словно в забытьи, не в силах ничего изменить. Как послушная школьница, давшая слово, она ухаживает за Томашем и не может просто встать однажды утром и уйти. Или днем – да, почему же не днем, а может быть, вечером, может быть, прямо сейчас?!
Эта возможность так ярко представилась ей, что она остановила мерный шелест воды и стала поспешно вытираться.
Войдя в спальню, Никола схватила первое попавшееся платье, посмотрела – Боженино, снова распахнула шкаф, нашла свое, надела, с трудом застегнув длинную молнию на спине. Потом присела на кровать и стала натягивать скользкие, непослушные чулки – они прилипали к еще влажной коже, не желая расправляться. Никола, начиная сердиться, дернула – длинная стрелка метнулась к пятке.
И вдруг из передней послышался голос Томаша, искаженный домофоном. Так, в одном чулке, Никола и отворила.
Томаш, потирая озябшие руки и не раздеваясь, посмотрел на руки Николы, комкающие ненадетый чулок, потом на ее ноги.
Никола наклонилась, чтобы снять рваный чулок. Потом повернулась к Томашу спиной и босиком вернулась в спальню. Там, вскрикнув, бросила на пол чулки и упала на холодный атлас покрывала, пытаясь спрятать в нем свои слезы.








