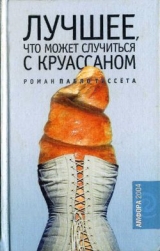
Текст книги "Лучшее, что может случиться с круассаном"
Автор книги: Пабло Туссет
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Пабло Туссет
Лучшее, что может случиться с круассаном
Братство света
Лучшее, что может случиться с круассаном, – это когда его намажут маслом; помнится, именно так я подумал, когда намазывал разрезанный пополам круассан дешевым растительным маргарином. Еще помнится, что едва я собрался вонзить в него зубы, как зазвонил телефон.
Я снял трубку, отлично сознавая, что придется разговаривать с набитым ртом.
– Да-а-а-а-а…
– Ты дома?
– Нет, вышел. Оставь сообщение после сигнала и не приставай ко мне больше. Пи-и-и-и-и-п.
– Перестань дурачиться. Что ты там жуешь?
– Завтракаю.
– В час дня?
– Сегодня встал пораньше. Чего тебе?
– Зайди в контору. У меня новости.
– Пошел к чертям, терпеть не могу загадок.
– А я терпеть не могу говорить по телефону. Речь о деньгах. Жду тебя полчаса, и ни минуты больше.
Повесив трубку, я продолжал жевать круассан, решая, что предпринять дальше: принять душ, побриться или выкурить первую «дукатину». В конце концов я решил покурить и побриться одновременно: на особо тесные контакты с кем-либо я не рассчитывал, поэтому душ мог и обождать, а вот из-за трехдневной щетины меня издали можно было принять за уличного попрошайку. Но мигом обнаружились проблемы: в доме не оставалось ни кофе, ни чистых рубашек, мне пришлось перерыть полгостиной, чтобы найти ключи, а чертово солнце буквально ослепило меня, стоило мне выйти на улицу. Тем не менее, вопреки всем трудностям, я держал фасон и даже добрался до бара Луиджи.
Вошел я, на всякий случай стараясь держаться как можно увереннее.
– Луиджи, сделай мне чашку черного с капелькой молока. И не найдется ли у тебя парочки лишних круассанов – свой последний я только что съел. Кстати, они у тебя что – тяжелой атлетикой занимаются? Будь у тебя хер такой же твердый, как круассаны, ты бы выглядел по-улыбчивее.
– Слушай, если хочешь свежих круассанов, плати наличными, а нет – не пудри мне мозги и жри те, которыми я кормлю тебя из милости. Устраивает?
– Хм… что-то больно мудрено. Когда буду платить за кофе, объяснишь все поподробнее. И будь так добр, дай пачку «Дукадос».
– И как только я тебя терплю? Вот взять бы за шкирятник…
– Потому что, когда у меня есть бабки, я оставляю в этом клоповнике целое состояние.
– А когда нет, то тебе и сигареты в кредит подавай… Да, пока не забыл: Дюймовочка тут вчера заходила, спрашивала тебя. Сказала, чтоб ты ей позвонил. Слушай, ты чего – трахаешь ее, что ли? Буфера у нее хоть куда…
– Гореть тебе в аду, старый развратник.
Солнце так и норовило залезть чуть ли не в трусы, но мне все же удалось выйти из бара и пройти два квартала до конторы – перебежками из тени в тень. Тридцать с чем-то ступеней – и вот я уже стою перед дверью, на которой значится: «Миральес и Миральес. Консультации по финансовым вопросам». Второй из Миральесов – это я; первенец, должно быть, уже на месте с семи утра – гладко выбритый, благоухающий свежестью и при галстуке. «Всем привет», – сказал я, войдя, и, отдельно обратившись к Марии, обронил: «Ну как?» – «Сам видишь, мой мальчик, просто ошалела от звонков… Уф, ну и пузо ты себе отрастил…» – «Дело в том, что я о себе забочусь. Стараюсь есть побольше жирного и поменьше двигаться». Увидев, что в других кабинетах принимают две пары клиентов, я решил особо не разводить тары-бары с остальными служащими. Только Пумарес, шествовавший между столами, приветствовал меня, подняв брови. Я ответил ему тем же и прямиком направился в кабинет Миральеса The First. [2]2
Первого (англ.).
[Закрыть]
Он увидел, как я подхожу, через застекленные двери. Такого врасплох не застанешь.
– Может, все-таки включишь кондиционеры, а то персонал того и гляди помрет от удушья, – произнес я, едва войдя, чтобы не дать своему братцу сморозить какую-нибудь очередную глупость.
– Это у тебя удушье – с похмелья.
– Если бы ты вел себя со мной честно, не приходилось бы напиваться.
– Так-то лучше. У меня для тебя поручение.
– А я уж было решил, что ты самодостаточен.
– Кто-то же должен убирать мусор, а ты у нас всегда в первых рядах.
– Собрался разводиться или переезжаешь?…
– Ценю твой юмор, но, если позволишь, посмеюсь потом. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня выяснил.
– Может, хоть какую-нибудь наводку дашь. Ну, скажем: это – голубое?
– Я разыскиваю владельца одного здания… одного старого дома в Ле-Кортс. Если раздобудешь мне его к понедельнику, получишь десять тысяч дуро.
Ясно было одно: если The First предлагает пятьдесят тысяч штук за какого-то типа, то эта информация даст ему несколько миллионов навара. Ничего незаконного тут не должно было быть – The First никогда не делает ничего незаконного, – но я за версту чуял: тот, против кого готовился злой умысел, наверняка либо пенсионер, либо бедный сиротка, либо последний тюлень Средиземноморья.
Я попытался поднажать на братца: нечистая совесть тоже чего-то да стоит.
– Видишь ли, все эти дни я страшно занят.
– Собираешься на собаках шерсть бить? Пятьдесят тысяч за какое-то имя и две фамилии, пятьдесят тысяч. Устраивает?
Один и тот же ультиматум дважды за последние полчаса. Собачья жизнь.
– Требуется небольшой аванс.
– Я же только десятого давал тебе деньги на квартиру; ты что, хочешь сказать, что пропил сто пятьдесят тысяч песет?…
– Кроме этого, я купил газету и тюбик зубной пасты. Половину вперед.
– Пятнадцать.
Лады: с кислой миной я сделал вид, что уступаю грубой силе. Братец отъехал в своем кресле назад и вытащил из ящика письменного стола небольшой металлический сейф. Три тысячи дуро было гораздо больше, чем я ожидал получить сегодня, и я принялся строить хитроумные расчеты, как бы их получше употребить, пока Ми-ральес The First отсчитывал сумму монетами по пятьсот песет. Если не обращать внимания на осанку, выработанную в одной из самых крутых гимназий, и костюм из бутика с труднопроизносимым названием, это был вылитый диккенсовский скряга.
Я обошел стол и встал рядом с ним, чтобы было удобнее сгрести монеты.
– Спасибо, братишка, – произнес я как можно более звучно, а голос у меня, надо сказать, как у оперного певца.
– Тысячу раз просил тебя не называть меня «братишкой».
– Думаешь, мне это нравится? Говорю так, исключительно чтобы тебя позлить.
Он протянул мне карточку с адресом, сделав вид, что его сейчас вытошнит.
– И прими душ. От тебя дурно пахнет.
Уже в дверях я обернулся, чтобы ответить:
– Это наследственная вонь Миральесов, братишка. Ты лучше себя понюхай.
И вышел поскорее, оставив его беситься в специально подогнанном костюмчике от Пруденсио Ботихеро; он что-то кричал мне вслед, но что – я так и не расслышал.
Один – ноль в мою пользу. И пятнадцать штук в придачу.
Первым делом надо было пробежаться по супермаркету и купить чего-нибудь. С удовольствием набил бы себе брюхо банкой спагетти в соусе, и. пожалуй, надо бы купить настоящего масла, чтобы намазать круассаны Луиджи. На все это ушла тысяча штук, на остальные четыре я накупил картошки, яиц, свинины с анаболиками и телятины с губчатой энцефалопатией. Прочее должно было осесть этим вечером в баре Луиджи; не считая того, что я уже был ему должен, я мог позволить себе выпить на четыре штуки, но напиться на четыре штуки в баре Луиджи было куда вероятнее, чем на целых десять кусков в какой-нибудь другой забегаловке (не говоря уж о том, что Луиджи всегда готов отпустить в долг). На последние несколько штук я собирался отовариться травкой: за двое суток я не выкурил ни единого жалкого косячка.
Взвесив все «за» и «против», я решил пройтись по садикам улицы Ондина – посмотреть, там ли Ни-ко, и первым делом решить вопрос, как бы подлечиться. Мне повезло, и я нашел Нико, что не всегда просто с утра, полагаю, потому, что утро не мое время. Он сидел на спинке скамьи, поставив свои ботинищи на сиденье. Рядом с ним расположился его дружок, который, кажется, только-только вышел из Маутхаузена. Людям не свойственна золотая середина: либо на тебе костюм от Сильверио Монтесиноса, либо футболка с каким-нибудь дерьмовым логотипом.
– Чего тебе, пися?
– Дурцы на две с половиной.
После паузы, вызванной, как мне почудилось, приступом аутизма, Нико направился в дальний конец сквера с важной осмотрительностью уличного педераста, оставив меня наедине со своим приятелем из Маутхаузена, которому, казалось, тоже глубоко наплевать, будем мы о чем-нибудь говорить или не будем вообще.
– Слушай, а если траву будут продавать на евро, то сколько она тогда будет стоить? – спросил я, скорей всего, чтобы убедиться, что паренек все-таки жив.
– А мне откуда знать, дружище? Куда ни кинь – всюду клин…
Тем он и ограничился, но мне вдруг страшно захотелось узнать, что же тогда будет. Если шесть евро – это тысяча песет, то пять тысяч песет будет тридцать евро. Цифры почти одинаковые, но я не сомневался, что Нико найдет, каким макаром вздуть цену на товар, используя разницу курсов. Паренек между тем, казалось, впал в задумчивый настрой, который лучше было не нарушать, так что я вытащил «дукатину» и присел на скамейку перекурить. Торчки тем и хороши, что можно хоть полчаса просидеть рядом с ними, покуривая, и ничего не случится, настолько они заворожены своим собственным внутренним миром. Совсем не то что оказаться наедине в лифте с каким-нибудь госслужащим, который за полминуты вымотает любому все нервы. Понятно, что торчки неисправимы по следующим пунктам: они никогда не шутят, у них нельзя одолжить денег, и если кто-нибудь из них сцепится с уличным регулировщиком или преподавателем логики, то на говно изойдет, только чтобы доказать, каким должен быть правильный порядок движения транспорта и как теза соотносится с антитезой. Так что я вытапщл из кармана карточку, которую мне дал The First, чтобы посмотреть, далеко ли расположен интересующий его адрес; «Жауме Гильямет, № 15» – было написано на карточке его неподражаемым почерком. Для развлечения я попытался мысленно установить, где находится дом пятнадцать; улицу эту я хорошо знаю – дом номер пятнадцать скорей всего расположен в ее центральной части. Так же мысленно я попробовал пройти по улице Гильямет, пытаясь вспомнить все здания по правую и левую руку, но всякий, кто решится предпринять подобное, убедится в одной из моих самых оригинальных гипотез, ошибочно приписываемой Пармениду, согласно которой в реальности имеются дыры, и немалые. Тут пришел Нико, принес товар, и на этом мое астральное путешествие закончилось. Я простился с ним и с его дружком с той притворной вежливостью, с какой люди разговаривают со своими придворными толкачами, и вышел с другой стороны сквера. Впереди был многообещающий день: косяки, жратва и выпивон. Только перспектива случайно встретиться с Дюймовочкой несколько омрачала горизонт. Известно, что женщины – это прорвы, способные поглотить максимум внимания, которое им уделяют; но, само собой, я имею в виду не тех, которые получают звонкой монетой за маленькие мужские радости, и, к сожалению, с Дюймовочкой тоже приходилось расплачиваться не монетой, тем более звонкой.
Как бы там ни было, по дороге в супермаркет я немного свернул в сторону, чтобы еще раз проверить нумерацию домов по улице Гильямет.
Пройдя по Санта-Кларе, я уткнулся в дом номер пятьдесят семь, так что до моего оставалось метров сто, не больше. Еще издалека я узнал дом, которым интересовался The First Я столько раз проходил мимо, не замечая его, но теперь мне бросилось в глаза, что это здание совершенно невероятное в любом контексте: развалюха начала века с крохотным садиком, окруженным изгородью, из-за которой выдавалась пара высоких деревьев. Трудно было уразуметь, за каким чертом здесь еще сохранился этот пережиток прошлого – среди восьми– и девятиэтажных блочных домов с тонированными стеклами и газоном, размахнувшимся чуть ли не на всю ширину тротуара. Из-за него весь этот участок улицы напоминал картину Дельво или Магритта: развалины, статуи, вокзалы без поездов и пассажиров, это царство пустот, тревожной неподвижности – портрет небытия. Конечно, я и не думал звонить в звонок, если бы таковой и был, рассудочная часть моего «я» настоятельно советовала мне оставить посещение до того момента, когда я хорошенько вымоюсь, переоденусь во все чистое и придумаю какой-нибудь благопристойный предлог для того, кто мне откроет; и все же, проходя мимо, я ненадолго задержался. Изгородь, высотой метра два, была густо увита пышно разросшимся плющом, и это наводило на мысль, что в доме еще кто-то живет Я обошел кругом садик, ища калитку и чтобы проверить, нет ли какой-нибудь вывески или звонка, и, погруженный в свои наблюдения, наступил на собачье дерьмо, едва свернув за угол. Самое настоящее собачье дерьмо, которое почти уже и не встретишь с тех пор, как все стали подбирать какашки своих любимцев в специальные мешочки от «Маркса и Спенсера». Я попытался отчиститься, обтирая подошву о поребрик, но эта гадость забилась в выемку, образуемую каблуком, и мне пришлось снять ботинок. Оглядываясь в поисках бумаги или чего-нибудь, чем бы вытереться, я заприметил привязанную к телефонному столбу, лепившемуся к изгороди, одну из тех красных тряпиц, которые вывешивают на выдающуюся над капотом часть груза или на стрелу подъемного крана. Мне вовсе не хотелось, чтобы при входе в супермаркет от меня воняло собачьим дерьмом, поэтому я не успокоился, пока не увидел, что тряпица вся вымазана.
Так как любое расследование мгновенно повергает человека в состояние стресса, я посчитал, что мой рабочий день на этом закончен. Швырнув тряпицу на засранную мостовую (порой мне нравится невооруженным глазом убедиться в том, что я живу в Барселоне, а не в Копенгагене), я поспешил в супермаркет, чтобы успеть до закрытия.
Уж не знаю почему, но такое впечатление, что в моем супермаркете постоянно крутят фильм про Вьетнам, но зато все здесь дешевле, чем в «Капрабо де ла Илла», где неутомимые Фред Астер и Джинджер Роджерс отплясывают польку в отделе свежезамороженных продуктов. Вдобавок к намеченному списку я накупил еще кучу импровизированной провизии, нагрузившись с ног до головы разными банками и баночками, и, выстояв огромную очередь в кассу, с удовлетворением убедился, что счет не слишком превышает положенные четыре штуки. Кроме того, словно обретя дар ясновидения, я зашел в табачную лавочку купить пачку «Фортуны» для косяков.
Придя домой, я даже набрался терпения и не стал курить первый, пока не принял душ (я и сам стал замечать, что от меня попахивает цирковым медведем). Выйдя из душевой торжествующим тритоном, я не позаботился даже вытереться и плюхнулся на диван, чтобы свернуть папироску. Косяк получился что надо, и после двухдневного воздержания я почти сразу ощутил во всем теле приятное щекотание. К сожалению, общее состояние гостиной не соответствовало опрятности человека, только что принявшего душ и с ног до головы опрыскавшего себя дезодорантом. Стоит мне принять душ, как во мне начинают бунтовать мои дурные буржуазные привычки, видимо, поэтому я принимаю его как можно реже, поэтому я пристально уставился на экран выключенного телевизора, надеясь, что созерцание не-сущего поможет мне справиться с желанием устроить уборку. Просто невероятно, каким откровением может стать выключенный телевизор: он отражает тебя, сидящего перед ним, – потрясное зрелище.
Только телефонный звонок помог мне вернуться на планету Земля.
– Да-а-а.
– День до-о-о-о-брый. Я звоню вам из Центра статистических исследований с целью общего изучения аудитории СМИ. Не будете ли вы так любезны уделить нам несколько секунд, буквально несколько?
Голос был похож на голос девушки, занимающейся телемаркетингом, однако даже его предельная слащавость не могла заглушить злорадства, типичного для людей, которые ненавидят свою работу. Ко хуже всего было то, что анкета здорово смахивала на предлог, чтобы всучить мне что-то, и вот это меня достало.
Я решил слегка усложнить задачу.
– Анкета? Опрос?… Чудесно, я просто обожаюанкеты.
– Правда? Что ж, значит, вам повезло… Скажите, пожалуйста, как вас зовут.
– Рафаэль Болеро.
– А полностью?
– Трола. Рафаэль Болеро Трола.
– Прекрасно, Рафаэль. Сколько вам лет?
– Семьдесят два.
– А кто вы по профессии?
– Пирожник.
– Пи-рож-ник? Неподражаемо. Вам нравится музыка?
– Ж-жутко.
– Правда? И какая именно?
– «Мессия» Генделя и распа. [3]3
Популярный латиноамериканский танец.
[Закрыть]Первое больше, второе меньше.
Девица начала запинаться, но не сдавалась. Спросила, слушаю ли я радио, смотрю ли телик, читаю ли газеты, и если да, то какие, и наконец, выпустив всю обойму, подошла к сути дела:
– Прекрасно, Рафаэль… Дело вот в чем: в благодарность за ваше сотрудничество и поскольку, как я вижу, вам нравится классическая музыка, мы совершенно бесплатно дарим вам три лазерных диска, кассеты или пластинки. Вам придется оплатить только пересылку: две тысячи четыреста двенадцать песет. Согласны?
– Ах, какая жалость, но, видите ли, мне надо посоветоваться с мужем…
Голос у меня стопроцентно мужской, глухой и хриплый, и у девицы, наверное, глаза на лоб полезли. Настал момент, чтобы нанести решающий удар.
– Извините, не удивляйтесь, но, понимаете, мы парочка гомосексуалистов, гомиков, живем вместе с тех пор, как вышли из центра дезинтоксикации и обзавелись пекарней, вот уже полгода. И тут один клиент, тоже гей, который покупает у нас лионские булочки (скромность не позволяет, но все-таки скажу: лионские булочки у нас бо-же-ствен-ные), так вот, он посвятил нас в Братство Света, так сказать… Ну уж вы-то, конечно, слышали про наше Братство?…
– Н-нет…
– Тогда вам надо поближе с нами познакомиться. Мы просто влюблены в свое дело. Представляете, по утрам муж ходит проповедовать и я остаюсь в пекарне, а во второй половине дня мы меняемся ролями… Так вы еще не узрели Свет?
– Нет, я…
– Нет?! Но не переживайте, все можно моментально уладить. Для начала скажите: как вас зовут?
Девица окончательно сдрейфила.
– Нет, видите ли…
– Или, пожалуй, лучше так: оставьте мне свой адрес, и сегодня вечерком я забегу к вам поболтать. Ну что?
– Простите, но нам не разрешается давать свои адреса…
– Не разрешается?… Ну, это не проблема: я сейчас же засеку ваш звонок и попрошу старшую сестру лесбиянок переговорить с вашим начальством. Идет? Ага, y меня на компьютере уже появляются данные, так, посмотрим. Вы звоните из Барселоны? Подождите минутку, сейчас появится точный адрес…
Сопротивление было сломлено: я услышал, как на другом конце провода поспешно повесили трубку.
Миссия выполнена. Я глубоко затянулся и в прекрасном расположении духа пошел ставить воду для спагетти. В тот момент я еще не знал, что происходит в «Миральес и Миральес», и уж конечно, не представлял, во что вляпался.
«Не стой под стрелой»
От послеполуденного сна меня пробудил некий странный шум, вроде «бррррррррррррм», как раз когда мне снились коварные существа, наделенные необычайной способностью втыкать свои лапки в землю и, пустив корни, вечно пребывать в растительной форме. У них даже было имя: борсоги, так их звали – редкий гибрид крапивы и домового. Ничего не подозревая, ты преспокойно разгуливал среди них, как вдруг – хлоп! – они приходили в движение, выдирали из земли свои корешки, снова превратившиеся в лапки, и остервенело впивались тебе в икры.
Было начало восьмого вечера. Дождь лил как из ведра – настоящая весенняя гроза, короткая, но яростная, и, окончательно проснувшись, я стал глядеть на водяную завесу за окном. Барселоне дождь к лицу: обильно омытые водой, деревья снова зеленеют, почтовые ящики становятся ярко-желтыми, а крыши автобусов – красными. Не знаю, что происходит с барселонскими автобусами, которые, если посмотреть сверху, всегда кажутся загаженными. И только когда идет сильный дождь, смывающий серую патину, и все обретает свои первоначальные цвета – зеленый, синий, красный, – город становится похож на детскую игрушку. Я поставил кофе, чтобы во всеоружии встретить второе за день, вечернее пробуждение, на сей раз куда более мирное и приятное, и включил радио. Зазвучала какая-то медленная мелодия, которую выводил сладкозвучный негритянский голос, сопровождаемый длинными саксофонными пассажами. Потом я запустил компьютер, одновременно скручивая сигаретку, тут подоспел и кофе. Я моментально пристроился перед экраном и подсоединился к серверу. Посмотрим.
Двенадцать посланий. Три – чистой воды пропаганда; остальные девять были более осмысленными. Я бегло просмотрел их, прежде чем начать разбирать: Джон писал из Дублина (сколько лет, сколько зим!) «I've been writing some Primary Sentences these days and here I send you a few» [4]4
«За последние дни я написал несколько „Начальных Сентенций", некоторые из них посылаю» (англ.).
[Закрыть]и так далее; письмо из Главного патентного бюро, которое не могло предоставить мне требуемой информации и тру-ля-ля; Лерилин писала из Вирджинии, что не выносит своих соотечественников и очень скучает по Барселоне (с орфографией у нее уже серьезные проблемы)… Немного дольше я задержался на кратком послании Бостонского философского колледжа, который предлагал мне провести семинар на летних курсах. Разумеется, я никуда не собирался ехать, но на время это предложение заставило воспрянуть мое «я». На улице я – никто, но в Интернете у меня есть имя, а среди моих дурных буржуазных привычек осталось еще немного тщеславия. Оставшиеся шесть писем пришли из Метафизического клуба, и я отключился от сети, чтобы прочесть их спокойно. С самого начала стало ясно, что все так или иначе отреагировали на мое последнее заявление. «Если каждое слово порождает понятие, то достаточно сказать „все несуществующее", чтобы все это несуществующее обрело реальность», – не без логики, похвальной, несмотря на явную уязвимость, пытался возражать мне некто Мартин Айакати.
Я решил быть последовательным и отвечать по мере чтения. Нажав кнопку «ответ», я стал набирать по-испански:
«Когда мы произносим „все несуществующее", то тем самым действительно порождаем понятие; однако реальным становится лишь произнесенное, порождающее данное понятие, иначе говоря, определенная сущность, о которой мы не знаем ничего, кроме ее названия – „все несуществующее". Учтите, что точно таким же образом, если женщину зовут Роза, это еще не означает, что у нее есть шипы…»
Жара все усиливалась, и тут зазвонил телефон. Теперь уже не вызывало сомнений, что этот день будет отмечен телефонными вторжениями.
– Да-а-а.
– Я уже четверть часа звоню тебе, а ты все треплешься.
Это был The First. Наверное, он звонил, когда я получал почту.
– Какого черта тебе сейчас от меня надо? По-моему, мы договаривались на понедельник. Или я не прав?
– Уже не надо. Забудь об этом деле.
– Что-о-о?
– Забудь, говорю. Эта информация меня больше не интересует.
– Ах, вот как! А вот меня пятьдесят кусков очень даже интересуют.
– Уверен, что ты еще не начал их отрабатывать.
– А вот и начал: я трачу на них умственную энергию. И потом, договор есть договор: ты должен мне бабки.
– Ладно, хватит с тебя и тех пятнадцати тысяч, которые ты получил авансом.
Я просто ушам своим не поверил. Надо было использовать возможность, чтобы выпотрошить его хорошенько.
– Пятнадцати тысяч у меня уже нет; мало того, я отказался от другого дела, рассчитывая, что в пятницу получу оставшиеся тридцать пять тысяч, так что попрошу объясниться.
– Ладно, не канючь. Заходи завтра, и я дам тебе остальное. Но забудь про это дело. Ты меня понял? Забудь.
Забавно: The First дарил мне пятьдесят штук за здорово живешь: без всяких споров, не торгуясь, не сволочась. Ему явно попалась какая-то крупная дичь, по крайней мере, на это намекала пылкость его слов. «Забудь!» – непривычное для него повелительное наклонение, «забудь!», это теперь я понимаю, что слова его выдавали тревогу, тогда же мне послышалось в них только нетерпение, которое вполне меня устраивало, чтобы подвести окончательную черту под разговором, прежде чем братец раскается, что пообещал мне деньги.
– Отлично, зайду завтра. Слушай, я сейчас занят… А если надумаешь позвонить еще раз, пожалуйста, не трезвонь так.
– Постой.
– Что еще?
– Папа… он сломал ногу.
– Ногу? Зачем?
Я не шутил, просто новость меня удивила. Мой папенька никогда ничего не делает без определенной цели.
– Несчастный случай. Какая-то машина стукнула его бампером. Он позвонил мне из больницы, и я к нему ездил. У мамы небольшая истерика. Она тебе не звонила?
– Нет… Это серьезно?
– Нет. Правда, ногу ему закатали в гипс до коленки. Придется проносить чуть больше месяца, но он сердится, потому что они думали на весь остаток лета переехать в Льяванерас в конце этой недели. Навести их и не откладывай, пожалуйста, оба немного нервничают.
The First впервые обращался ко мне с подобной просьбой, но по-настоящему странным, тревожным было это «пожалуйста». Возможно, несчастный случай с папенькой заставил его разнервничаться – кто знает, может, под костюмом от Лоренсо Барбукехо в моем братце еще оставалось что-то живое, – но в любом случае легкость, с какой он расставался с деньгами, была неслыханной.
Снова сняв трубку, я набрал номер штаб-квартиры семейства Миральес. Вполне возможно, это был приступ сыновней любви.
К телефону тут же подошла маменька, что тоже было, прямо скажем, необычно. По первым же словам я заметил, что испуг у нее уже прошел, но она еще не до конца пришла в себя. Исключительно для того, чтобы выказать хоть какое-то участие, я спросил, почему меня тут же не известили о случившемся.
– Слушай, Пабло Хосе, неужели ты думаешь, что после всего этого я еще могу хоть что-то соображать? Кроме того, я звонила, но тебя не было, а потом совсем закрутилась. Твой брат ездил за ним в больницу.
– Значит, папа дома? Он может подойти к телефону?
– Нет, не надо его трогать. Как приехал, так сразу же рухнул в постель. Мрачнее тучи. Надеюсь, ты заедешь его повидать…
Не знаю, почему я согласился, но все же:
– Ладно, я могу заскочить на минутку завтра утром. Мне все равно надо в контору к Себастьяну, вот и заеду по пути.
– Отлично, приезжай около часа – выпьем чего-нибудь перед обедом.
Значит, мне придется остаться на обед. Ладно… завтра будет видно.
Я скрутил еще косячок и подлил себе кофе, надеясь, что мне удастся снова сосредоточиться на почте, но не получилось. В конце концов, ничего страшного: папенька слегка покалечился, и The First проявил минутную слабость – ничего сверхвыдающегося; но, видно, так уж у меня устроены мозги, что если они не хотят на чем-то сосредоточиваться, то ничего тут не поделаешь. Я встал с кресла и снова подошел к окну. Дождь кончился; по радио передавали какую-то песенку группы «Последний кадр» – голос, придававший значительность любой чепухе, про какую бы он ни пел, и мне как-то даже немного взгрустнулось, когда я обвел взглядом гостиную – настоящее поле боя, простиравшееся передо мной. Я даже испугался, что из джунглей комнаты выскочит борсог и начнет кусать меня за икры. При этой мысли мне стало так плохо, что я уступил еще одной своей дурной буржуазной привычке и подумал, что наконец настал момент приняться за уборку. Начать я решил со спальни, напоминавшей эпицентр урагана, но, обнаружив под грудой грязных носков, копившейся возле кровати, старое приложение к «Эль Пайс», отвлекся, пытаясь вспомнить, за каким чертом принес его домой. Благодаря этому тонкому отвлекающему маневру желание убираться у меня тут же пропало, я оставил носки валяться там, где они валялись, а сам отправился на кухню в поисках чего-нибудь съестного. У меня просто слюнки текли при мысли о глазунье в кружевах поджаристого белка и о тарелке жареной картошки, густо политой майонезом. Недавно загруженный холодильник давал мне право надеяться на это и на многое другое.
Я уже трудился вовсю, готовя себе жратву, когда в четвертый раз за день зазвонил телефон, причем именно в тот момент» когда картошка подрумянивалась на большой сковороде, а яичница слегка дымилась на маленькой.
– Слушаю.
– Э-э-эй, как ты та-а-а-а-ам?
Не выношу людей, которые не представляются, когда звонят. Все почему-то считают, что ты должен мгновенно узнавать их голос, даже если он звучит по какому-нибудь говенному репродуктору. Но этот голос я узнал сразу: это была Дюймовочка.
– Видишь ли, ты отрываешь меня как раз в тот момент, когда я жарю яичницу.
– Ну и что тут такого?…
К тому же мне не нравятся люди, которые звонят и ждут, что именно я должен поддерживать разговор. Утверждаю, что тот, кто звонит, должен сам подать повод, по крайней мере… Но Дюймовочка придерживается иных взглядов.
– Ничего. Просто говорю, что жарю яичницу.
– В это время?
– А что, яйца едят только в специально отведенное время?
Дюймовочка смеется. Что мне в ней нравится, кроме титек, это что она смеется, стоит ей палец показать. Спасительное качество.
– Слушай, у меня сейчас подгорит картошка…
– Ты же говорил – яичница.
– Яичница с картошкой. Жареной картошкой. Жаренной на масле. Оливковом.
Тут она хихикнула, но, подавив смешок, произнесла:
– Хочешь встретиться? Попозже.
– Когда?
– Не знаю. Ну, через какое-то время… Скажем, часов в девять. Хочешь – у Луиджи?
Картошка подгорела, но все равно была хороша. Я мигом уплел ее под майонезом, следом яичницу, и развалился на диване. Мной овладела лень, страшно захотелось посмотреть телик и между делом слопать пакетик арахиса, пока снова не разыграется аппетит. Я всегда считал, что смотрю телевизор меньше, чем следует; кроме того, я всегда смотрю его по утрам, когда волей-неволей приходится выбирать между новостями и каким-нибудь классическим шедевром. Само собой, я всегда выбираю новости, но довольно быстро начинаю жалеть, что не выбрал хорошую программу, которую смотрит большинство по пятому каналу со всеми этими декорациями: причудливыми лестницами и трамплинами. Таким мне всегда представлялся рай, который нам обещали братья из общины святой Марии, если мы не будем давать волю рукам во время службы. Короче, я нехотя встал с дивана и стал рыскать по шкафам в поисках хотя бы чего-нибудь чистого. Я нашел старую футболку, но стоило мне поднять руки, как она вылезала из брюк как раз над пупком. Тогда я вспомнил, что в доме есть зеркало, и подошел к нему: этакая колбасина под метр восемьдесят в наряде Фреда Перри времен Старски и Хутча. Я снова все перевернул, пока не наткнулся на рубашку, достаточно большую для моих статей, хотя и вытертую щетиной на воротнике. Хотя кому интересно разглядывать воротничок моей рубашки? Пожалуй, Дюймовочке; но на Дюймовочку можно положиться, кроме того, воротнички рубашек ей до фени. Хуже всего было то, что я чувствовал тяжесть в желудке: яйца, майонез, усилия, которые приходилось прилагать, чтобы влезать на табурет и слезать с него, копаясь в шкафах… К счастью, мне удался мощный и шумный выхлоп газов, освободивших кишечник и даже оставивших место для тарелки хлопьев.








