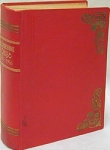Текст книги "Девушка в белом"
Автор книги: Отиа Иоселиани
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Злая «инженерша»
Анзор работает на автоматической линии. У него густые черные усы, орлиный взгляд, и он все посматривает на молоденькую девушку-инженера. А та, как назло, все время торчит у его станка.
Всякое бывает с человеком: один раз опоздает на минуту, в другой раз раньше уйдет. Но Анзору нельзя ни опоздать, ни уйти раньше времени.
– Где ты был, Анзор? – спрашивает «инженерша».
– Анзор, почему выключил один станок?
– Анзор, смажь маслом этот автомат!
– Да ты лентяй, Анзор!..
Анзор – передовой рабочий. Его фотография красуется на доске почета, и весь цех гордится им. Директор завода не раз хвалил его за хорошую работу.
А «инженерша» недовольна.
С утра появляется она у его станков, потом ходит по цеху и опять возвращается к автоматам; встанет за его спиной и передохнуть не дает.
Во время разговора она не смотрит Анзору в глаза, всегда бракует его работу, всегда недовольна им.
Да... инженерша – злая женщина.
И в столовой усядется напротив. Ложку ли она держит или вилку, – мизинец всегда забавно оттопырен. Даже поесть не даст человеку спокойно.
Самое сложное дело она поручает Анзору, каждое новое начинание должен завершить Анзор.
И в автобусе она должна поднять его, удобно расположившегося, с места и поблагодарить шепотом. Все норовят поухаживать за ней, все ее любят, но и билет ей должен купить только Анзор.
Что же это, в самом деле!..
А дома мама ворчит:
– Анзор, не выходи в город небритым.
– Анзор, где ты штаны порвал?
– Анзор, женись, я уже не могу ухаживать за тобой.
– Анзор!..
И Анзор думает, что мама такая же вредная и злая, как инженерша.
...А молоденькая инженерша бегает в это время вверх и вниз по лестнице, тащит воду в алюминиевых ведрах и сердится на свою маму.
– Сиди, мамочка! Ты же знаешь, что тебе нельзя...
Сбегает за хлебом, зайдет в гастроном, принесет продуктов. А мама уже встала и собирается мыть посуду.
– Мама, не смей, у тебя повышенное давление!
Она готовит обед, моет посуду. А мама опять пытается подняться, хочет залить водой белье.
– Мама, что я тебе сказала, не двигайся так много… Ты же знаешь, что сказал доктор.
– Какая ты странная, дочка. Как же можно, чтобы человек рукой не пошевелил. И в кого ты такая сердитая...
И дочка удивляется: почему мама такая же недогадливая, как Анзор.
Ночь. Мерцают желтые фонари. Люди возвращаются из театров. Уже кончился третий сеанс в кино.
Тихо. Только изредка, вспыхнув фарами, промчится автомобиль, где-то закашляет ночной сторож и зальется свисток милиционера.
...Анзор лежит, заложив руки под голову, и думает: и чего пристала ко мне эта инженерша?
...Лежит и она, усталая, – весь день провела на ногах; вечером прочитала, но ей все равно не спится, и она думает: неужели Анзор ни о чем не догадывается?!
Браковщица
Цех такой огромный, что не видно противоположного конца. И потолок очень высокий.
А станки!.. Кто сосчитает, сколько станков работает в этом цехе!
Котэ работает недалеко от браковщицы.
Котэ – токарь. А девушка-браковщица принимает готовые детали. Вообще она очень веселая девушка, но, когда принимает детали, брови у нее нахмурены, она не спешит и ни за что на свете не засмеется.
У браковщицы бывает и свободное время. Пока рабочие накапливают детали, она может и почитать книгу.
Котэ работает здесь же, рядом с браковщицей.
Вращается станок, целый день вращается без устали, и целый день не знают отдыха глаза токаря: смотрит то на станок, то на девушку, на девушку – и опять на станок.
Иногда по утрам девушка заходит в технический отдел, ведь в это время в цехе ни у кого не бывает готовых деталей. И цех пуст, в таком огромном цехе нет никого для одинокого грустного токаря.
Приходит девушка, у нее под мышкой книга, и оживает, наполняется цех. Она улыбается, и цех уже полон.
...Весь день не находят покоя глаза токаря. Смотрит он то на станок, то на девушку.
Но вот перерыв. Рабочие, сдав детали, идут в столовую или выходят просто пройтись.
А браковщица сидит, считает, записывает...
Выходит и токарь. Обедает. Шагает по двору. Какой огромный и бестолковый двор. И какие непривлекательные цветы на газонах.
Выходит браковщица. Солнце слепит ей глаза, она щурится и идет к газонам.
Какие прекрасные газоны! Какие удивительные цветы!
...Пять часов.
Браковщица сидит, считает, записывает. Во время работы она ни за что на свете не засмеется.
Тысяча дел и у токаря. Станок, конечно, – механизм, но и за ним надо ухаживать, надо любить машину, надо беречь ее, тогда и она не останется в долгу.
Уходит браковщица.
Черт возьми!.. Нельзя же в самом деле расшибаться в лепешку из-за станка.
Котэ живет в городе, и браковщица там же, в общежитии, в большом белом доме. Такого здания нет даже в самом центре города, наверное, нигде нет такого здания.
И девушка идет одна к себе в общежитие.
...В автобусе иголке негде упасть.
– Будь другом, продвинься немного, двери закроют.
Тяжело, грузно ползет автобус, фыркает, урчит, догоняет девушку... вот уже догнал.
Машина проехала у самого тротуара, чуть не задев девушку.
Делали бы тротуары пошире...
Девушка осталась позади, скрылась из глаз. Улица опустела.
Идет автобус, пыхтит, надрывается.
А токарь думает: кому нужны такие быстрые автобусы?
Певунья
Как обычно, он вынесет стул, поставит его у широко раскрытых дверей, грузно опустится на него и заложит ногу за ногу. В руках у него тяжелая связка ключей. Есть ключи плоские, есть и полые, некоторые совершенно круглые, только язычок у них плоский. Ключей много. Таскать их нелегко.
В этой стороне, у железнодорожного полотна – склады. Мамука – заведующий складом. Все части, кроме готовых автомобилей, проходят через его руки и отправляются во все концы: и в Россию, и в Сибирь, и в Среднюю Азию.
Все в его руках, все нанизано вот на это кольцо.
Нет, Мамука не маленький человек.
Детали бывают большие, поменьше и даже совсем крохотные, не больше серьги. И все они смазаны тавотом, некоторые аккуратно завернуты.
Мамука принимает все, что подвозят. Потом, в один прекрасный день, пригонят вагоны и начнется аврал.
Однажды он отправил в Куйбышев лишний коленчатый вал. Никогда с ним не бывало такого, даже шурупа лишнего не отпускал, что же с ним случилось?
Во всем эта девчонка виновата. Как раз тогда подлетела и попросила бумагу подписать. И не отставала, пока не подписал.
– Дядя Мамука, тороплюсь!
– Дядя Мамука, вот здесь подпиши!
– Дядя Маму-ка-а! – захныкала она. Потом затопала по цементному полу маленькими крепкими ножками и опять захныкала.
– Дядя Мамука-а, шени чириме!
Ну, что он мог сделать, подписал, не читая подписал.
Она повернулась и улетела, улетела, а он, по-видимому, отвлекся мыслями, ошибся в счете и отправил лишний коленчатый вал.
Нет, конечно, этот вал не пропадет, но что скажут там, в Куйбышеве: хорошо, должно быть, дела у них идут при таких складчиках!
Опозорился человек. Опозорился.
Завод на всю страну известен, в республике второго такого не найдешь. Мамуке доверен целый завод. Мамука не маленький человек.
И во всем виновата эта певунья.
Вот и сейчас он сидит у дверей, заложив ногу за ногу, и перебирает ключи, плоские, круглые, полые.
– Здравствуйте, дядя Мамука, – подлетает она. – Как вы себя чувствуете? – шелестит она бумагами. – Дядя Мамука, вам не скучно?
И все торопится, все бегом, все бегом. Куда она так спешит?
...У Мамуки есть над чем задуматься.
Как же он в Куйбышев лишнее отпустил? Эх, что скажут люди...
Один сын у Мамуки, видный парень, ничего не скажешь, приятно посмотреть на него. Он и выше отца и плотнее. У Мамуки редкие усы, а у того, дай бог ему здоровья, такие, что... но не работает его сын на заводе... Эх, нигде не работает его сын.
Хороши улицы и площади в Кутаиси, в Кутаиси знамениты сады.
Эх, нигде не работает его сын.
А этой певунье все некогда, всегда она торопится. И дома, наверное, не знают отдыха ее маленькие руки.
А сын Мамуки не работает на заводе. По правде говоря, он нигде не работает.
Мамуке доверен целый завод. И завод этот известен на всю страну, а в республике второго такого не найдешь.
Мамука не маленький человек, но...
Белый бант
Она окончила среднюю школу. Ей скоро восемнадцать. Она уже работает и на свою зарплату купила голубой материал на платье. Голубой ей больше к лицу. И портнихе, тете Маро, она заплатила из своих денег, даже лишние оставила.
Ей скоро восемнадцать, но она маленького роста… маленькая женщина.
– Ах, не вырастет Нуца больше! – волнуется мама.
– Кто же ее замуж возьмет! – смеется отец.
– Вырастет, моя хорошая, вырастет... – не теряет надежды бабушка.
Ей скоро восемнадцать, и она уже работает на автозаводе.
Все знают, что на свою зарплату она сшила себе голубое платье, что заплатила лишнее портнихе, но...
Но никто не знает, что она купила еще белый бант, что ночью, когда все спали, подрубила его края и спрятала в самом нижнем ящике комода вместе с ночной рубашкой.
С утра и до вечера она на работе. С утра и до вечера печатает на машинке. Все ласковы с ней, все ее любят.
Но жена начальника...
Нуца умеет работать и на машинке печатает очень быстро. Даже не уследишь за ее пальцами, бегающими с клавиша на клавиш, с буквы на букву. Если понадобится Зурабу Пантелеймоновичу, она и в цех сбегает (что же делать) за инженером, мастером или рабочим. Она делает все, что ей говорят, все, что поручают. За что же сердится на нее жена начальника?
Чаще всего Нуца сидит за машинкой и печатает, печатает отчеты, сметы, приказы... А если начальник должен прочесть где-то доклад, то и доклад надо перепечатать.
Ох, плохой почерк у начальника. Если бы почерк у него был получше...
Начальник часто уходит, ничего не сказав.
...В кабинет влетает рабочий, видимо, у него срочное дело, – он быстро бежал по лестнице и сейчас тяжело дышит.
– Где начальник?..
– Вышел.
– Куда вышел?
Нуца не знает, куда он вышел, но знает, как нужно ответить.
– В цех.
Рабочий уходит.
Потом Пантелеймоновича ищет инженер.
Потом другой рабочий.
Потом возвращается первый. Видно, сейчас он бежал еще быстрее, наверное, очень срочное дело. Он опускает на стол огромный кулак и говорит:
– Начальник!..
– Начальник?.. Он вышел.
– Куда он вышел? Вечно он где-то ходит.
– Нет, он вернулся... вернулся и опять ушел. Рабочий бьет кулаком по столу. Кулак совершенно черный и, кажется, больше Нуциной головы.
– Вышел в цех, конечно!
Рабочий хлопает дверью, и бумаги сыплются на пол. Она собирает бумаги, сдувает с них пыль, трет локтем. В это время нервно звонит телефон.
Нуца знает, это жена начальника,
– Да, да... я вас слушаю...
– Где Зурико?
– Зураб Пантел...
– Да. Ты что, язык проглотила? Где он?
– Пантелей-монович... был здесь.
– А сейчас?
– В цехе... он в цехе.
– Что ты врешь...
– Нет... я...
– Ну?!
...Какой плохой почерк у Пантелеймоновича, каждый раз он пишет по-разному. Говорят, Пантелеймоновича скоро снимут...
Пора идти домой.
Дома рады, что Нуца работает. Нуца сшила себе голубое платье. Голубой цвет ей очень к лицу.
...Но никто в доме не знает, что Нуца купила белый бант и прячет его в нижнем ящике вместе с ночной рубашкой.
Нуца ложится поздно, когда все крепко спят. Она стелет постель, раздевается. Потом достает ночную рубашку и бант. Бант белый, капроновый, он никогда не мнется.
Она надевает ночную рубашку, заплетает волосы в одну косу и завязывает бант. Бант похож на большую белую бабочку, севшую на косу.
Радостная, подходит она к зеркалу, смотрится в него, улыбается. Поворачивается спиной, боком, вытягивает шею, берет со стола какую-то книгу, отходит от зеркала, опять возвращается и радуется чему-то.
Ах, если б сейчас увидела ее жена начальника...
Нуца ложится в постель. Ей не холодно, и она откидывает одеяло. На груди у нее лежит черная коса, и на ней сидит большая белая бабочка.
Глаза Нуцы закрываются, улыбка не сходит с лица.
Ей скоро восемнадцать.
А жене начальника...
Девушка в белом
Перевод А. Эбаноидзе
Я сдал последний экзамен, попрощался с друзьями, сложил в чемодан все свои вещи: зубную щетку, земляничное мыло, бритву, карманное зеркальце, пузырек с чернилами и маленькие ножницы со стершимся никелем. Книги и общую тетрадь с лекциями перетянул шпагатом. Сел на первый попутный грузовик, пересел на другой и к вечеру с волнением открыл калитку своего дома. Вошел и тихо шепнул на ухо обнявшей меня маме:
– Вот я и вернулся*
...Председатель принял меня радушно, – дружески похлопал по плечу и, словно доверяя какую-то тайну, сказал:
– А знаешь, что мы сделаем?
Я отрицательно покачал головой,
– Назначим тебя бригадиром. Ты – молод, техник-агроном. А старина Гермоген пусть отдохнет... Ну, как?
Дела у Гермогена шли из рук вон плохо. Он постарел, и председатель уже не мог на него положиться. Полевые работы еще кое-как шли, но по сбору чая его бригада заняла последнее место.
Я взялся за дело с душой: встаю с первыми петухами и до поздней ночи – на ногах. Бегаю как угорелый – то в гору, то под гору. То у одного двора кричу:
– Сардион!..
То у другого:
– Ивлитэ, Ивлитэ!.. Не подведи, ради бога, не зарежь без ножа!
– А этот чертов Бесо! И зачем только завел он такого пса, когда у него жених дочь похитил?..
– Двигайся живее! Ты что тащишься, как черепаха!
– И не думай, милая! Не то что сыр – если душу свою на базар повезешь, – все равно не отпущу…
...Наконец всех обошел. Теперь – в поле. Оттуда – на плантации. А там весь день мотайся... Сами понимаете: определить сортность, взвесить, погрузить и отправить чайный лист на фабрику – обо всем надо позаботиться.
...Иду и думаю: давай напрямик махну – канал, наверное, обмелел. Свернул с проселочной. Иду и радуюсь, не знаю чему... Не тому ль, что впереди много работы, что я бригадир, техник-агроном… что совета у меня спрашивают. И очень хорошо на душе. Может, оттого, что моя мама никак не придет в себя от счастья, дождавшись наконец сына, или оттого, что наберу трудодней и куплю себе новый костюм, переложу подгнившую от дождей стену...
Шагаю себе между заборами.
Красивое у нас село! Тополя растут... Уже в феврале цветут ткемали. У каждого свой виноградник, а перезревших груш на земле даже поросята не трогают. Все дома стоят на высоких сваях. Скоро построим свой клуб.
Вышел я за село, и тут начались кочки, овражки, ухабы. Перепрыгиваю через овражки, обхожу промоины. Вот ручей бежит. Здесь всегда грязно – и в дождь, и в жару. По обочине дороги растут гранаты.
Раньше село было здесь, и было все равно, где жить – везде бездорожье. Но потом поднялись все и переселились ближе к новой дороге – так было лучше.
Да... Вдоль обочины растут гранаты.
Чтобы не угодить в грязь, отклоняюсь в сторону, еще, еще, и «бух» – гранат по голове, как здоровенный кулак. Что за черт! И кто только гнал меня сюда!.. Грязь, кочки... да еще какой-то лохматый пес выскочил на дорогу.
Ах, да! Где-то в этой стороне живет Тебро... Вот и старенький домик, без окон, крытый тесовой крышей. Бедная Тебро. Только сейчас я о ней вспомнил. Да и не мудрено: в эти края и раз в год не забредешь. Даже собака отвыкла от прохожих. Не устоишь перед такой.
Бедная Тебро!.. Наверно, ей помогает колхоз. Иначе, что бы она делала. Мужа у нее нет, да и детей тоже... Хотя что я – ведь у нее была дочка... Конечно, помню, помню...
Ее звали Циала или Цицино...
– Пшел, дурной!
Цицино, конечно, ее звали Цицино... Она была на два класса младше меня. Худая, бледненькая девочка. Часто болела и без конца пропускала занятия. Так она доучилась до пятого или шестого класса. А потом зимой был страшный снегопад...
С тех пор я ее больше не видел... Хотя, нет. Однажды я встретил ее в городе, тщательно закутанную, ее куда-то вела старенькая Тебро.
– Пшел, говорю! Да что ты прицепился ко мне!
В школе Цицино всегда жалась в сторонке. Стояла где-нибудь у стены на солнышке и оттуда наблюдала, как играли дети. Никогда никого не обижала... да и не могла обидеть. Однажды кто-то сорвал с нее косынку и выбросил. Цицино не погналась за обидчиком. Ни слова не сказав, продолжала стоять у стены. По ее бледному лицу прозрачными струйками текли слезы. Учение давалось ей с трудом. Она часто плакала из-за этого.
После занятий мы с криком и шумом выбегали из школы, пели, смеялись, дразнили друг друга. А Цицино возвращалась одна. Медленно, опустив голову, бледная и печальная.
Что за пес у этой Тебро! С цепи, что ли, сорвался!
Где сейчас Цицино? Уже две недели я здесь. Каждый день в поле, в конторе – везде успел побывать, а ее нигде не встретил. Может, уехала? Но куда она могла уехать? Может, вышла замуж?
– Батура, сюда! Сюда... на место, будь ты неладен!
Во дворе старушка собирает в корзину опавшие груши, Тебро всегда была очень сутулой, а теперь совсем сгорбилась.
Постарела, бедная...
– Здравствуй, тетя Тебро!
Она медленно выпрямилась, посмотрела в мою сторону и стала неловко потирать руки. От смущения, что ли...
– Дай бог тебе здоровья, сынок! – она снова взялась за корзину.
– Как себя чувствуете, тетушка?
Она выпрямилась, медленно направилась к забору, потирая руки, тихо запричитала:
– Постарела, сынок, постарела, дай бог тебе счастья... до времени постарела.
Я поравнялся с калиткой.
– Заходи, сынок! Мужчина – дорогой гость в нашей семье.
– Не могу, тетушка. Тороплюсь по делу.
– По какому делу? – посмотрела мне в глаза, покачала головой и, словно извиняясь, сказала: – Не узнаю я тебя. Стара стала...
Я назвал свое имя.
– Наконец-то мать тебя дождалась. Заходи же, сынок. Мужчина войдет во двор – дерево улыбнется. Если бы и моя мальчиком родилась.
– Да. В самом деле... Цицино…
– Ты не забыл ее?
– Где она? Не больна ли?
– Дома она. Где же ей еще быть...
– Отчего же я ее до сих пор нигде не встретил?
– Будь счастлив, сынок, спасибо, что спросил о ней. Заходи, дорогой. Нет у меня ничего, но хоть груш отведай. Или, может, холодной воды выпьешь?
Мне не хотелось ее обидеть, и я не стал отказываться.
– Да, тетушка, конечно. Холодная вода, по мне, лучше любого вина.
Я шагнул во двор и замер.
В приоткрытых дверях старого дома стояла женская фигура, вся в белом. Только я взглянул, она исчезла.
Тебро поставила передо мной табуретку, принесла воды в глиняном кувшине. Кувшин местами был залеплен воском. Не отрывая взгляда от дверей, я выпил два стакана студеной воды. В доме было темно. Я сел под деревом, прислонился к стволу. Тебро протянула мне грушу. Я долго держал ее в руках, словно никак не мог сообразить, что же с ней делать. Что-то меня беспокоило, что-то тревожило, казалось, чьи-то глаза неотрывно следят за мной.
– Что, сынок? Или груша тебе не понравилась? – услышал я голос Тебро. – У нас в конце двора сливы растут... Ты любишь сливы? Я принесу.
– Нет, нет, тетушка. Не беспокойтесь. Груша очень вкусная...
Я еле проглотил непережеванный кусок.
– Тетушка, а ваша дочь... она здорова?
– Нет, сынок, не здорова. Если б здорова была, то горя у меня никакого не было бы.
– А что с ней?
– Не знаю. С детства она у меня слабенькая была да так и не окрепла...
– А врачи?
– Врачи? – Тебро махнула рукой. – Врачи... не знаю... говорят, малокровие, затемнение легкого. Ты, наверное, сам знаешь, что это такое.
– Затемнение... Это не страшно... сейчас это лечат.
– Твоими бы устами мед пить, сынок. Но есть ничего не ест, от друзей-ровесников отстала. Одно время навещали ее, веселее она была, потом надоело им по этой грязи добираться. Недавно, правда, доктор сказал, что ей лучше, а только она все плачет по ночам. Тихо так, не хочет, чтобы я слышала. Но разве от материнского сердца скроешь?!
– Где она, можно ее повидать? – спросил я.
– Сейчас… сейчас она, – Тебро замолчала, смущенно отвела взгляд. – Сейчас... Не убрано у нас.
– Хорошо, я ухожу, – я повернулся к калитке, – ухожу, но вечером обязательно зайду еще раз.
Я приподнял покосившуюся калитку, закрепил ее, посмотрел на двери старого дома и вышел на дорогу. Собака было бросилась на меня, но я не обратил на нее внимания.
Спустился в долину. Канал совсем обмелел, но я все же промочил ноги. Выйдя на плантацию, я едва не наступил на отдыхающего в тени колхозника, потом ушиб ногу о культиватор. Несколько раз сообщали мне вес собранного листа. Я не запоминал. Сбегал к навесу, отправил машину... Все еще утро – до вечера далеко. До вечера – целая вечность...
Привезли воду. Повар не торопясь принимается варить обед.
– Эй, шевелись, уже полдень!
Он лениво щурится на солнце, потом на меня.
Сборщицы опорожняют корзины, оправляют платья, косынки. Кто-то поет, кто-то хохочет, прямо заливается.
Повар не спешит.
– Вот увидишь, опоздаешь с обедом, – тороплю его я.
Он опять щурится, вытирает руки о белый передник, вытаскивает большие карманные часы, потом смотрит на меня и все так же лениво продолжает работать.
Я проверяю, как собран лист. Меня зовут:
– Бачуа, сюда, Бачуа!
Опять кто-то хохочет, до слез, до обморока... В тени, под эвкалиптами поют.
– Бачуа-а-а!..
...Вечером я не стал дожидаться машины и пошел напрямик огородами.
Перешел вброд канал и взбежал на пригорок. Иду… продираюсь сквозь кусты, прыгаю через овражки. Тороплюсь. И кажется мне, что кто-то давно, очень давно ждет меня...
А вот и дымок из трубы, дом, старенький, ветхий дом под тесовой крышей. По мне, тесовая крыша лучше. В дождь целую ночь стучат по ней тяжелые капли и рассказывают подслушанные у моря сказки... По мне, тесовая крыша лучше.
Где-то здесь, из земли, сочится ручей. Тут всегда грязно, и в непогоду и в жару.
Собака отвыкла от прохожих, кидается, лает.
Двери дома открыты. Кто-то сидит на балконе.
– Цицино?!
Увидела меня, встала... Я подошел к калитке. Девушка скрылась в дом.
– Батура, сюда! Сюда, негодный пес. – Это вышла Тебро. Я открыл калитку осторожно, чтобы опять не завалилась. Нет, не завалилась. Я удивился, прикрыл ее и увидел: одна створка проволокой привязана к столбу.
– Дай бог тебе счастья, сынок, и в самом деле пришел!
– А как же... – говорю, придерживая калитку спиной.
– Падает... все время падает, чтоб ей сгореть!
– Да, нет, тетушка, она хорошо привязана.
– Привязана?.. – удивилась Тебро и начала причитать. – Не слушалась она меня сегодня, совсем не слушалась. В конце двора у нас сливы растут. Так она взяла корзину, да и на дерево... До сих пор сидела на балконе и даже платка на плечи не накинула.
– Ничего, тетушка, ведь не холодно.
– Это-то так, но ведь на одних лекарствах держится.
Вместо лестницы к балкону был приставлен плоский камень. Я ступил прямо на старый пол, и он недовольно заскрипел.
В комнате уже зажжена лампа. В углу, на высокой кровати я увидел Цицино. Вся в белом, она словно светилась в полумраке. Я шагнул к ней и подвернул ногу: пол был очень неровным.
И словно откуда-то издалека до меня донеслось:
– Войдите...
– Мир этому дому, – почему-то тихо ответил я.
Тебро подвела меня к кровати.
Цицино поднялась, и в мои протянутые к ней руки легла маленькая, хрупкая ладонь.
– Здравствуй, Цицино...
– Здравствуй, – опять будто донеслось откуда-то.
– Как ты себя чувствуешь?
Я хотел еще что-нибудь сказать, хотел пошутить, но не смог.
– Спасибо...
– Цицино... Я давно тебя не видел. После семилетки я поступил в техникум... если приезжал, то раз в год... А теперь я уже окончил техникум, совсем окончил. Теперь...
– Садись, дорогой, садись, – пододвинула мне стул Тебро.
Цицино тоже присела на кровати. Тебро накинула ей на плечи темную шаль и вышла.
– Теперь... – бессвязно продолжал я начатые извинения. – Я буду часто заходить к тебе... А что тебя беспокоит?
Цицино молча посмотрела на меня. Никогда я не видел таких длинных ресниц. Она ничего не сказала, но ее глаза словно доверили мне какую-то большую тайну.
– Цицино!
Она опять не сказала ни слова, опустила голову, перебирая бахрому шали.
Стало тихо. Лампа тускло освещала темные стены. Белая как полотно Цицино, в белом сатиновом платье со следами голубых узоров казалась на фоне ветхих стен сказочной.
– Цицино! – я хотел сказать, что сейчас ей, конечно, лучше, но передумал. – Да... ты знаешь, – я поднялся, потом опять сел, – я сегодня здорово устал...
Цицино взглянула на меня.
– Тысяча дел, черт побери! Каково одному за всем поспевать, – я вдруг почувствовал, что начал хвастаться. Но сидеть так молча было еще хуже, и я заговорил опять. – Что делать с чаем, Цицино? План выполняем, но и перевыполнить было бы не худо. Чаю много – рабочих рук не хватает. Нет... хватать-то, конечно, хватает, но если б их было больше, это совсем не помешало бы, – и не знаю, откуда взбрела мне в голову такая мысль, но я добавил: – А ты нам не помогаешь...
И прикусил язык.
Цицино сперва удивленно посмотрела на меня, потом вдруг улыбнулась, обнажив ряд таких ослепительных зубов, что я зажмурился. Эта улыбка прибавила мне сил. Заложив руки в карманы, я стал вышагивать по комнате.
– Да, да, не помогаешь... Все ленитесь, товарищ, все ленитесь!
Цицино вновь улыбнулась.
– А почему? Кто знает почему. Просто не хотите нам помогать, и все.
Улыбаясь, Цицино тихо сказала:
– Не хочу.
– Вот, вот именно не хотите, – продолжал я, обрадованный, – работать, так у вас желания нет, а если бы, – и черт знает откуда опять взбрела такая мысль в мою голову, – а вот если бы вас спросили о замужестве, если б жених хороший нашелся..
Цицино опустила голову, но было видно, что улыбка не сошла с ее губ, и я заторопился.
– Конечно, скажете, работа вас не достойна! А мы что?.. Чем мы хуже вас?
Цицино подняла голову, продолжая улыбаться... Никогда я не видел таких длинных ресниц.
– Ведь ничем не хуже. – Я встал перед ней, подбоченился. Она смерила меня взглядом с ног до головы. – Как видите – не хуже.
Я чувствовал, что ей очень хочется посмеяться над моим дурачеством. Но она опять только улыбнулась.
– Не хуже, – повторил я.
На этот раз она не выдержала, откинула голову и расхохоталась звонко, весело. Темная шаль сползла у нее с плеча. Переводя дух, она взглянула на другое плечо и легким движением освободилась от шали...
Мне вдруг захотелось обнять ее, сильно прижать к себе и бежать... бежать с нею, не знаю куда. В поле, к морю, в лес, к черту, к дьяволу, – все равно куда. Но бежать... бежать... и чтобы Цицино смеялась, смеялась...
Поужинали. После ужина Тебро принесла сливы. Никогда я не ел столько слив!..
Поздно вечером Тебро провожала меня до калитки. И в десятый раз благодарила.
– Дай бог тебе, сынок, многих лет жизни... ведь не забыл... и в самом деле пришел!
– Я и завтра приду, тетушка...
...Утром я встаю, когда кричат первые петухи. И – сразу за работу. То в гору бегу, то под гору. То у одного двора кричу:
– Сардион!
То у другого:
– Ивлитэ! Ивлитэ! Не подведи ради бога! Лучше уж своей рукой зарежь!
А этот Бесо! Чего ради он такого пса держит, когда у него дочку похитили?..
– Эй, выгляни, где ты там!..
– Что такое... столько свадеб – и в самый разгар работы.
Красивое у нас село. В каждом дворе растут тополя. Весной цветет белая акация. Виноградники – голубые, мы их опрыскиваем купоросом... А перезревших груш даже поросята не трогают. У каждого свой дом, утопающий в густой, сочной зелени, и мы уже начали строить клуб.
...Радуюсь я, не знаю чему. Наверное, тому, что не бездельничаю, тому, что я бригадир, совета у меня спрашивают, тому, что мама наконец дождалась меня. Осенью куплю себе новый костюм и подремонтирую дом...
Сворачиваю с проселочной, выхожу за село... и начинается бездорожье, шагаю, прыгаю, карабкаюсь.
Вот пробивается ручей... Хочу обойти лужу, отклоняюсь в сторону, еще, еще и... бух! – гранат по голове, как здоровенный кулачище.
Собака бросается на меня, лает до хрипоты. Она отвыкла от прохожих.
– Цицино-о-о!
В первый день – молчание. В первый день даже не ждала.
На второй:
– Цицино-о-о!
Она приоткрывает дверь и улыбается.
На третий день:
– Цицино-о! Довольно спать, выходи!
И она выходит. Улыбается, смеется.
– Цицино, выйди же во двор!..
И Цицино выходит во двор, неслышно ступает по росистой траве, выходит за калитку и идет вдоль забора, провожает меня.
– Цицино-о-о!
Цицино у калитки.
– Цицино-о-о!..
Цицино на дороге.
– Цицино-о-о!..
– Цицино-о-о!
– Цицино, пойдем на плантацию! Мы будем идти медленно, будем часто отдыхать... Ты поработай чуточку... а если хочешь – совсем не работай, просто так пройдись.
И, представьте себе, Цицино идет. Даже корзинка у нее готова.
– Осторожно, Цицино, осторожно... не надо так быстро... вот сюда, здесь сухо. Ты не устала? Выйдем на поляну, и ты отдохни... и у канала отдохнешь. Я перекину доску через канал... тебе нельзя мочить ноги... Ты отдохни.
Я нащупываю твердую землю, но Цицино не дотягивается до кочки, и... ноги у нее по щиколотки в воде.
– Цицино... что это? Цицино... ведь ты простудишься, Цицо, вернись.
Она улыбается.
Мы выходим на поляну. Слава богу, хоть отдохнет сейчас, снимет тапочки, высушит... куда торопиться?
Она смотрит на меня и улыбается.
– Отдохни, Цицино.
– Нет, – она качает головой.
– Ты не устала?
– Нет!
– Переверни корзинку и сядь на нее. На траве роса – ты простудишься.
– Нет! – снова отказывается Цицино.
– А что же мы будем делать? – беспокоюсь я.
– Побежим!
– Побежим?!
Она хватает меня за руку.
Я не успеваю произнести ни слова. Мы уже бежим. Несемся как ветер.
– Цицино! – шепчу я.
Цицино смеется, тянет меня, и мы бежим, несемся, легкие как ветер...
– Упадешь! – кричу ей громко.
Цицино смеется, прыгает через овражки, кусты, летит как белая бабочка и смеется. Вот обежали колючий куст. Нет. Я обежал, а она не смогла, задела… выронила корзину, зацепилась платьем...
– Цицино, платье! – закричал я испуганно.
Что же нам теперь делать!
...Стой же, Цицино... Остановись! Цицино, Мы угодим в канал! – И угодили.
Студеная вода перехватила дыхание. Я словно проглотил язык. До нитки промокшая Цицино хохочет звонко-звонко.
– Бачуа... Бачуа! – зовет меня и смеется...
Я тяну ее к берегу, тяну, насильно сажаю на пригорок, на яркую траву и прошу ее успокоиться, прийти в себя, прошу, уговариваю...
– Да, Бачуа... да, Бачу, – и смеется.
Потом ложится, раскинув руки, на траву, на цветы. Забыла, что платье у нее порвалось. Ее щеки пылают, и дыхание частое. Она смотрит на меня... Я никогда не видел таких длинных ресниц...
А Цицино смеется... смеется...