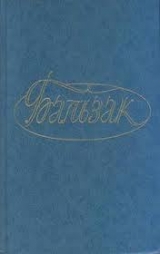
Текст книги "Чиновники"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Так называемые «красавцы» в духе Виме служат, чтобы иметь кусок хлеба, а разбогатеть надеются с помощью своей наружности. Во время карнавала они, в поисках любовных приключений, не пропускают ни одного маскарада, хотя удача и тут нередко бежит от них. Отчаявшись, иной в конце концов женится на модистке или старухе; порою, впрочем, кто-нибудь из них женится и на молодой особе, обольщенной его красотою, – сначала тянется долгий роман и молодой человек засыпает ее дурацкими письмами, которые, однако, оказывают свое действие. Чиновники бывают настолько дерзки, что, увидев на Елисейских полях женщину, проезжающую мимо них в экипаже, раздобывают ее адрес, наудачу шлют ей пылкие признания и иногда достигают успеха, что, к сожалению, только поощряет эту гнусную спекуляцию.
Упомянутый Бисиу был довольно ловким рисовальщиком и высмеивал не только Дютока, но и Рабурдена, которого прозвал «добродетельная Рабурдина».
Своего бездарного начальника он именовал «Пустошь Бодуайе», а водевилиста – «дю Брюэль – Стрекозель». Бисиу был, несомненно, первым остряком не только своего отделения, но и всего министерства, однако это было обезьянье остроумие, без смысла и толку. Все же Бодуайе и Годар настолько нуждались в этом человеке, что, несмотря на его злой язык, покровительствовали ему, а он с легкостью выполнял их работу. Бисиу очень хотел бы сесть на место Годара или дю Брюэля, но его проделки мешали его повышению: то он пренебрегал службой, особенно если ему удавалось обделать какое-нибудь выгодное дельце, например, издать какие-нибудь портреты, воспроизведя первые попавшиеся физиономии и утверждая, что это и есть участники дела Фюальдеса [55]55
Дело Фюальдеса– нашумевший во время Реставрации судебный процесс, связанный с убийством прокурора Фюальдеса в публичном доме.
[Закрыть], или опубликовать дебаты на процессе Кастена [56]56
Процесс Кастена– нашумевший во время Реставрации судебный процесс, связанный с делом доктора Кастена, отравившего своего друга и его брата, чтобы овладеть их имуществом.
[Закрыть]; то, охваченный жаждой выдвинуться, он вдруг рьяно принимался за работу, но вскоре бросал ее ради сочинения водевиля, который также оставался незаконченным. Эгоист, скряга и в то же время мот, – впрочем, он мотал деньги только ради собственных прихотей, – грубиян, задира и болтун, Бисиу творил зло ради самого зла: он охотнее всего нападал на слабых, ничего не уважал, для него не существовало ни Франции, ни бога, ни искусства, ни греков, ни турок, ни Полей убежищ [57]57
Поля убежищ– французская колония на берегу Мексиканского залива, основанная бежавшими от преследования в период Реставрации бонапартистами.
[Закрыть], ни монархии, и больше всего он издевался над тем, чего не понимал. Он первый пририсовал черную скуфью к голове Карла X на монетах в сто су. Он так зло передразнивал доктора Галля [58]58
Галль, Франц-Иосиф (1758—1828) – австрийский врач и анатом, создатель теории френологии, согласно которой якобы существует неразрывная связь между психическими особенностями человека и формой его черепа.
[Закрыть]на его лекциях, что у самого чопорного дипломата от хохота галстук съехал бы набок. Любимая шутка беспощадного насмешника состояла в том, чтобы как можно жарче натопить печи: те, кто имел неосторожность сразу выйти из его бани на свежий воздух, схватывали насморк, а кроме того, ему доставляло удовольствие бесцельно жечь казенные дрова. Он умел мистифицировать людей так ловко и с такой изобретательностью, что всегда кто-нибудь да попадался на его удочку. Главный секрет его успеха заключался в том, что Бисиу умел угадывать тайные желания каждого; он находил дорогу ко всем воздушным замкам, ко всем мечтам, позволяющим так легко обмануть человека, оттого что он сам хочет быть обманутым; поэтому Бисиу мог заставить любого позироватьему в течение многих часов. Но этот знаток людей, способный на сложнейшие тактические маневры ради какой-нибудь пустой проказы, не имел силы над людьми, когда нужно было их заставить служить его обогащению или успеху. Он охотнее всего оскорблял молодого ла Биллардиера, который был для него пугалом, кошмаром и которого он вместе с тем неустанно ублажал, чтобы тем наглее его мистифицировать: Бисиу писал к нему письма от имени якобы влюбленных в него женщин, подписываясь «Графиня де М.» или «Маркиза де Б.», вызывал Бенжамена на свидание в маскарад и, дождавшись его под часами в фойе Оперы, выставлял молодого человека напоказ, а затем сводил с какой-нибудь гризеткой.
Бисиу был союзником Дютока (считая, что Дюток мастак по части интриг), разделял его ненависть к Рабурдену и горячо поддерживал его, когда тот восхвалял Бодуайе.
Жан-Жак Бисиу был внуком парижского бакалейщика. Его отец, умерший в чине полковника, оставил сына на попечение бабушки, которая была вторично замужем за своим старшим приказчиком Декуэном и умерла в 1822 году. Окончив коллеж и не имея никакой специальности, Бисиу попытался заняться живописью, но, невзирая на дружбу, связывавшую его с детства с Жозефом Бридо, вскоре бросил живопись, чтобы перейти на карикатуры, виньетки и рисунки к книгам, – спустя двадцать лет их стали называть иллюстрациями.
Благодаря покровительству герцогов де Мофриньезов и де Реторе, с которыми его свели танцовщицы, он в 1819 году получил место в канцелярии. Бисиу находился в самых приятельских отношениях с де Люпо и держался с ним в обществе на равной ноге, а с дю Брюэлем был на «ты»; его пример еще раз подтверждал наблюдения Рабурдена, считавшего, что если ряд чиновников стремится приобрести вес и значение не на служебном поприще, а за стенами своей канцелярии, то это неуклонно подтачивает и разрушает иерархический строй парижской административной власти.
Невысокого роста, но хорошо сложенный и стройный, он был примечателен тем, что несколько напоминал Наполеона; изящные черты, тонкие губы, прямой и плоский подбородок, русые бакенбарды, светлые волосы, голос пронзительный, взгляд сверкающий, двадцать семь лет от роду – вот каков был Бисиу. Этого человека, в котором равно кипели ум и страсти, губила яростная жажда всевозможных наслаждений, принуждавшая его вести беспутный образ жизни. Отважный охотник за гризетками, курильщик и шутник, незаменимый собутыльник на обедах и ужинах, он умел приспособиться к любому обществу и блистал за кулисами театра не меньше, чем на балах гризеток в танцевальном зале на Аллэ-де-Вэв; так же поражал остроумием за обедом, как и на пикнике, был так же оживлен и на улице в полночь, и утром, когда вы заставали его еще в постели; но наедине с собой он становился печален и угрюм, как, впрочем, большинство великих комиков. Вращаясь в среде актеров и актрис, писателей, художников и женщин, судьба которых подвержена превратностям, он не ведал нужды, бывал в театрах бесплатно, играл у Фраскати и частенько выигрывал. Словом, этот истинный художник, чье неровное дарование то вспыхивало, то погасало, жил, как бы качаясь на качелях и не заботясь о той минуте, когда веревка перетрется. Живость его ума, сверкающий водомет его мыслей влекли к нему людей, привыкших наслаждаться блеском интеллекта, но никто из приятелей истинно не любил его. Бисиу ни при каких обстоятельствах не мог удержаться от острого словца и, бывало, за обедом, к концу первой перемены, успевал прикончить обоих своих соседей. Несмотря на внешнюю веселость, в его речах нередко сквозило недовольство своим положением в обществе; он жаждал чего-то лучшего, однако таившийся в его душе роковой демон иронии не давал ему выказать ту серьезность, которая так импонирует дуракам. Чиновник снимал на улице Понтье на третьем этаже квартиру из трех комнат, где вечно царил холостяцкий беспорядок, – это был настоящий бивуак. Бисиу частенько поговаривал о своем желании покинуть Францию и попытать счастья в Америке. Ни одна ворожея не могла бы предсказать судьбу молодому человеку, все таланты которого были не довершены, который был неспособен к усидчивости, всегда опьянен удовольствиями и не желал думать о завтрашнем дне. Что касается до его платья, то он прежде всего старался не казаться смешным и, вероятно, был единственным человеком во всем министерстве, при виде которого нельзя было воскликнуть: «Сразу видно, что чиновник!» Он носил изящные сапоги, черные панталоны со штрипками, пестрый жилет и элегантный синий сюртук, галстук – вечный подарок гризеток, шляпу от Бандони и темные лайковые перчатки. Его манеры, смелые и простые, были не лишены грации. Когда однажды, после слишком большой дерзости, сказанной им по адресу барона де ла Биллардиера, де Люпо вызвал его к себе и пригрозил выгнать вон, Бисиу ограничился тем, что заметил: «Все равно опять возьмете из-за костюма». И де Люпо невольно рассмеялся. Наиболее удачная проделка Бисиу в канцелярии состояла в том, что он поднес Годару бабочку, якобы вывезенную из Китая, которую Годар до сих пор хранит в своей коллекции и всем показывает, так и не догадываясь, что она сделана из раскрашенной бумаги. Шутник, ради того чтобы посмеяться над своим начальником, имел терпение корпеть над этой бабочкой до тех пор, пока не создал настоящий шедевр.
Такому насмешнику, как Бисиу, черт всегда подсунет жертву. И этой жертвой в канцелярии Бодуайе был бедный экспедитор, юноша двадцати двух лет, получавший полторы тысячи франков в год; его звали Огюст-Жан-Франсуа Минар. Минар женился по любви на цветочнице, дочери швейцара, работавшей на дому для мадемуазель Годар; он увидел ее впервые в магазине на улице Ришелье. Чего только не придумывала до замужества Зели Лорэн, чтобы вырваться из окружавшей ее среды! Сначала она училась в консерватории, потом была танцовщицей, певицей, актрисой, не раз уже готовилась пойти, как и многие работницы, по опасной дорожке, но страх перед развратом и жестокой нищетой удержал ее от падения. У нее было множество всяких планов, и она все не могла решиться, какой ей выбрать, когда появился Минар и предложил ей законный брак. Зели зарабатывала пятьсот франков в год, Минар – полторы тысячи. Решив, что на две тысячи франков прожить можно, они поженились без контракта, стараясь, чтобы свадьба обошлась как можно дешевле. Минар и Зели поселились возле заставы Курсель, как два голубка, на четвертом этаже, в квартире, стоившей триста франков в год; окна были украшены белыми коленкоровыми занавесками, стены оклеены дешевыми клетчатыми обоями по пятнадцать су кусок; мебель была ореховая, плиточный пол блестел, кухонька сияла чистотой; первая комнатка служила Зели мастерской – она там делала цветы; затем следовала маленькая гостиная, в ней стояли деревянные стулья с волосяными сиденьями, круглый стол посредине, зеркало, часы с вращающимся хрустальным фонтанчиком и позолоченные канделябры в кисейных чехлах; проста была и спаленка, вся белая с голубым: кровать, комод и секретер красного дерева, полосатый коврик у кровати, шесть кресел и четыре стула; в углу – колыбель из вишневого дерева, где спали мальчик и девочка. Зели сама кормила грудью своих детей, готовила, занималась хозяйством и успевала еще делать цветы.
Было что-то трогательное в этой скромной, но счастливой трудовой жизни. Чувствуя, что Минар ее любит, Зели сама искренне привязалась к нему. Любовь рождает любовь, это – как в библии: бездна бездну призывает. Бедняк Минар вставал рано, когда жена его спала, и отправлялся покупать провизию. Идя на службу, он заносил в магазин готовые цветы, а на обратном пути прихватывал нужные жене материалы; в ожидании обеда он вырезал или штамповал листья, обматывал стебли, разводил краски. Минар был маленького роста, худой, щупленький, нервный, на голове у него курчавились рыжие волосы, глаза были желто-карие, а лицо необычайно белое, но осыпанное веснушками. В нем жило глубокое, непоказное мужество. Искусством каллиграфии он владел не хуже, чем Виме. В канцелярии сидел смирно, делал свое дело и держался замкнуто, как человек болезненный и углубленный в свои мысли. За чуть заметные брови и белые ресницы неумолимый Бисиу прозвал его белым кроликом. Минар, этот Рабурден меньшего калибра, жаждал создать для своей Зели лучшие условия жизни и неустанно искал среди океана роскоши и бесчисленных прихотей и потребностей парижской промышленности какую-нибудь идею, новшество или усовершенствование, на котором быстро можно было бы нажить состояние. Минар казался глупым оттого, что мысль его была постоянно занята: он переходил от «Двойной пасты султанш» к «Помаде для волос», от фосфорных плиток к портативному газу, от подметок на шарнирах для деревянных башмаков к гидростатическим лампам, охватывая, таким образом, бесконечно малые величины материальной цивилизации. Минар терпел насмешки Бисиу, как занятой человек терпит жужжание насекомого; они даже не раздражали его. Невзирая на весь свой ум, Бисиу не догадывался о том, как глубоко Минар его презирает. Минар же не хотел ссориться: зачем бесполезно тратить время? И в конце концов его мучитель отстал.
Минар всегда был одет очень скромно, ходил в тиковых панталонах до октября, носил башмаки и гетры, жилет из козьей шерсти, касторовый сюртук зимой и мериносовый летом, соломенную шляпу или, смотря по сезону, шелковую, за одиннадцать франков – он думал только о своей Зели и готов был голодать, лишь бы купить ей новое платье. Экспедитор завтракал утром с женой и на службе ничего не ел. Раз в месяц он водил Зели в театр, когда удавалось достать билеты через дю Брюэля или Бисиу, – ибо Бисиу способен был на все, даже на дружескую услугу. Тогда мать Зели покидала свою швейцарскую и приходила посидеть с детьми. В канцелярии Бодуайе Минар заменил Виме. На новый год чета Минаров самолично делала визиты. И, видя их, люди недоумевали, откуда жена бедного чиновника, получающего полторы тысячи франков в год, берет деньги на приличный черный костюм мужу; благодаря каким ухищрениям может она носить шляпы из итальянской соломки, муслиновые вышитые платья, шелковые манто, атласные башмачки, раздобывать эти прелестные косынки, китайский зонтик, приезжать в наемной карете – и все-таки оставаться добродетельной? А вот г-жа Кольвиль, например, и другие дамы, имеющие в год две тысячи четыреста, едва сводят концы с концами!..
В каждом отделении министерства найдутся два чиновника, которые до того дружат между собой, что их дружба вызывает насмешки – впрочем, в канцеляриях ведь надо всем смеются. Одной из таких жертв среди подчиненных Бодуайе был старший письмоводитель Кольвиль, который, если б не Реставрация, уж давно бы оказался помощником правителя канцелярии или даже правителем канцелярии. Жена его была в своем роде женщиной выдающейся, как и г-жа Рабурден. Кольвиль, сын первого скрипача Оперы, некогда влюбился в дочь знаменитой танцовщицы. Теперь Флавия Миноре, одна из тех ловких и очаровательных парижанок, которые умеют и мужу дать счастье и не потерять своей свободы, превратила его дом в место встреч наших лучших художников и ораторов палаты. Гости едва ли подозревали о том, какое скромное место занимает сам Кольвиль. Поведение Флавии, женщины, пожалуй, уж слишком плодовитой, давало столько пищи для сплетен, что г-жа Рабурден упорно отказывалась от ее приглашений. Тюилье, друг Кольвиля, занимал в канцелярии Рабурдена точно такое же место, как Кольвиль – в канцелярии Бодуайе, и его служебной карьере помешали те же причины. Достаточно было знать Кольвиля, чтобы знать Тюилье, и наоборот. Их близость возникла в канцелярии, и подружились они, вероятно, потому, что одновременно поступили на службу. Ходили слухи, что хорошенькая г-жа Кольвиль принимала ухаживания Тюилье, которому жена не подарила детей. Тюилье, так называемый «красавец Тюилье», некогда имевший большой успех у женщин, вел жизнь настолько же праздную, насколько Кольвиль вел жизнь трудовую. Кольвиль был первым кларнетистом в Комической опере, где играл по вечерам в оркестре, а утром он вел конторские книги; он тянулся изо всех сил, чтобы вырастить свое многочисленное потомство, хотя в покровителях у него не было недостатка. Его считали очень хитрым, тем более, что он скрывал свое честолюбие под напускным равнодушием. Так как Кольвиль казался довольным своей судьбой и, видимо, любил трудиться, все, даже начальники, готовы были поддержать его в мужественной борьбе за существование. В самое последнее время г-жа Кольвиль изменила свой образ жизни и, видимо, решила удариться в благочестие; и чиновники поговаривали о том, что она, должно быть, надеется найти в Конгрегации более надежную опору, чем в знаменитом ораторе Франсуа Келлере, одном из ее наиболее усердных обожателей, которому не удавалось, однако, при всем его влиянии, обеспечить Кольвилю желанное повышение по службе. Флавия понадеялась на де Люпо – и в этом была ее ошибка. Кольвиль увлекался составлением «гороскопов» великих людей по анаграммам их имен. Он месяцами просиживал над этими именами, разлагая их на буквы и слагая буквы на новый лад, чтобы обнаружить якобы заключенный в них сокровенный смысл. Из слов «Корсиканец Наполеон»Кольвиль извлек: «О! Но риск! А плен? А конец?»– Для Марии де Виньеро (племянница Ришелье) он подобрал фразу: «Я в браке ни жена, ни дева!»Для «Gatharina de Medicis»– «Henrici mei casta dea» [59]59
Целомудренная богиня моего Генриха ( лат.).
[Закрыть], «Господин Женнест, аббат»при дворе Людовика XIV, прославившийся своим толстым носом, который так смешил герцога Бургундского, дал Кольвилю повод к изречению: «Ба, то сапог, не нос! Бдите же!»Словом, анаграммы влекли к себе Кольвиля. Объявив их предметом особой науки, он уверял, что судьба каждого человека заключена в той фразе, которую можно составить, комбинируя буквы его имени, фамилии, звания и проч. Со времени вступления на престол Карла X Кольвиль был занят составлением его анаграммы.
Тюилье, имевший склонность к каламбуру, утверждал, что анаграмма – это каламбур, составленный из букв. Неразрывная дружба, связывавшая Кольвиля, человека истинно доброго, с Тюилье, этим образцом эгоиста, представляла собой неразрешимую загадку, и лишь некоторые из их сослуживцев видели к ней ключ в словах: «Тюилье богат, а Кольвиль обременен семейством». Действительно, ходили слухи, что Тюилье добавляет к своему жалованью доходы с учетных операций; его частенько вызывали из канцелярии всякие коммерсанты, и Тюилье выходил с ними на несколько минут во двор, но вел все эти переговоры от лица своей сестры, мадемуазель Тюилье. Дружба Тюилье и Кольвиля, освященная годами, основывалась на довольно естественных чувствах и обстоятельствах, о которых мы расскажем в другом месте (см. «Мелкие буржуа»), – здесь же эти разъяснения казались бы, как выражаются критики, «длиннотами». Впрочем, нелишне будет отметить, что если в канцеляриях г-жу Кольвиль знали слишком хорошо, то о г-же Тюилье почти ничего не было известно. Кольвиль, человек вечно занятой и обремененный детьми, был толст, жирен и жизнерадостен, а Тюилье, «красавец времен Империи», видимо не отягощенный особыми заботами и всегда праздный, – худощав, бледен и даже печален.
– Быть может, дружба рождается скорее из противоположности характеров, чем из их сходства, – говорил Рабурден, когда речь заходила об этих двух чиновниках.
Совершенно иные отношения, чем между этими сиамскими близнецами, существовали между Шазелем и Помье; они вечно друг с другом воевали; один курил табак, другой нюхал его, и они неутомимо спорили о том, какой способ употребления этого зелья следует признать лучшим. Оба страдали одним и тем же недостатком, делавшим их в равной мере несносными для товарищей по канцелярии: они то и дело пререкались относительно цен на всякие товары – на сладкий горошек и рыбу; на материи, зонтики, сюртуки, шляпы и перчатки, которые они видели у сослуживцев. Они наперебой расхваливали всякие новинки, хотя никогда их не покупали. Шазель коллекционировал проспекты книгопродавцев и объявления с литографиями и рисунками, но ни разу не подписался хотя бы на одно издание. Помье, такой же болтун, без конца разглагольствовал о том, что, будь он богат, он приобрел бы то-то и то-то. Однажды Помье, явившись к известному Дориа, принялся поздравлять его с тем, что тот, наконец, выпускает книги на атласной бумаге, в печатных обложках, и призывал его улучшать свои издания и впредь. При всем том у самого Помье не было ни одной книги!
Семейная жизнь Шазеля, который был под башмаком у свирепой жены, но старался казаться независимым, служила для Помье предметом постоянных насмешек; а Шазель, в свою очередь, издевался над холостяком Помье, голодавшим не меньше, чем Виме, над его поношенной одеждой и тщательно скрываемой нищетой.
И у Шазеля и у Помье уже стало расти брюшко: у Шазеля живот был круглый и тугой, он торчал вперед и, по словам Бисиу, нахально пролезал всюду первым; у Помье живот был рыхлый и колыхался из стороны в сторону; Бисиу раза четыре в год заставлял их производить обмер своих животов. И тому и другому было не больше тридцати – сорока лет. Оба в достаточной мере тупоумные, они, помимо службы, решительно ничего не делали и представляли собою законченный тип чиновников, одуревших от бумажного делопроизводства и канцелярщины. Шазель нередко клевал носом за работой, и перо, которое он так и не выпускал из рук, отмечало легкими брызгами его сонное дыхание. Помье приписывал эту сонливость слишком рьяному исполнению супружеских обязанностей. А Шазель утверждал, что Помье по четыре месяца в году пьет особый лечебный отвар, и предсказывал ему смерть от гризетки. Тогда Помье уверял, что Шазель отмечает в календаре те дни, когда супруга снисходит к его ухаживаниям. Эти два чиновника столь усердно перемывали грязное белье друг друга и так бранились из-за самых ничтожных подробностей своей интимной жизни, что сослуживцы стали в конце концов относиться к ним с заслуженным презрением. «Да разве я Шазель?» – вот слова, которыми обычно заканчивался надоевший спор.
Господин Пуаре-младший – его называли так в отличие от Пуаре-старшего, проживавшего на покое в пансионе Воке, куда хаживал обедать и его брат, мечтая там же окончить свои дни, – Пуаре-младший прослужил в канцелярии уже тридцать лет. Сама природа не столь постоянна в своих круговоротах, как был неизменен в своих привычках этот человечек. Он всегда клал свои вещи на то же место, опускал перо на ту же подставку, в тот же час садился за свой канцелярский стол, грелся у печки в те же минуты, ибо единственной его гордостью были часы, которые шли с непогрешимой точностью, что, впрочем, не мешало ему ежедневно их выверять по часам городской мэрии, мимо которой лежал его путь, так как он жил на улице Мартруа.
От шести до восьми часов утра он вел торговые книги в большом модном магазине на улице Сент-Антуан, а от шести до восьми часов вечера – в магазине Камюзо, на улице Бурдоне. Таким образом, он зарабатывал три тысячи франков, считая и канцелярское жалованье. Ему оставалось до пенсии всего несколько месяцев, поэтому он был глубоко равнодушен ко всяким служебным интригам. Для его старшего брата отставка оказалась роковой: он совершенно опустился; вероятно, это предстояло и младшему, когда ему уже не придется ходить в министерство, садиться на свой стул и выполнять свою работу экспедитора. Ему было поручено подбирать комплекты газеты, которую выписывала канцелярия, а также «Монитера», и он относился к этому делу с рвением фанатика. Если кто-нибудь из чиновников терял один из номеров или, унеся домой, забывал возвратить, Пуаре-младший просил разрешения отлучиться, немедленно отправлялся в редакцию газеты, требовал этот недостающий номер и возвращался, обвороженный любезностью кассира. Ему всегда, уверял он, приходится иметь дело с милейшим молодым человеком, и журналисты, мол, что ни говори, люди чрезвычайно любезные, но их не умеют ценить по заслугам.
Пуаре был невелик ростом, его обветренное лицо бороздили морщины, серая кожа была усеяна синеватыми угрями, нос вздернут, глаза казались угасшими, взгляд был тускл и холоден, рот провалился, и в нем торчало всего несколько гнилых зубов, поэтому Тюилье уверял, что к Пуаре уж никак не попадешь на зубок; огромные кисти его длинных и тощих рук не отличались белизной. Седые волосы, примятые шляпой, придавали Пуаре сходство со священником, что ему отнюдь не могло льстить, ибо он не выносил попов и духовенства, хотя и сам не в состоянии был бы объяснить свои религиозные воззрения. Эта антипатия, впрочем, не мешала ему быть горячим приверженцем любого правительства.
Пуаре не застегивал свой старый зеленоватый сюртук даже в самые сильные холода и неизменно носил черные панталоны и башмаки на шнурках. Покупки он делал, вот уж лет тридцать, все в тех же магазинах. Когда умер его портной, он отпросился на похороны и над могилой пожал руку сыну покойного, торжественно обещая одеваться у него. Он был другом всех своих поставщиков, выслушивал их сетования, расспрашивал об их делах и всегда платил наличными. Если ему приходилось писать одному из них, прося изменить что-либо в заказе, Пуаре был отменно вежлив, выводил «Милостивый государь» отдельной строкой, никогда не забывал указать дату и предварительно составлял черновик письма, который и сохранял в папке с надписью: «Моя переписка». Трудно было себе представить натуру более упорядоченную и жизнь более размеренную. С того времени как Пуаре поступил в министерство, он хранил все свои оплаченные счета, все квитанции, даже самые ничтожные, а также книги расходов, за каждый год – в особой обложке. Он обедал по абонементу всегда в одном и том же ресторане «Телок-Сосунок» – на площади Шатле, за тем же столиком, и официанты так и сохраняли для него это место.
Не задерживаясь и пяти минут сверх положенного времени в магазине шелковых тканей «Золотой кокон», он ровно в половине девятого появлялся в кофейне «Давид», самой знаменитой кофейне его квартала, и сидел там до одиннадцати; сюда он, как и в «Телок-Сосунок», приходил уже тридцать лет и в половине одиннадцатого неизменно выпивал здесь кружку баварского пива. Опершись руками на трость и уткнувшись в них подбородком, он слушал споры о политике, но никогда не принимал в них участия. Место Пуаре было рядом со стойкой, и он поверял буфетчице маленькие происшествия своей жизни, ибо это была единственная женщина, беседа с которой доставляла ему удовольствие. Иногда Пуаре играл в домино, единственную игру, доступную его пониманию. Если его партнеры не приходили, он засыпал, привалившись к деревянной обшивке стены, а перед ним на мраморном столике лежала надетая на палку газета. Он интересовался решительно всем, что происходило в Париже, и по воскресеньям ходил смотреть новые постройки. Он расспрашивал какого-нибудь инвалида, поставленного у входа, чтобы не пускать публику на строительный участок, огороженный дощатым забором, и беспокоился, когда происходили задержки – не хватало материалов или денег или же архитектор испытывал затруднения. «Я видел, – говорил Пуаре, – как Лувр восстал из развалин, я видел, как родилась площадь Шатле, Цветочная набережная, рынки!» Братья Пуаре, родом из Труа, были сыновьями мелкого чиновника, служившего по откупам; родители отправили их в Париж учиться делопроизводству. Мать снискала себе дурную славу беспутным поведением, и хотя они часто посылали ей деньги, она, к их прискорбию, умерла на больничной койке. Тогда оба не только поклялись никогда не жениться, но у них даже к детям появилась неприязнь; и когда те оказывались поблизости, братьям Пуаре становилось не по себе, они опасались их, как опасаются сумасшедших, и растерянно на них поглядывали. При Робере Ленде оба Пуаре были завалены работой. Администрация тогда не оценила их заслуг, но они были рады, что хоть живы остались, и только с глазу на глаз роптали на столь явную неблагодарность: ведь они делали максимум того, что можно было сделать.
Когда Рабурдену пришлось исправлять знаменитую фразу Фельона и чиновники стали издеваться над ее автором, Пуаре перед уходом отвел беднягу в уголок коридора и сказал ему: «Поверьте, сударь, я изо всех сил противился тому, что случилось». С самого своего приезда в Париж Пуаре ни разу не выезжал из города. Уже в это время он начал вести дневник, в который заносил все примечательные события своей жизни: от дю Брюэля он узнал, что дневник вел и лорд Байрон. Пуаре настолько восхитило это сходство, что он даже приобрел сочинения лорда Байрона в переводе Шастопалли, однако решительно ничего в них не понял. Когда он сидел в канцелярии, на его лице нередко появлялось меланхолическое выражение, казалось, он погружен в глубокие думы, на самом же деле он вовсе ни о чем не думал. Пуаре не был знаком ни с одним из жильцов своего дома и всегда держал в кармане ключ от своей квартиры. На новый год он самолично разносил свои визитные карточки всем чиновникам отделения, но никогда не делал визитов.
Однажды, в летнюю пору, Бисиу вздумалось намазать топленым свиным салом подкладку старой шляпы, которую молодойПуаре (ему было тогда пятьдесят два года) ухитрился проносить девять лет. Бисиу никогда не видел на Пуаре другой шляпы, и она успела нестерпимо надоесть ему; она просто преследовала его во сне, мерещилась ему даже во время завтрака; и Бисиу наконец решил, в интересах своего пищеварения, избавить канцелярию от этой мерзкой шляпы. Пуаре-младший вышел из министерства в четвертом часу. Следуя по парижским улицам, где солнечные лучи, отражаясь от стен домов и мостовой, усиливали жару до чисто тропического зноя, Пуаре почувствовал, что с головы его что-то течет, хотя потливым никогда не был. Придя к заключению, что в этом надлежит усмотреть болезнь или близость к оной, он, воздержавшись от посещения «Телка-Сосунка», пошел прямо домой, где извлек из секретера свой дневник и в следующих словах описал это происшествие:
«Нынче, 3 июля 1823 года, обнаружив у себя необъяснимую испарину, быть может знаменующую собой начало потовой горячки, болезни, весьма распространенной в Шампани, я принял решение посоветоваться с доктором Одри. Симптомы заболевания появились у меня, когда я следовал по Школьной набережной».
Сидя дома без шляпы, он вдруг обнаружил, что влага, принятая им за испарину, не имеет никакого отношения к его особе. Он вытер лицо, осмотрел шляпу, однако ничего не обнаружил, а распороть подкладку не решился. В дневнике было добавлено следующее:
«Отнес шляпу к мастеру Турнану, шляпнику, проживающему на улице Сен-Мартен, ибо подозреваю другую причину упомянутой испарины, являющейся, таким образом, уже не испариной, но результатом присутствия на шляпе какого-то постороннего вещества, появившегося или обнаружившегося на ней в настоящее время».
Господин Турнан тут же указал своему клиенту на жирные пятна – от смазывания топленым салом, свиным или кабаньим.
На другой день Пуаре явился на службу в шляпе, одолженной ему Турнаном, пока будет готова новая; однако вечером, прежде чем лечь спать, он счел необходимым приписать в своем дневнике:
«Установлено, что на моей шляпе было сало свиньи или кабана».
Пуаре в течение двух недель ломал себе голову над столь необъяснимым происшествием, но так и не узнал, каким образом произошло это чудо. А в канцелярии чиновники утешали его рассказами о дожде из жаб, о том, что между корнями вяза была найдена голова Наполеона, и о других не менее загадочных явлениях летней природы. Виме сообщил, что однажды и ему на лицо потекли из-под шляпы струи какой-то черной жидкости – так что шляпники бесспорно сбывают дрянной товар. Поэтому Пуаре ходил несколько раз к Турнану, чтобы проследить самолично, как идет изготовление новой шляпы.








