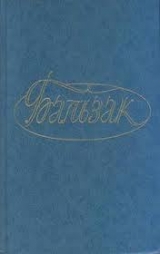
Текст книги "Чиновники"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– А еще говорят, что у государственных деятелей нет сердца! – воскликнула она, желая вознаградить его ласковым словом за суровость своего отказа. – Меня это всегда приводило в смущение, – добавила она с видом полнейшей невинности.
– Какая клевета! – отозвался де Люпо. – Да вот, один из самых чопорных дипломатов, который стоит у власти чуть ли не с самого рождения, недавно женился на дочери актрисы и представил ее ко двору, где особенно требовательны по части родовитости.
– Так вы нас поддержите?
– Я ведаю назначениями, но не занимаюсь обманами.
Тогда она протянула ему руку для поцелуя и слегка хлопнула по щеке.
– Теперь вы мой, – сказала она.
Де Люпо пришел в восторг от ее слов. (Вечером в Опере старый фат так передавал этот случай: «Одна дама, не желая признаться мужчине, что она ему отдается, – о чем порядочная женщина никогда прямо не скажет, – заявила: «Теперь вы мой». А? Каков ход?»)
– Но вы должны быть моей союзницей, – продолжал де Люпо. – Ваш муж сказал министру, что у него есть план преобразования административной системы, в этот план входит и тот отчет, где он так великодушно обо мне отзывается; узнайте, что это за план, и вечером расскажите мне.
– Хорошо, – сказала она, не видя большой важности в том, что привело к ней де Люпо в такую рань.
– Сударыня, пришел парикмахер, – доложила горничная.
«Давно пора, – подумала Селестина, – задержись он еще немного, и уж не знаю, как я бы выкрутилась...»
– Вы даже не представляете себе, насколько велика моя преданность, – сказал де Люпо, вставая. – Вы будете приглашены на первый же интимный вечер супруги министра...
– Ах, вы ангел! – отвечала она. – И теперь я вижу, как вы меня любите: вы умно меня любите!
– Сегодня вечером, дитя мое, я в Опере узнаю фамилию журналистов, которые работают на Бодуайе, и мы посмотрим – кто кого.
– Хорошо, но ведь вы обедаете у меня? Я заказала ваши любимые блюда.
«Все это настолько похоже на любовь, – размышлял де Люпо, спускаясь по лестнице, – что было бы сладостно подольше так обманываться. Но если она просто смеется надо мной, я это узнаю: до того, как министр подпишет назначение, я устрою ей такую ловушку, что смогу заглянуть в самые глубины ее сердца. Знаем мы вас, милые кошечки! Ведь в конце концов женщины таковы же, как и мы, мужчины. Ей двадцать восемь лет, и она добродетельна, да еще здесь, на улице Дюфо! Найти подобную женщину – редкая удача, таким счастьем надо дорожить».
И этот мотылек, метивший в депутаты, порхнул вниз по лестнице.
«Бог мой, – размышляла Селестина, – без очков этот человек, напудренный и в халате, должен быть очень смешон. Я его заарканила – пусть везет меня туда, куда мне так хотелось попасть, – к министру. Но после этого его роль в моей комедии кончена».
Когда Рабурден в пять часов вернулся домой, чтобы переодеться, его жена вошла в комнату и вручила ему его исследование; подобно известной туфле из «Тысячи и одной ночи», оно попадалось ему всюду.
– Кто тебе дал это? – изумился Рабурден.
– Господин де Люпо!
– Он был здесь? – спросил Рабурден, бросив на жену такой взгляд, что, будь она виновна, она, несомненно, побледнела бы, но чело Селестины осталось ясным, и глаза улыбались.
– И он будет у нас обедать, – продолжала она. – Отчего ты всполошился?
– Дорогая моя, – сказал Рабурден, – я его смертельно обидел, подобные люди таких вещей не прощают! И вместе с тем он со мною мил. Ты полагаешь, я не знаю, почему?
– Что ж, у него, по-моему, очень тонкий вкус, – отозвалась она, – и я не могу осуждать его за это. В конце концов, что может быть более лестного для женщины, чем пленить пресыщенного фата! И потом...
– Брось свои шутки, Селестина! Пощади человека и без того удрученного. Мне никак не удается поговорить с министром, а на карту поставлена моя честь.
– Да ничуть! Дютоку обещают, что его повысят, а тебя назначат начальником отделения.
– Я догадываюсь о том, что у тебя на уме, дорогая, – сказал Рабурден, – пусть твоя затея – только комедия, она от этого не менее постыдна. Честная женщина...
– Предоставь мне действовать тем же оружием, каким борются с нами.
– Селестина! Чем нелепее этот человек попадется в ловушку, тем яростнее он набросится на меня.
– А если я его свалю?
Рабурден с удивлением взглянул на жену.
– Я думаю только о том, чтобы тебя повысили, давно пора, мой бедный друг!.. – продолжала Селестина. – Но ты принимаешь гончую за дичь, – добавила она помолчав. – Через несколько дней де Люпо успешно закончит свою миссию. Пока ты найдешь возможность все объяснить министру, пока ты с ним встретишься, я уже успею с ним переговорить. Ты в поте лица своего трудился над этим проектом, таясь от меня, а твоя жена за три месяца добьется бóльших результатов, чем ты за шесть лет. Расскажи мне теперь, в чем состоит твой прекрасный план.
Рабурден взял с жены обещание, что она не обмолвится ни словом о его проекте, особенно же ничего не откроет, даже в общих чертах, секретарю министра, ибо это значило бы пустить козла в огород, и принялся объяснять ей цель своих исследований, в то же время продолжая бриться.

– Но как же ты, Рабурден, ничего мне обо всем этом не сказал? – прервала она его чуть ли не с первых слов. – Ведь ты бы избежал ненужных страданий. Я понимаю, что какая-нибудь идея может на миг ослепить человека; но чтобы эта слепота продолжалась в течение шести-семи лет – вот чего я не постигаю! Ты хочешь сократить бюджет – да ведь это мысль банальная и мещанская! А следовало бы, напротив, довести его до двух миллиардов, и Франция стала бы вдвое могущественнее. Новая система должна бы состоять в том, чтобы все приводить в движение с помощью кредита, как об этом кричит господин де Нусинген. Самое бедное казначейство – то, где много денег, но лежащих без употребления; задача министерства финансов – швырять деньги в окно, ведь они вернутся в его подвалы, – а ты хочешь, чтобы они лежали неподвижной кучей! Должностей пусть будет больше, а не меньше, и надо не возвращать ренту, а увеличивать число рантье. Если Бурбоны желают мирно царствовать, они должны создать рантье в самых глухих захолустьях, а особенно – не позволять иностранцам получать проценты во Франции, ибо в один прекрасный день они потребуют с нас и капитал; но если вся рента останется во Франции, не погибнут ни Франция, ни кредит. Вот что спасло Англию. Твой план – мещанство. Человек честолюбивый должен был бы предстать перед министром в роли нового Лоу, но без его ошибок, объяснить, сколь велико могущество кредита, доказать, что мы ни в коем случае не должны идти на амортизацию капиталов, а лишь на погашение процентов, как делают англичане...
– Послушай, Селестина, ты можешь сваливать все теории в одну кучу и каждую из них оспаривать – пожалуйста, забавляйся ими как игрушками! Я к этому привык. Но не критикуй работы, которой ты еще не знаешь.
– Да зачем мне нужно знать такой план, где доказывается, что Францией можно управлять с помощью шести тысяч чиновников, а не двадцати тысяч? Ах, мой друг, будь это даже созданием гения, у нас во Франции короля свергли бы с престола при первой его попытке осуществить такой план. Можно укротить феодальную аристократию, отрубив несколько голов, но подчинить себе тысяченогую гидру нельзя. Нет, маленьких людишек башмаком не раздавишь, они для этого слишком плоски. И ты хочешь произвести подобный переворот с помощью нынешних министров, которые, говоря между нами, звезд с неба не хватают? Можно перетряхивать деньги, но не самих людей: они слишком громко кричат при этом; а золото немо.
– Ну, Селестина, если ты не дашь мне слово сказать и будешь только острить, придираясь к частностям, мы никогда не договоримся.
– Ах, я отлично понимаю, к чему приведет твое исследование, где ты классифицируешь административные способности разных лиц, – продолжала она, не слушая мужа. – Бог мой! Ведь ты же сам отточил нож той гильотины, которая тебе отрубит голову. Святая дева, почему ты со мной не посоветовался? Я бы, по крайней мере, не позволила тебе написать ни одной строчки, или, если тебе уж непременно хотелось составить такое исследование, я бы его сама переписала, и оно никогда бы не вышло из этих стен... Объяснись, ради бога, почему ты мне ничего не сказал? Вот каковы мужчины! Они способны семь лет спать рядом с женщиной и семь лет хранить от нее тайну. Целых семь лет не открывать своих помыслов бедной женщине, сомневаться в ее преданности – да как ты мог?
– Но послушай, – нетерпеливо остановил ее Рабурден, – за одиннадцать лет нашего брака мне ни разу не удалось с тобой хоть что-нибудь обсудить до конца, ты сейчас же обрываешь меня и, вместо того, чтобы вникнуть в мои мысли, развиваешь собственные теории. Ты же совершенно не знаешь, в чем состоит мое исследование.
– Не знаю? Да я все знаю!
– Ну посмотрим, расскажи! – крикнул Рабурден, впервые за все время их супружеской жизни выйдя из себя.
– А ведь уже половина седьмого, скорей кончай бриться и одевайся, – ответила она, как отвечают все женщины, когда их припрут к стене и им нечего ответить. – Я пойду кончать свой туалет, мы отложим этот спор. Я не хочу раздражаться в тот день, когда у меня гости. Ах, бедняга! – сказала она, выходя. – Работать семь лет на свою погибель и не доверять даже собственной жене.
Селестина тут же вернулась.
– Если бы ты меня в свое время послушался, ты бы не вступался за своего делопроизводителя, а теперь у него, наверное, припасена еще одна копия с этого проклятого проекта. До свиданья, умник!
Однако, увидев, что муж глубоко страдает, она поняла, что зашла слишком далеко, кинулась к нему, обняла и, хотя все лицо у него было в мыльной пене, нежно поцеловала.
– Милый Ксавье, не сердись, – сказала она, – сегодня вечером мы займемся твоим планом, и я буду слушать тебя, сколько твоей душе будет угодно... Ну, теперь ты доволен? Уверяю тебя, я очень рада быть женой нового Магомета.
И она рассмеялась. Да и Рабурден не мог удержаться от улыбки, ибо на губах Селестины осталась мыльная пена и в ее голосе зазвучала самая подлинная и прочная любовь.
– Иди одеваться, дитя мое, а главное – ни слова де Люпо, ты клянешься мне? Вот единственное наказание, которое я на тебя налагаю.
– Наказание? – переспросила она. – Тогда я ни в чем не клянусь.
– Брось, Селестина, хоть я и пошутил, а ведь дело серьезное.
– Сегодня вечером, – отозвалась она, – твой секретарь министра выведает, с кем нам предстоит бороться, а я уж знаю, на кого повести атаку.
– На кого же?
– На министра, – важно заявила она.
Несмотря на грациозную ласковость милой Селестины, чело Рабурдена, пока он одевался, омрачали печальные мысли.
«Когда же она научится ценить меня? – спрашивал себя огорченный муж. – Она даже не поняла, что весь этот труд я предпринял только ради нее. Как она безрассудна и как умна! Если бы я не женился, я бы занимал сейчас высокое положение и был бы богат! Из своего жалованья я бы откладывал пять тысяч в год. При выгодном их помещении они давали бы мне ежегодно десять тысяч ливров, помимо жалованья; я был бы холост и мог бы удачной женитьбой... Зато у меня есть Селестина и мои двое детей...» – тут же возразил он себе и принялся думать о своем счастье. В самом счастливом супружестве бывают минуты сожалений.
Он вошел в гостиную и окинул взглядом все вокруг. «В Париже не найдется ни одной женщины, которая так умела бы обставить жизнь, как моя жена. Создать все это при двенадцати тысячах франков, – продолжал он размышлять, рассматривая жардиньерки, наполненные цветами, и предвкушая чувство удовлетворенного тщеславия, которое ему доставят похвалы гостей. – Да, она рождена, чтобы быть женой министра. А вот супруга моего министра ни в чем ему не помогает; она похожа на добрую толстую мещанку, и когда появляется во дворце, в гостиных...» Он презрительно наморщил губы. Очень занятые мужчины имеют превратные представления о домашней жизни, и их одинаково легко убедить в том, что на сто тысяч ничего нельзя сделать, как и в том, что на двенадцать можно иметь все.
Хотя хозяйка и ожидала де Люпо с большим нетерпением, хотя и приготовила избалованному чревоугоднику приманку в виде его любимых блюд, к обеду он не пришел, а появился лишь очень поздно, часов в двенадцать, когда в гостиных разговоры обычно становятся более интимными и откровенными. Среди оставшихся гостей был также журналист Андош Фино.
– Я все узнал, – сказал де Люпо, усевшись с чашкой чая на уютной козетке возле камина и глядя на г-жу Рабурден, которая, стоя перед ним, держала тарелку с сандвичами и ломтиками кекса, справедливо именуемого «коксом». – Фино, мой дорогой и остроумный друг, вот вам удобный случай оказать услугу нашей очаровательнице: устройте небольшую травлю на некоторых лиц, о коих мы сейчас поговорим... Против вас, – обратился он к Рабурдену вполголоса, чтобы слышали только три его собеседника, – ростовщики и духовенство, деньги и церковь. Статью в либеральной газете заказал старый ростовщик, в отношении которого у газеты были какие-то обязательства, но накропал ее мелкий писака, он мало всем этим интересуется. Через три дня главная редакция газеты будет сменена, и мы тогда еще вернемся к этому вопросу. Роялистская оппозиция – ибо у нас теперь благодаря господину де Шатобриану существует роялистская оппозиция, то есть роялисты, примкнувшие к либералам... Впрочем, оставим в покое высокую политику... Итак, эти убийцы Карла Десятого обещали мне свою поддержку при том условии, что в награду за ваше назначение мы одобрим одну из их поправок к новому законопроекту. Все мои батареи в боевой готовности. Если нам будут навязывать Бодуайе, мы скажем Церковному управлению по раздаче подаяний: такие-то газеты и такие-то люди будут проваливать закон, который вы хотите протолкнуть, и вся пресса выскажется против, ибо газеты сторонников министерства у меня в руках и останутся глухи и немы, что, впрочем, не представит для них особых трудностей, они и без того рта не раскрывают, – не правда ли, Фино? Назначьте Рабурдена, – потребуем мы, – и газеты окажутся на вашей стороне. А бедные простаки-провинциалы, развалившись в креслах у камина, будут радоваться, что органы общественного мнения столь независимы, ха-ха!
Андош Фино подхихикнул.
– Поэтому будьте спокойны, – продолжал де Люпо. – Я сегодня вечером все уладил. Церковное управление вынуждено будет уступить.
– Я бы предпочла лишиться всякой надежды, но видеть вас у меня за обедом, – шепнула ему Селестина, глядя на него с таким негодованием, которое можно было объяснить и самой пылкой любовью.
– Вот чем я заслужу помилование, – отвечал он, вручая ей приглашение на вечер.
Селестина распечатала конверт и вся вспыхнула от удовольствия.
– Вы знаете, что такое эти вечера, – сказал де Люпо с таинственным видом. – Это в нашем министерстве все равно, что во дворце «малый прием». Вы окажетесь в самом средоточии власти. Там будет графиня Ферро, которая все еще в милости, несмотря на то, что Людовик Восемнадцатый умер; Дельфина де Нусинген, госпожа де Листомэр, маркиза д'Эспар; милая вашему сердцу де Кан, которую я позвал для того, чтобы поддержать вас, в случае если эти дамы примут вас в штыки. Я хочу видеть вас среди всего этого общества.
Селестина закинула голову, как чистокровная лошадь перед скачками, и перечитывала приглашение с таким же чувством, с каким Бодуайе и Сайяр, без конца упиваясь каждым словом, перечитывали свои статьи в газетах.
– Сначала туда, а когда-нибудь и в Тюильри, – сказала она де Люпо.
Де Люпо испугался, настолько ее тон и поза были выразительны и полны честолюбивой самоуверенности.
«Неужели я для нее лишь подножка?» – подумал он. Затем встал и направился в спальню г-жи Рабурден, куда она за ним последовала, ибо он сделал ей знак, что хочет поговорить без свидетелей.
– Ну, а проект? – спросил он.
– Ах, чепуха! Это одна из тех глупостей, которыми занимаются честные люди. Он хочет упразднить пятнадцать тысяч чиновников и оставить всего тысяч пять-шесть; вы и вообразить себе не можете, какой это чудовищный вздор. Я дам вам прочесть, когда все будет переписано. Но он искренен, и его каталог чиновников, где он разбирает все их достоинства и недостатки, подсказан самыми благородными намерениями. Бедный, милый чудак!
Услышав непритворный смех хозяйки, которым она сопровождала свои пренебрежительные и насмешливые слова, де Люпо совершенно успокоился: он был слишком опытен по части лжи и видел, что Селестина в эту минуту отнюдь не прикидывается.
– В чем же, однако, суть всего проекта? – настаивал он.
– Да вот, он хочет упразднить поземельный налог и заменить его налогами на потребление.
– Но ведь Франсуа Келлер и Нусинген предложили нечто подобное год тому назад, и министр уже подумывает о том, чтобы сократить налог на землю.
– Вот видите! Я же говорила ему, что все это не ново! – смеясь, воскликнула Селестина.
– Да, но если его предложения совпадают с мыслями величайшего финансиста нашей эпохи, человека, который в области финансов, говоря между нами, просто Наполеон, то у Рабурдена должны быть какие-то идеи относительно возможностей это осуществить!
– Ах, все это ужасное мещанство! – проговорила она с презрительной гримасой. – Подумайте! Он хочет, чтобы Франция управлялась пятью-шестью тысячами чиновников, тогда как, напротив, не должно быть ни одного француза, не заинтересованного в поддержании монархии.
Де Люпо был, видимо, доволен тем, что человек, которому он приписывал выдающиеся таланты, оказался ничтожеством.
– А вы вполне уверены в назначении? Хотите услышать совет женщины? – продолжала Селестина.
– Вы гораздо искуснее нас по части изящных предательств, – отвечал де Люпо, кивнув головой.
– Так вот: называйте и при дворе и в Конгрегации имя Бодуайе, чтобы уничтожить всякие подозрения и усыпить бдительность, а в последнюю минуту напишите: Рабурден.
– Есть такие женщины, которые говорят «да», пока мужчина им нужен, и «нет», когда его роль кончена, – промолвил де Люпо.
– Я тоже знаю таких, – рассмеялась она. – Но они очень глупы: ведь в политических кругах постоянно встречаешься все с теми же людьми. Так можно вести себя с дураками, а вы умны. По-моему, самая большая ошибка, которую можно совершить в жизни, – это поссориться с выдающимся человеком.
– Нет, не то! – сказал де Люпо. – Выдающийся человек простит. Опасно ссориться с мелкими, злобными душонками, которые только и заняты тем, как бы отомстить, а мне всю жизнь приходится иметь с ними дело.
Когда гости разъехались, Рабурден остался в комнате жены и, потребовав, чтобы она один раз в жизни внимательно его выслушала, изложил ей весь свой план: он показал ей, что стремится не сократить, а, наоборот, увеличить бюджет; объяснил, на что расходуются средства казны и как государство может увеличить во много раз оборот денег, участвуя на треть или на четверть в затратах, которых требуют частные или местные интересы. Ему удалось убедить ее в том, что его проект реформы вовсе не является пустой теорией, а сулит богатые возможности для своего практического осуществления. Селестина в восторге кинулась мужу на шею и, усадив его в кресло у камина, сама уселась к нему на колени.
– Значит, у меня теперь действительно такой муж, о котором я мечтала! – сказала она. – Я не знала твоих заслуг, и это спасло тебя от когтей де Люпо. Я искренне и очень удачно оклеветала тебя.
Рабурден плакал от счастья. Наконец-то и для него настал день торжества. Он совершил все ради своей жены, и аудитория, состоявшая из единственной слушательницы, признала его величие!
– А для того, кто знает, какой ты добрый, кроткий, рассудительный, любящий, ты вдвойне великий человек! – продолжала она. – Гений всегда более или менее дитя, и ты тоже, ты – мое милое дитя. – Она засунула руку за корсаж, вынула из этого излюбленного женского тайника приглашение и показала мужу. – Вот чего я добивалась, – пояснила она. – Де Люпо дал мне возможность лично встретиться с министром, и, будь его превосходительство хоть из бронзы, он на некоторое время станет моим слугой.
Со следующего же дня Селестина принялась готовиться к своему появлению у министра, в его интимном кружке. Это был для нее решающий день! Никогда куртизанка так не занималась своей наружностью, как занялась ею сейчас эта порядочная женщина. Никогда портниху так не терзали, и никогда еще портниха не понимала так ясно великое значение своего искусства. Словом, г-жа Рабурден не пренебрегла ни одной мелочью. Она самолично отправилась выбрать наемную карету, чтобы та не была ни слишком старой, ни мещанской, ни вызывающе роскошной. Она позаботилась о том, чтобы ее лакей, как и все лакеи хороших домов, сам был похож на барина. И вот, наконец, в знаменательный вторник, около десяти часов вечера, она выехала из дому в прелестном траурном туалете. Голова ее была убрана виноградными гроздьями из черного стекляруса художественной выделки – убор этот стоил тысячу экю, его заказала Фоссену какая-то англичанка, которая так и уехала, не взяв его. Листья, сделанные из железных пластинок, были тонко оттиснуты, совсем как настоящие, причем художник не позабыл сделать и усики, чтобы они грациозно обвивали локоны, как они обвивают в природе каждую ветку или стебелек. Браслеты, колье и серьги с подвесками были из так называемого берлинского железа; на самом же деле эти хрупкие арабески были венского происхождения, и чудилось, что они сделаны теми феями, которым в сказках какая-нибудь злая волшебница Карабос приказывает собрать глаза муравьев или выткать столь тонкую ткань, чтобы она уместилась в ореховой скорлупе. В черном наряде стан Селестины казался еще тоньше, и его стройность особенно подчеркивалась тщательно обдуманным покроем; платье с большим вырезом, открывающим плечи, держалось безо всяких бретелек; при каждом движении молодой женщины так и казалось, что она сейчас выскользнет из него, как мотылек из кокона, однако каким-то чудом все оставалось на месте благодаря хитроумной выдумке несравненной портнихи. Оно было из шерстяной кисеи, восхитительной ткани, тогда в Париже еще неизвестной и вскоре стяжавшей бешеный успех. Этот успех привел к более серьезным последствиям, чем обычно приводят моды во Франции. Свойства такой ткани позволяли женщинам экономить на стирке, и поэтому уменьшился спрос на бумажные материи, что произвело целый переворот в производстве Руанской фабрики. Ножки Селестины, обутые в тончайшие ажурные чулки и туфельки из турецкого сатина, – при глубоком трауре шелк не допускается, – поражали исключительным изяществом. Словом, Селестина была дивно хороша. После ванны из отрубей ее кожа приобрела особый, мягкий блеск. Глаза, увлажненные надеждой, светились умом и свидетельствовали о том превосходстве, которое тогда повсюду воспевал счастливый и гордый ею де Люпо
Она вошла хорошо– женщины поймут все значение этой формулы; грациозно поклонилась жене министра, соединив в этом поклоне должное уважение к хозяйке и сознание собственного достоинства, не ущемляя ее самолюбия, но сохраняя все свое величие, ибо красивая женщина – всегда царица. Поэтому же Селестина позволила себе и в отношении к министру милый и задорный тон, который женщинам не возбраняется в беседе с любым мужчиной, будь он даже принцем крови. Усаживаясь, она окинула взглядом поле битвы и убедилась, что попала на один из тех вечеров, где бывает избранное и очень немногочисленное общество; где женщины могут изучить и оценить друг друга; где малейшее слово слышат все; где каждый взгляд попадает в цель; где каждый разговор – это дуэль с секундантами; где все посредственное становится пошлостью, а все достойное признается без слов, как будто оно для присутствующих явление самое естественное. Рабурден удалился в соседнюю гостиную и простоял весь вечер у карточного стола, глядя на играющих, – чем доказал, что не лишен сообразительности.
– Ах, дорогая, – сказала маркиза д'Эспар графине Ферро, последней любовнице Людовика XVIII, – право же, Париж – несравненный город, только здесь совершенно неожиданно и неизвестно откуда появляются вот такие женщины: кажется, будто она все может и всего желает...
– Но она в самом деле все может и всего желает, – заметил, приосанившись, де Люпо.
А в это время хитрая Рабурденша старалась пленить жену министра. Получив накануне нужные указания от де Люпо, изучившего все слабые места графини, Селестина льстила ей с самым невинным видом. Затем она умолкла, так как де Люпо, невзирая на всю свою влюбленность, знал ее недостатки и еще накануне предостерег ее: «Главное, не говорите слишком много», – чем явно доказал свою искреннюю привязанность. Если Бертран Барер [77]77
Барер, Бертран (1755—1841) – член Конвента и Комитета общественного спасения.
[Закрыть]справедливо изрек: «Когда женщина танцует, не останавливай ее, чтобы дать ей полезный совет», – то его замечательную аксиому можно еще дополнить так: «Не упрекай женщину за то, что она понапрасну мечет бисер», и тогда к этой главе женских узаконений нечего будет прибавить. Вскоре разговор стал общим. Время от времени г-жа Рабурден осторожно вставляла словечко, – так благовоспитанная кошечка, пряча когти, кладет бархатную лапку на кружева хозяйки.
В сердечных делах министр отличался полнейшей скромностью: среди всех деятелей эпохи Реставрации трудно было найти другого человека, до такой степени утратившего способность к волокитству, и недаром органы оппозиции – «Мируар», «Пандора», «Фигаро» – не могли поставить ему в упрек даже какое-нибудь случайное увлечение. Его единственной возлюбленной была вечерняя газета «Этуаль» (которая, как это ни странно, осталась ему верна даже в беде, что, по-видимому, все же было ей выгодно). Об этой стороне жизни министра г-жа Рабурден знала; но она знала также, что привидения возвращаются в развалины замков, и вот она решила заставить министра позавидовать тому счастью – правда, отягощенному немалыми обязательствами, – которым, как могло казаться, наслаждался де Люпо.
А в это самое время де Люпо на все лады повторял имя Селестины. Желая создать успех своей мнимой любовнице, он из кожи лез и, вовлекая в разговор четырех собеседниц, стремился, при поддержке г-жи де Кан, внушить маркизе д'Эспар, г-же де Нусинген и графине, что они должны принять г-жу Рабурден в свою коалицию. Не прошло и часа, как министр оказался весьма заинтересованным Селестиной – ему нравился ее ум; она успела обольстить и его жену, и та просила эту сирену бывать у них почаще – они, мол, всегда рады будут ее видеть.
– Ведь вашего мужа, дорогая, скоро назначат директором, – сказала г-же Рабурден супруга министра. – Министр предполагает соединить два отделения и подчинить их одному лицу, тогда вы поневоле станете членом нашего кружка.
Его превосходительство увел Селестину посмотреть ту комнату в его апартаментах, которая своей якобы чрезмерной роскошью вызвала нарекания со стороны оппозиции, и убедиться в глупости журналистов. Он предложил ей руку.
– Право же, сударыня, вам следует почаще бывать у нас; вы этим доставите огромное удовольствие и мне и графине.
И он начал рассыпаться в чисто министерских любезностях.
– Но, граф, мне кажется, это от вас зависит, – отвечала она, бросив ему один из тех взглядов, которые всегда есть в резерве у женщин.
– Каким образом?
– Вы можете мне дать право на это.
– Объяснитесь!
– Нет, собираясь сюда, я решила, что не буду столь безвкусна и не явлюсь в роли просительницы
– Прошу вас, выскажитесь! Разговоры о месте уместныв любом месте!– засмеялся министр
Подобным серьезным людям нравятся только такого рода остроты
– Так вот, жене правителя канцелярии здесь бывать смешно, а жене начальника отделения – вполне уместно.
– Бросьте это, – сказал министр, – ваш муж – человек необходимый, он назначен.
– Это истинная правда?
– Ну, хотите посмотреть сами? Пойдемте в мой кабинет, там лежит назначение, все подготовлено.
– Что ж, – отозвалась она, продолжая стоять в стороне с министром, в торопливых заверениях которого было что-то подозрительное, – должна сказать вам, что я могу вас отблагодарить...
Она уже собиралась открыть ему план мужа, когда де Люпо, неслышно подошедший к ним, сердито пробормотал «гм... гм...» – показывая, что не намерен подслушивать (то, что, впрочем, уже успел подслушать) Министр с досадой покосился на старого фата, попавшегося в ловушку. Томимый жаждой поскорее одержать победу, де Люпо изо всех сил торопил подготовку приказа о назначениях, он успел вручить бумагу министру и мечтал самолично отвезти ее завтра той, которую считали его возлюбленной
В эту минуту с таинственным видом вошел камердинер министра и сообщил де Люпо, что его слуга просит немедленно передать своему барину письмо и предупредить, что оно чрезвычайно важное.
Секретарь министра подошел к одной из ламп и прочел записку, содержавшую следующее:
«Вопреки своему обыкновению, я ожидаю в прихожей, и вам надлежит, не теряя ни минуты, сговориться со мной.
Готовый к услугам Гобсек».
Секретарь министра содрогнулся, узнав подпись ростовщика, которую здесь жаль было бы не воспроизвести, ибо она на редкость соответствовала автору записки и представляет собою немалый интерес для тех, кто пытается узнать людей по их манере подписываться. Если иероглиф когда-либо выражал сущность какого-либо животного, то таким иероглифом была подпись Гобсека, где первая и последняя буквы образовывали ненасытную акулью пасть, которая всегда разинута, захватывает и пожирает всех, слабого и сильного. Трудно было бы воссоздать весь текст, до того почерк был тонок, уборист, мелок, хотя и отчетлив; но его легко себе представить, если мы скажем, что вся фраза умещалась в одной строке. Только дух ростовщичества мог внушить фразу столь дерзко повелительную и столь холодно вежливую, ясную и вместе с тем загадочную: в ней все было сказано, но она ничего не выдавала. Если бы вы и не встречали Гобсека, то по одной этой строке, которой нельзя было ослушаться, хотя в ней и не содержалось приказа, можно было почувствовать, чтó за человек этот беспощадный ростовщик с улицы Грэ. Вот почему де Люпо, точно собака, которую позвал охотник, перестал преследовать дичь и отправился к себе, размышляя об опасности, угрожавшей его карьере. Представьте себе главнокомандующего, которому его адъютант только что сообщил: «Неприятель получил подкрепление, свежие силы в тридцать тысяч человек заходят с фланга».
Достаточно нескольких слов, чтобы объяснить, почему на поле боя появились господа Жигонне и Гобсек (ибо де Люпо застал у себя на квартире их обоих). В восемь часов вечера Мартен Фалейкс – примчавшийся, как вихрь, с помощью форейтора и трех франков кучеру на водку – привез купчие крепости, помеченные вчерашним числом. Митраль тотчас доставил их в кофейню «Фемида», оба ростовщика завладели ими и поспешили в министерство – впрочем, пешечком. Пробило одиннадцать. Увидев эти две зловещие физиономии, встретив их пристальные взгляды, которые пронзали, как пистолетная пуля, и сверкали, как огонь выстрела, де Люпо вздрогнул.








