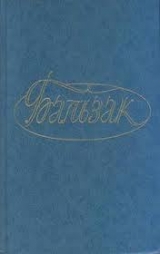
Текст книги "Чиновники"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– Он и добр и учен, – сказал Бодуайе, пожимая руки священнику. – Это вы составили заметку? – спросил он, указывая на газету.
– Нет, – отвечал Годрон, – ее написал секретарь его высокопреосвященства, некий молодой аббат, который очень многим мне обязан и заинтересован в судьбе господина Кольвиля; я когда-то платил за него в семинарию.
– Благодеяние всегда бывает вознаграждено, – изрек Бодуайе.
Пока эта четверка усаживалась за карточный стол, чтобы предаться бостону, Елизавета и ее дядя Митраль подъезжали к кафе «Фемида»; они проговорили всю дорогу о том плане, который, как подсказывало Елизавете ее чутье, должен был послужить самым мощным рычагом и принудить министра к назначению ее мужа. Дядя Митраль, бывший судебный исполнитель, весьма опытный по части всякого крючкотворства, юридических махинаций и уловок, считал, что торжество племянника – вопрос чести для всей семьи. Жадность давно подстрекнула его разузнать, каково содержимое денежного сундука Бидо, и он знал, что наследником будет его племянник Бодуайе; поэтому ему хотелось, чтобы тот занял положение, соответствующее состоянию Сайяров и Бидо, которое целиком должно было перейти к маленькой Бодуайе. А на что не может претендовать девушка, которой предстоит иметь ренту, превышающую сто тысяч франков! Он проникся замыслами племянницы и понимал, куда она гнет. Поэтому он ускорил отъезд Фалейкса, объяснив ему, как медленно путешествуют в почтовой карете. Потом, за обедом, он обдумал, где именно следовало нажать пружину, изобретенную Елизаветой. Когда они подъехали к «Фемиде», Митраль заявил племяннице, что только он может обделать дело с Бидо-Жигонне, и заставил ее остаться в фиакре: пусть вмешается в нужный момент. Через окно она увидела Гобсека и своего деда Бидо-Жигонне: головы их выделялись на ярко-желтом фоне деревянной обшивки, покрывавшей стены этой старинной кофейни, холодные и бесстрастные, как бы застывшие в тех поворотах, которые им придал резчик. Вокруг этих двух парижских скряг виднелось еще несколько старых лиц, сплошь исчерченных от носа до припухших омертвелых скул вязью морщин, словно то были записи по тридцатипроцентному учету векселей. При виде Митраля эти лица оживились, в глазах вспыхнуло любопытство хищников.
– Эге! Да это папаша Митраль! – воскликнул Шабуассо. Старичишка занимался учетом векселей в книжных лавках.
– А ведь верно, – отвечал Метивье, торговец бумагой. – Это старая обезьяна – он знаток по части гримас.
– А вы – старый ворон и знаток по части трупов, – отозвался Митраль.
– Справедливо, – изрек суровый Гобсек.
– Зачем вы явились сюда, сын мой? Уж не хотите ли вы арестовать нашего друга Метивье? – спросил Жигонне, указывая на торговца бумагой, похожего на старого привратника.
– Папаша, – шепнул Митраль Жигонне, – со мной ваша внучатая племянница Елизавета.
– А что – или беда какая приключилась? – спросил Жигонне.
Старик нахмурился, и на его лице появилось подобие нежности, напоминающей нежность палача, приступающего к казни; невзирая на свою чисто римскую стойкость, Жигонне, видимо, встревожился, ибо его багровый нос слегка побледнел.
– А если бы и беда – неужели вы бы не помогли дочери Сайяра, которая вам уже тридцать лет вяжет чулки? – воскликнул Митраль.
– При соответствующих гарантиях, может быть, и помог бы, – отвечал Жигонне. – Наверно, тут не без Фалейкса. Ваш Фалейкс устроил брата биржевым маклером, он делает дела не хуже, чем Брезаки, а спрашивается – на какие средства? Одной смекалкой, не так ли? Впрочем, Сайяр и сам не дитя.
– Он знает цену деньгам, – подтвердил Шабуассо.
Эти слова, произнесенные устами одного из сидевших вокруг стола страшных стариков, заставили бы писателя содрогнуться; остальные дружно закивали.
– Впрочем, бедствия моих родственников меня не касаются, – продолжал Жигонне. – Мое правило – никогда не раскисать ни с друзьями, ни с родными; где тонко, там и рвется. Обратитесь к Гобсеку, он добрый.
Дисконтеры закивали металлическими головами в знак полного согласия с подобной теорией, и, казалось, послышался скрип несмазанных механизмов.
– Да ну, Жигонне, будьте помягче, вам же тридцать лет чулки вязали, – заметил Шабуассо.
– Это тоже чего-нибудь да стоит, – сказал Гобсек.
– Тут все свои, и можно говорить откровенно, – снова начал Митраль, окинув стариков внимательным взглядом. – Меня привело сюда хорошее дельце...
– Зачем же вы к нам пришли, коли оно хорошее? – язвительно перебил его Жигонне.
– Умер некий камер-юнкер, старый шуан... как его... да, ла Биллардиер.
– Верно, – подтвердил Гобсек.
– А ваш племянник жертвует дароносицы в церковь! – сказал Жигонне.
– Не так он глуп, чтобы жертвовать, он продает их, папаша, – с гордостью продолжал Митраль. – Речь идет о том, чтобы получить место господина де ла Биллардиера, а для этого необходимо сцапать...
– Сцапать? Сразу видно судебного пристава, – прервал Митраля Метивье, дружески хлопнув его по плечу. – Вот это по мне!
– Сцапать этого молодца Шардена де Люпо, забрать его в наши лапки, – пояснил Митраль. – И вот Елизавета придумала способ... и он...
– Елизавета! – воскликнул Жигонне, снова прервав его. – Славная девчурка, вся в деда, моего бедного брата! Бидо не имел себе равных! О, если бы вы видели его на распродажах старинной мебели! Какой такт! Какая проницательность! Так что же она намерена сделать?
– Ну и ну, – сказал Митраль, – вы быстро расчувствовались, папаша Бидо. Это недаром...
– Дитя! – сказал Гобсек, обращаясь к Жигонне. – Всегда спешит!
– Послушайте, учители мои Гобсек и Жигонне, – продолжал Митраль, – ведь вам нужно забрать в свои руки де Люпо, вспомните, как знатно вы ощипали его, а теперь вы боитесь, чтобы он не потребовал у вас обратно немножко своего пуха.
– Можно ему рассказать, в чем дело? – спросил Гобсек у Жигонне.
– Митраль – наш, он не захочет сделать гадость своим прежним соратникам, – отвечал Жигонне. – Так вот, Митраль, мы втроем только что скупили долговые обязательства, признание которых зависит от ликвидационной комиссии.
– Чем вы можете пожертвовать? – спросил Митраль.
– Ничем, – отозвался Гобсек.
– Никто не знает, что это мы купили, – пояснил Жигонне. – Нам служит ширмой Саманон.
– Послушайте, Жигонне, – сказал Митраль. – На улице холод, а ваша внучатая племянница ждет... Так вот, вы меня поймете с двух слов: вы оба должны послать двести пятьдесят тысяч франков, в виде беспроцентного займа, Фалейксу, который сейчас мчится на почтовых за тридцать лье от Парижа, а вперед выслал курьера.
– Вот как? – сказал Гобсек.
– Куда же он едет? – воскликнул Жигонне.
– Да в великолепное поместье де Люпо, – продолжал Митраль. – Молодой человек отлично знает те места и на упомянутые двести пятьдесят тысяч франков скупит вокруг лачуги секретаря министра превосходные земельные участки – они всегда будут стоить этих денег. В его распоряжении девять дней, чтобы зарегистрировать нотариальные купчие (имейте это в виду). Если добавить эту землицу к владениям де Люпо, налог на них дойдет до тысячи франков. Следовательно, секретарь получит право быть членом Главной избирательной коллегии, а также самому быть избранным в палату, сделаться графом – словом, всем, чем ему угодно. Вы знаете фамилию депутата, который провалился и был отозван?
Оба скряги только молча кивнули.
– Де Люпо готов хоть на животе ползти, только бы ему пролезть в депутаты, – продолжал Митраль. – Для этого он хочет запастись купчими крепостями, а мы их предложим ему, но, конечно, обеспечив нашу ссуду закладной с замещением права продажи. (Ага, вы уже смекнули, куда я гну...) Нам прежде всего нужно получить место для Бодуайе, а потом мы отдадим вам этого де Люпо обеими руками. Фалейкс останется там и займется предвыборными делами; значит, через Фалейкса вы будете держать де Люпо на прицеле все время выборов, – ведь в этом округе друзья Фалейкса составляют большинство. Ну как, папаша Бидо, Фалейкс тут при чем или ни при чем?
– Но тут не обошлось и без Митраля, – заметил Метивье. – Ловкая игра!
– Значит, решено, – сказал Жигонне. – Верно, Гобсек? Фалейкс подпишет нам векселя под обеспечение, а закладную составит на свое имя, и мы, когда нужно будет, явимся к де Люпо.
– А нас, выходит, обкрадут! – сказал Гобсек.
– Ох, папаша, хотел бы я видеть того вора, который вас обкрадет.
– В данном случае только мы сами можем обокрасть себя, – отвечал Жигонне. – Мы решили, что правильно сделаем, скупив у всех кредиторов де Люпо векселя со скидкой в шестьдесят процентов.
– Вы обеспечите их закладной и этими векселями будете еще крепче держать его при помощи процентов, – отвечал Митраль.
– Может быть, – сказал Гобсек.
Перемигнувшись с Гобсеком, г-н Бидо, по прозванию Дрыгун, вышел на улицу.
– Елизавета, действуй, – сказал он внучатой племяннице. – Молодчик у нас в руках, но все же смотри в оба! Дело начато хорошо, хитро! Доведи его до конца – и ты заслужишь уважение своего деда... – И он весело хлопнул ее по руке.
– Кстати, – заметил Митраль, – Метивье и Шабуассо могут подсобить нам, если отправятся нынче же вечером в редакцию какой-нибудь оппозиционной газетки, чтобы там, как мяч на лету, подхватили статью министерской газеты. Поезжай одна, душечка, я не хочу упускать этих двух коршунов. – И он вернулся в кофейню.
– Завтра деньги пойдут по назначению, главноуправляющий налоговыми сборами окажет нам эту услугу; а у наших друзейнайдутся долговые обязательства де Люпо на сто тысяч экю, – сказал Жигонне Митралю, когда судебный пристав подошел к ростовщику.
На другой день многочисленные подписчики одной из либеральных газет прочли на первой полосе заметку, помещенную по требованию Шабуассо и Метивье, ибо они были акционерами двух либеральных газет, дисконтерами по бумажной и книжной торговле, а также по типографским предприятиям, и ни один редактор ни в чем не смел отказать им. Вот эта заметка:
«Вчера некая газета, близкая к министерским кругам, отмечала, что преемником барона де ла Биллардиера будет, по всей вероятности, господин Бодуайе, один из наиболее достойных граждан, стяжавший славу в своем многолюдном квартале как благотворительностью, так и благочестием, которое газета клерикалов особенно подчеркивает, хотя могла бы упомянуть и о талантах господина Бодуайе! Но подумала ли редакция о том, что, восхваляя древность того буржуазного рода, к которому принадлежит господин Бодуайе, – а такие роды ничуть не уступают дворянским, – она тем самым указала и на обстоятельство, которое может повлечь за собою провал ее кандидата? О, извращенное коварство! Так прелестница ласкает того, кого хочет убить. Отдать господину Бодуайе место барона де ла Биллардиера – значило бы воздать должное добродетелям и талантам средних классов, интересы которых мы неизменно будем защищать, хотя нам нередко и приходится терпеть поражение. Назначить господина Бодуайе было бы справедливо и с моральной и с политической точки зрения, но министерство на такой акт не решится. Газета клерикалов оказалась в данном случае умнее своих патронов, и ее будут бранить».
На другой день, в пятницу, де Люпо должен был обедать у г-жи Рабурден, с которой простился накануне в полночь, на лестнице Итальянского театра, когда она, сияя красотой, спускалась под руку с г-жой де Кан (г-жа Фирмиани только что вышла замуж); утром, едва старый распутник проснулся, он почувствовал, что жажда мести несколько в нем утихла, вернее – мысли о ней приняли другое направление: он только и видел последний взгляд, который послала ему г-жа Рабурден.
«Рабурдена я куплю тем, что сначала прощу ему, – размышлял де Люпо, – а потом возьму свое! Если же он сейчас не получит этого места, то мне придется отказаться от женщины, которая могла бы стать одним из драгоценнейших орудий для большой политической карьеры, – она все понимает, она не отступит ни перед какой трудностью; и, кроме того, я потеряю тогда возможность узнать раньше, чем министр, какой план преобразований придумал Рабурден! Итак, дорогой де Люпо, нужно все преодолеть ради вашей Селестины. И вы, графиня, напрасно делаете гримасу: вам все-таки придется пригласить г-жу Рабурден на первый же ваш интимный вечер...»
Де Люпо принадлежал к числу тех людей, которые ради удовлетворения какой-либо страсти умеют запрятать мстительные чувства в самый дальний угол своего сердца. Выбор был сделан, и де Люпо решил добиться назначения Рабурдена.
«Я докажу вам, дорогой начальник отделения, что заслуживаю одного из лучших мест на вашей дипломатической каторге», – мысленно обратился он к Рабурдену, усаживаясь за свой письменный стол и распечатывая пачку газет.
Еще накануне, к пяти часам вечера, все, что должно было появиться в клерикальной газете, было ему слишком хорошо известно, чтобы взяться за нее с интересом, однако он развернул ее, так как захотел пробежать некролог де ла Биллардиера, вспомнив, в какое затруднительное положение поставил его дю Брюэль, принеся ироническую заметку Бисиу. Де Люпо не мог удержаться от смеха, перечитывая вновь биографию покойного барона де Фонтэна, скончавшегося за несколько месяцев до того, которую он просто перепечатал, лишь заменив в ней имя де Фонтэна именем ла Биллардиера; но вдруг его взгляд натолкнулся на фамилию Бодуайе, и де Люпо пришел в ярость, читая елейную статью, с которой министерство будет вынуждено считаться. Он нетерпеливо позвонил и вызвал к себе Дютока, решив послать его в редакцию газеты. Каково же было его изумление, когда он увидел ответ оппозиции! Ибо случайно ему сразу же попала в руки газета либералов. Дело становилось серьезным. Он хорошо знал этих людей, и тот, кто смешал его карты, показался ему шулером первой руки. Надо быть мастером своего дела, чтобы воспользоваться так искусно двумя газетами противоположного направления и сразу же, в один и тот же день, начать битву, предугадав намерение министра. Он узнал перо знакомого редактора-либерала и решил расспросить его вечером в Опере. Вошел Дюток.
– Прочтите, – сказал де Люпо, протягивая ему обе газеты, а сам продолжая просматривать остальные, чтобы проверить, не нажал ли Бодуайе еще какие-нибудь пружины. – Пойдите узнайте, кто осмелился так компрометировать министерство!
– Уж во всяком случае не сам господин Бодуайе, – отвечал Дюток. – Он вчера не выходил из своей канцелярии. И незачем мне ездить в редакцию. Когда я относил вчера вашу статью, я видел там аббата, он явился с письмом от Церковного управления по раздаче подаяний, а перед такой силой вы и сами бы склонились.
– Вы, Дюток, злы на господина Рабурдена, и это нехорошо, он ведь два раза спасал вас от увольнения. Правда, мы не властны над своими чувствами, и можно ненавидеть даже своего благодетеля. Но знайте одно: если вы позволите себе по отношению к Рабурдену хотя бы малейшую измену до того, как я вам подам знак, – можете считать меня вашим врагом. Что же касается газеты моего друга, то пусть Церковное управление даст ей столько подписчиков, сколько давали мы, если оно хочет в ней хозяйничать. Сейчас конец года, вопрос о подписке будет скоро обсуждаться, тогда сговоримся. А относительно места ла Биллардиера: есть только одно средство покончить со всеми разговорами – это решить вопрос о назначении сегодня же.
– Господа, – обратился к своим сослуживцам Дюток, возвратясь в канцелярию. – Я не знаю, имеет ли Бисиу дар провидеть будущее. Но если вы не читали газеты клерикалов, то советую вам ознакомиться со статьей о Бодуайе, а так как у господина Флeри есть газета оппозиции, вы можете там прочесть и ответ. Разумеется, господин Рабурден очень умен, но человек, который в наше время жертвует в церковь дароносицы по шесть тысяч франков, тоже чертовски умен.
Бисиу (входя). Что вы скажете насчет «Первого послания к коринфянам» в нашей церковной газете и «Послания к министрам» в органе либералов? Ну, дю Брюэль, как себя чувствует господин Рабурден?
Дю Брюэль (появляется в дверях). Не осведомлен. (Уводит Бисиу в свой кабинет и говорит ему вполголоса.)Знаете, милейший, вашей манерой оказывать людям содействие вы сильно напоминаете палача, когда он вскакивает на плечи своей жертвы, чтобы скорее ее прикончить. По вашей милости я получил от де Люпо ужасный нагоняй, и поделом мне, дураку! Нечего сказать, хорошую статью состряпали о ла Биллардиере! Уж этого я вам никогда не забуду! Первой фразой королю как будто заявляют: «Пора умирать». А из фразы о Кибероне следует, что король – это... Словом, все сплошная насмешка.
Бисиу (смеется). Как? Вы сердитесь? Нельзя и пошутить!
Дю Брюэль. Шутить! шутить! Вот когда вы, милейший, захотите стать помощником правителя канцелярии, вам тоже ответят шутками.
Бисиу (угрожающе). Вы, кажется, действительно рассердились?
Дю Брюэль. Да.
Бисиу (сухо). Что ж? Тем хуже для вас.
Дю Брюэль (он задумался и встревожен). А вы бы сами разве простили?
Бисиу (вкрадчиво). Другу? Я думаю! (Слышен голос Флeри.)Вон Флeри проклинает Бодуайе. А, каково сыграно? Бодуайе получит место. (Доверительно.)В конце концов тем лучше! Вы только хорошенько взвесьте все последствия. Рабурден не унизится до того, чтобы служить под началом у Бодуайе, он подаст в отставку, и, таким образом, освободятся два места. Вы сделаетесь правителем канцелярии, а меня возьмете помощником. Мы будем вместе сочинять водевили, и я буду корпеть вместо вас в канцелярии.
Дю Брюэль (улыбаясь). Действительно! Об этом я не подумал! Бедный Рабурден! Все-таки мне было бы его жалко.
Бисиу. Вот как вы его любите! (Другим тоном.)Если хотите знать, – мне его ничуть не жалко. Ведь он же богат; его жена устраивает вечера, но меня не зовет, а я бываю везде! Ну, добрейший дю Брюэль, прощайте и не сердитесь! (Выходит из кабинета.)Прощайте, господа. Разве я не говорил вам еще вчера, что если у человека есть только добродетели да таланты, он все-таки очень беден, даже при хорошенькой жене.
Флeри. Сами-то вы богаты!
Бисиу. Не так уж беден, дорогой Цинциннат! Но обедом в «Роше-де-Канкаль» вы меня угостите!
Пуаре. Когда господин Бисиу говорит, я решительно ничего не могу понять.
Фельон (элегическим тоном). Господин Рабурден так редко читает газеты, что, может быть, нам следовало бы ненадолго расстаться с ними и отнести их ему?
(Флeри протягивает ему свою газету, Виме – газету, получаемую канцелярией; Фельон берет их и выходит).
В эту минуту де Люпо, отправляясь завтракать с министром, спрашивал себя, не предусмотрительнее ли, прежде чем пускать в ход свою утонченную и беспринципную изворотливость для защиты мужа, позондировать сердце жены и узнать, будет ли он сам вознагражден за свою преданность. Секретарь старался разобраться в слабых голосах тех чувств, которые все же прозябали в его сердце, когда повстречался на лестнице со своим поверенным, и тот, улыбаясь, сказал ему с фамильярностью, присущей людям, знающим, что ты в них нуждаешься:
– Только два слова, ваше превосходительство!
– А что такое, милый Дерош? – спросил политик. – Что со мной стряслось? Они бесятся, эти господа, и не умеют поступать, как я, то есть ждать.
– Я спешил предупредить вас, что все ваши векселя в руках у Гобсека и Жигонне, который действует от имени некоего Саманона.
– Это люди, которым я дал возможность нажить огромные деньги!
– Слушайте, – зашептал ему на ухо поверенный, – настоящее имя Жигонне – Бидо, он дядя Сайяра, вашего кассира, а Сайяр – тесть некоего Бодуайе, который считает, что имеет права на освободившееся место в вашем министерстве. Разве не мой долг предупредить вас?
– Благодарствуйте! – И де Люпо с хитрым видом отвесил поклон Дерошу.
– Достаточно одного росчерка пера, и все ваши долги ликвидированы, – сказал Дерош уходя.
«Вот это действительно огромная жертва, – подумал де Люпо, – но сказать о ней женщине невозможно, – продолжал он свои размышления. – Стоит ли Селестина ликвидации всех моих долгов? Поеду к ней утром».
Таким образом, прекрасной г-же Рабурден предстояло через несколько часов быть вершительницей судеб своего мужа, причем никакая сила не могла подсказать ей заранее все значение ее ответов, хоть бы чем-нибудь предупредить ее о всей важности того, как именно она будет держаться и каким тоном говорить. А она, к несчастью, была уверена в победе: она не знала, что под Рабурдена со всех сторон ведутся подкопы.
– Ну, что, ваше превосходительство, – начал де Люпо, входя в маленькую гостиную, где обычно завтракал министр, – читали вы все эти статьи о Бодуайе?
– Ради бога, дорогой мой, – отвечал министр, – не будем сейчас говорить о назначениях. Мне и так вчера все уши прожужжали этой дароносицей. Чтобы спасти Рабурдена, придется протаскивать его через Совет, иначе мне навяжут еще кого-нибудь. Прямо хоть бросай дела. Для сохранения Рабурдена придется повысить еще какого-то Кольвиля.
– Угодно вам предоставить постановку этого водевиля мне и не терять на него ваше время? – предложил де Люпо. – Я буду каждое утро увеселять вас рассказами о той партии в шахматы, которую я буду играть против Церковного управления.
– Ну что ж, – отвечал министр, – беритесь за это дело вместе с начальником личного стола. Известно ли вам, что самыми убедительными для короля могут оказаться именно доводы, приводимые газетой оппозиции? А потом и управляй министерством с такими тупицами, как Бодуайе.
– Дурак и ханжа, – заметил де Люпо, – он бездарен, как...
– Как ла Биллардиер, – докончил министр.
– У Биллардиера были хоть манеры камер-юнкера, – заметил де Люпо. – Сударыня, – обратился он к графине, – теперь вам следовало бы пригласить госпожу Рабурден на первый же ваш интимный вечер... Позволю себе заметить, что она дружна с госпожой де Кан; они вчера вместе были у Итальянцев, и я познакомился с ней у Фирмиани; впрочем, вы сами увидите, может ли она скомпрометировать своим присутствием чей-нибудь салон.
– В самом деле, пригласите-ка, дорогая, госпожу Рабурден, и кончим с этим, – сказал министр.
«Итак, Селестина попалась ко мне в лапы», – сказал себе де Люпо, возвращаясь домой, чтобы переодеться.
Парижские семьи обуреваемы желанием идти в ногу с роскошью, которую они видят вокруг себя, и лишь немногие настолько благоразумны, чтобы согласовать свою жизнь со своим бюджетом. Быть может, этот порок проистекает из чисто французского патриотизма, цель которого – сохранить за Францией первенство в области одежды. Ведь благодаря умению одеваться Франция царит над всей Европой, и каждый чувствует, что необходимо оберегать то коммерческое превосходство, вследствие которого мода играет для Франции такую же роль, какую играет для Англии флот.
Это патриотическое безумие, готовое все принести в жертву «обличью», как говорил д'Обинье во времена Генриха IV, является причиной безмерных и тайных трудов, отнимающих у парижских женщин все утро, если они хотят во что бы то ни стало, как этого хотела г-жа Рабурден, вести при двенадцати тысячах франков такой же образ жизни, какой богатые люди не могут позволить себе при тридцати. Итак, по пятницам, в дни званых обедов, г-жа Рабурден помогала горничной убирать комнаты, ибо кухарка отправлялась с раннего утра на рынок, а лакей чистил серебро, складывал салфетки и перетирал хрусталь. Поэтому, если бы недогадливый гость вздумал явиться в одиннадцать или двенадцать часов дня, он застал бы Селестину среди отнюдь не живописного беспорядка, в капоте, в стоптанных туфлях, с неубранной головой; он увидел бы, как она сама заправляет лампы, сама расставляет жардиньерки или наспех стряпает себе весьма прозаический завтрак. И гость, не знающий секретов парижской жизни, убедился бы, что не следует заглядывать за театральные кулисы: женщина, застигнутая им во время ее утренних таинств, объявила бы его способным на всякие низости, ославила бы его за глупость и нетактичность и погубила бы его репутацию. Парижанка, столь снисходительная к любопытству, которое для нее выгодно, беспощадна в тех случаях, когда оно угрожает ее престижу. Подобное вторжение в ее дом не является, как выразилась бы исправительная полиция, покушением на стыдливость, но кражей со взломом, кражей самого драгоценного – общественного уважения! Женщина ничуть не обижается, когда ее застают неодетой, с распущенными волосами – конечно, если волосы у нее не накладные, – она от этого только выиграет; но она не хочет, чтобы видели, как она сама убирает комнаты, ибо при этом страдает ее «обличье».
Когда нежданно-негаданно явился де Люпо, г-жа Рабурден была в пылу хозяйственных приготовлений, и перед ней лежала провизия, только что выловленная кухаркой из бездонного океана рынка. И уж, конечно, Селестина меньше всего ожидала увидеть перед собой секретаря министра; услышав мужские шаги на площадке лестницы, она воскликнула: «Неужели парикмахер!» – восклицание, столь же мало обрадовавшее де Люпо, как его приход – г-жу Рабурден Она тотчас убежала в свою спальню, где царил ужасающий хаос, ибо туда была составлена мебель, которую не хотели показывать, вещи, лишенные изящества; словом, там был настоящий домашний содом. Растерявшаяся красавица показалась де Люпо настолько пикантной в своем дезабилье, что он дерзко последовал за ней. Его манило что-то особенно соблазнительное; тело, мелькнувшее в разрезе ночной кофточки, кажется в тысячу раз привлекательнее, чем когда оно обрамлено овальным вырезом бархатного платья на спине и выглядывает из корсажа двумя белыми округлостями, переходящими в самую прелестную лебединую шею, которую когда-либо целовал любовник перед балом. Когда окидываешь взглядом разряженную женщину, показывающую свой великолепный бюст, то кажется, что это как бы обдуманный десерт некоего сытного обеда; но взгляд, проскользнувший между складками ткани, смятой во время сна, схватывает самые лакомые кусочки и наслаждается ими, словно украденным плодом, алеющим меж листьев на шпалере.
– Подождите, подождите! – воскликнула хорошенькая парижанка, запираясь на ключ в своей загроможденной спальне.
Она звонила горничной Терезе, звала кухарку, лакея, требовала шаль, чтобы прикрыться, и ждала, как артистка в Опере, внезапной перемены декораций. И декорации сменились. Последовал еще феномен! Комната преобразилась, приняв тот же оттенок пикантности, что и туалет хозяйки, которому та мгновенно придала нечто художественное – к чести своей, показав себя и в этом незаурядной женщиной.
– Вы? – удивилась она. – И в такой час? Что-нибудь случилось?
– Произошли чрезвычайно важные события, – отвечал де Люпо, – и сегодня нам необходимо объясниться друг с другом до конца.
Селестина посмотрела в глаза этого человека, сквозь стекла его очков, и все поняла.
– Мой главный грех в том, – сказала она, – что я ужасная чудачка и никогда не смешиваю сердечных чувств с политикой; давайте же говорить о политике, о делах, а там посмотрим. Это, впрочем, не простая прихоть, но свойство моего художественного вкуса, который внушает мне отвращение к кричащим краскам, к сочетанию несоединимого и требует, чтобы я избегала диссонансов. У нас, женщин, тоже своя политика!
Под влиянием ее голоса, ее мягких движений грубый напор секретаря министра чуть было не сменился сентиментальной галантностью: Селестина напомнила де Люпо о его обязанностях поклонника. Хорошенькая женщина при известном опыте умеет создать вокруг себя такую атмосферу, в которой нервное возбуждение проходит, страстные порывы затихают.
– Вы не знаете о том, что произошло, – нарочито грубо прервал ее де Люпо. – Прочтите.
И он протянул прелестной Селестине обе газеты, в которых обвел соответствующие заметки красным карандашом. Пока она читала, края шали на ее груди разошлись, – случайно или неслучайно, и она этого не заметила или не хотела замечать. Де Люпо находился в том возрасте, когда желания вспыхивают тем настойчивее, чем быстрее они гаснут, и он настолько же не владел собой, насколько владела собой Селестина.
– Как? – сказала она. – Кто такой этот Бодуайе?
– Этот Бодуайе способен метко боднуть, – отозвался де Люпо, – пред сим золотым тельцом преклонилась сама церковь, и он добьется своей цели, его ведет на веревочке ловкая рука.
Перед г-жой Рабурден пронеслось воспоминание о ее долгах и ослепило ее, как будто подряд вспыхнули две молнии; в ушах зашумело от прилива крови; она стояла недвижно, опешив, уставившись невидящим взором на розетку портьеры.
– Но ведь вы-то верны нам! – сказала она де Люпо, лаская его взглядом, чтобы покрепче привязать.
– Смотря по тому... – проговорил он, отвечая на ее взгляд столь испытующим взглядом, что бедняжка вспыхнула.
– Если вы требуете задатка, вы не получите награды, – отозвалась она смеясь. – Я считала вас выше, чем вы есть. А вы, видно, принимаете меня за девочку, пансионерку...
– Вы меня не поняли, – проговорил он с тонкой усмешкой. – Я хотел сказать, что не могу помогать человеку, который действует против меня, точно Ветреник против Маскариля [76]76
Ветреники Маскариль– персонажи из комедия Мольера «Ветреник». Ловкий лакей Маскариль старается устроить любовные дела своего молодого хозяина, но тот сумасбродными выходками беспрестанно разрушает интриги своего слуги.
[Закрыть].
– Как вас понять?
– Вот доказательство моего великодушия. – Он протянул г-же Рабурден копию рукописи, выкраденной Дютоком, и указал ей то место, где ее муж так глубокомысленно раскритиковал его. – Прочтите! – сказал он. Селестина узнала почерк мужа, прочла и побледнела от этого страшного удара. – Так он разобрал по всем статьям и остальных чиновников.
– Но, к счастью, – заметила она, – только вы имеете в руках эти записки, смысла которых я совершенно не могу понять.
– Тот, кто выкрал их, не такой дурак, чтобы не оставить себе дублет, он слишком лжив, чтобы в этом признаться, и слишком хитер, чтобы отдать; я не пробовал даже заговаривать с ним об этом.
– Кто он такой?
– Ваш письмоводитель!
– Дюток! Всегда бываешь наказан за свои благодеяния! Но ведь это пес, которому надо кинуть кость.
– А знаете, что предлагают мне, секретарю министра, бедняку?
– Что же?
– У меня есть долги – какие-то несчастные тридцать тысяч... или немножко больше, и вы, вероятно, будете презирать меня, узнав о такой ничтожной сумме, – но, как бы там ни было, в этих делах у меня нет размаха. Так вот! Дедушка этого Бодуайе сейчас скупил мои векселя и, видимо, намерен их предъявить мне.
– Но что за дьявольский замысел!
– Нисколько, напротив, – весьма монархический и благочестивый, ибо здесь замешано Церковное управление по раздаче подаяний.
– Как же вы поступите?
– А как вы мне прикажете поступить? – спросил он с обаятельной грацией и протянул к Селестине руку.
Госпожа Рабурден уже забыла о том, что он некрасив, стар, что пудра сыплется с него, как иней, что он секретарь министра, что он так отвратителен; но руки своей она не дала: вечером, в гостиной, она разрешила бы ему взять эту руку хоть сотню раз, но утром и наедине этот жест мог бы означать слишком прямое, ясное обещание и завести чересчур далеко.








