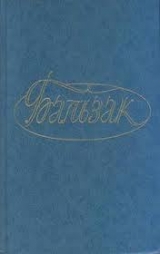
Текст книги "Чиновники"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Чтобы стать депутатом, надо было платить тысячу франков налога, а жалкий домишко де Люпо едва приносил пятьсот франков в год. Где же взять денег, чтобы вместо дома построить замок, окружить его значительными земельными владениями и во время своих наездов туда пускать пыль в глаза всей округе? Хотя де Люпо обедал каждый день в гостях, хотя вот уже девять лет как имел казенную квартиру и держал лошадей за счет министерства, в тот период его жизни, когда начинается наше повествование, за ним, после всех расчетов, оставалось еще на тридцать тысяч долгов, уплаты которых никто, впрочем, пока не требовал. Но только брак мог спасти честолюбца из трясины этих долгов; однако выгодный брак зависел от его служебного продвижения, а продвижение – от звания депутата. Стремясь вырваться из этого порочного круга, он видел только два выхода: или оказать кому-нибудь огромную, незабываемую услугу, или состряпать какое-нибудь исключительно выгодное дельце. Но, увы! Заговоры были не в моде, и Бурбоны, видимо, взяли верх надо всеми партиями. Кроме того, за истекшие несколько лет правительство столько раз подвергалось критике в результате глупейших нападок левой, которая старалась сделать невозможным во Франции всякое правительство вообще, что предпринимать политические аферы было уже невозможно. Последние имели место в Испании – и сколько же о них кричали! Для де Люпо трудности еще возросли оттого, что он поверил в дружеские чувства своего министра и имел неосторожность признаться ему в своем желании попасть на министерские скамьи. Министры догадались, откуда у него это желание: де Люпо хотел упрочить свое шаткое положение и впредь от них не зависеть. Лягавый пес взбунтовался против охотников. Видя это, министры то били его плеткой, то ласкали; они создали ему соперников, – однако де Люпо повел себя, как опытная куртизанка с начинающей: он ловко расставил соперникам капканы, они попались, и он живо с ними расправился. Чем более он чувствовал себя под угрозой, тем сильнее ему хотелось раздобыть несменяемую должность; однако играть нужно было крайне осторожно, ибо можно было сразу все потерять. Росчерк пера – и полетят его эполеты полковника гражданской службы, его инспекторство, его синекура в «Анонимном обществе», обе его штатные должности со всеми их преимуществами: в целом – шесть мест, которые ему удалось сохранить под обстрелом закона о совместительстве. Он не раз грозил своему министру, как угрожает женщина любовнику, и заявлял, что женится на богатой вдове; и тогда министр начинал ублажать своего дорогого де Люпо. Во время одного из таких примирений ему, наконец, совершенно официально посулили место в Академии надписей и литературы при первой же вакансии, но этого, говорил он, ему могло хватить на одну понюшку.
Клеман Шарден де Люпо находился в крайне выгодном положении: он напоминал дерево, посаженное в благоприятную почву. Он мог дать волю своим порокам и фантазиям, своим добродетелям и своим недостаткам.
Его труды сводились к следующему: ежедневно из пяти-шести домов, куда он бывал приглашен к обеду, он должен был выбрать тот, где лучше всего кормят. Каждый день он приходил на утренний прием к министру – посмешить своего начальника и его жену, приласкать детей и поиграть с ними. Затем час-другой работал, то есть, развалившись в удобнейшем кресле, просматривал газеты, диктовал письма; или, когда министра не было дома, принимал посетителей, объяснял чиновникам в общих чертах их задачу, выслушивал или давал пустые обещания; глядя через очки, небрежно пробегал прошения и делал пометки на полях, означавшие: «Мне наплевать, решайте, как хотите!» Все чиновники знали, что только если де Люпо лично заинтересован кем-либо или чем-либо, он в дело вмешивается сам. Секретарь разрешал старшим чиновникам непринужденно болтать о разных щекотливых вопросах и прислушивался к их пересудам. Время от времени он ездил во дворец, чтобы получить очередной лозунг. И наконец, когда бывали заседания, дожидался приезда министра из палаты, чтобы узнать, не следует ли придумать и осуществить какие-нибудь маневры. Затем министерский сибарит переодевался, обедал и от восьми часов вечера до трех часов ночи посещал десять – пятнадцать салонов. В Опере он беседовал с журналистами, так как был с ними на короткой ноге; между ними и де Люпо происходил непрерывный обмен мелкими услугами, он выкладывал им свои сомнительные новости и жадно слушал их сплетни; он удерживал их от нападения на того или другого министра по тому или другому поводу, уверяя, что это слишком огорчит жену министра или любовницу.
– Заявите, что новый законопроект никуда не годится, и, если можете, приведите доказательства, но не вздумайте писать, что Мариетта плохо танцевала. Браните нас сколько угодно за привязанность к нашим ближним в юбках, но не выдавайте наших холостых проказ. Черт возьми! Всем надо перебеситься, а что ждет нас впереди – неизвестно, уж такие пришли времена. Вот вы, друг мой, сейчас подсаливаете статьи в «Конститюсьонеле», а можете сделаться министром!
В отплату он оказывал услуги издателям, устранял препятствия для постановки какой-нибудь пьесы, кстати выхлопатывал денежные награды, угощал, кого нужно, хорошим обедом, обещал содействовать окончанию какого-нибудь дела. Впрочем, он искренне любил литературу и покровительствовал искусствам: у него было собрание автографов, великолепные альбомы, полученные бесплатно эскизы и картины. Он делал много добра художникам уже тем, что не вредил им и поддерживал их в тех случаях, когда мог без особых затрат потешить их самолюбие. Поэтому все эти художники, актеры, журналисты любили его. Во-первых, они страдали теми же пороками и той же ленью, что и их покровитель, а потом и он и они так ловко вышучивали всех и вся между двумя встречами с танцовщицами! Как же тут не подружиться! Не будь де Люпо секретарем министра, он был бы журналистом. И за пятнадцать лет борьбы, пока колотушка эпиграммы не пробила брешь, через которую прорвалось возмущение, де Люпо не получил даже царапины.
Видя этого человека в министерском саду играющим в шары с детьми его превосходительства, чиновничья мелкота тщетно ломала себе голову, стараясь разгадать тайну его влияния и характер его деятельности, а канцелярские политиканы из всех министерств считали его опаснейшим Мефистофелем, преклонялись перед ним и возвращали ему с процентами ту лесть, которую он расточал в высших сферах. Польза, приносимая секретарем министра, непостижимая, как загадочный иероглиф, для людей маленьких, была ясна, как дважды два четыре, для заинтересованных лиц. В его задачу входило отбирать советы и идеи, делать устные доклады, – и этот принц Ваграмский [27]27
Принц Ваграмский– титул Бертье, маршала Наполеона I.
[Закрыть]в миниатюре при министерском Наполеоне знал все тайны парламентской политики, подогревал колеблющихся, вносил, а то и разносил предложения, изрекал вслух те «да» и «нет», на которые не отваживался министр. Готовый принимать на себя первые удары и первые взрывы отчаяния или гнева, он скорбел и радовался вместе с министром, являясь одним из тайных звеньев, связующих интересы многих с дворцом, и, умея хранить секреты, как духовник, он, казалось, знал все и ничего не знал; помимо этого, он говорил о министре то, что самому министру было бы трудно сказать о себе. И наконец с этим политическим Гефестионом [28]28
Гефестион(ум. в 324 г. до н. э.) – соратник и ближайший друг Александра Македонского.
[Закрыть]министр позволял себе быть самим собой: снять парик и вынуть искусственную челюсть, отложить тревоги и забыться, надеть ночные туфли, совлечь покровы со своих мошенничеств и разуть свою совесть. Однако положение де Люпо было не из легких: он льстил своему министру и давал ему советы, вынужденный прикрывать лесть советом и совет – лестью. Почти у всех политических деятелей, занимающихся подобным ремеслом, довольно желчный цвет лица, а постоянная привычка утвердительно кивать головой, соглашаясь с тем, что тебе говорят, или делая вид, будто соглашаешься, придает их чертам какое-то странное выражение. Ведь такие люди одобряют решительно все, что бы ни сказали в их присутствии, и речь их уснащена всевозможными «но», «однако», «все же», «я бы на вашем месте» (им особенно часто приходится говорить «на вашем месте») – словом, всеми оговорками, которые служат переходом к возражениям.
По внешности Клеман де Люпо представлял собой как бы остатки красивого мужчины: рост – пять футов четыре дюйма, полнота еще терпимая, лицо красное от излишеств и потасканное, напудренные волосы, причесанные а ля Тит Андроник, небольшие очки в тонкой оправе; видимо, он был когда-то белокур, судя по рукам, белым и пухлым, какие бывают у состарившихся блондинок, с тупыми пальцами и короткими ногтями – рукам сатрапа. Нога была не лишена изящества. После пяти часов де Люпо появлялся всюду в неизменном наряде: шелковые ажурные чулки, башмаки, черные панталоны, кашемировый жилет с золотой цепочкой от часов, синий фрак с резными пуговицами и орденскими ленточками; его батистовый носовой платок не был надушен. По утрам же он носил сапоги со скрипом, серые панталоны и коротенький сюртучишко. И тут он гораздо больше напоминал продувного стряпчего, чем министра. Когда он случайно снимал очки, его глаза беспомощно моргали, и это делало его более некрасивым, чем он был на самом деле. Для людей проницательных и честных, которым дышится легко только в атмосфере правдивости, де Люпо был невыносим: в его слащавых манерах так и сквозила лживость, его любезные заверения и милые шутки, всегда новые для дураков, были слишком затасканы. Каждый, кто обладал проницательностью, видел, что это – подгнившая доска и что на нее ни в коем случае надеяться не следует. Как только прекрасная г-жа Рабурден снизошла до заботы о служебной карьере своего мужа, она тут же разгадала, что за человек Клеман де Люпо, и принялась изучать его, желая узнать, сохранилось ли в этой гнилушке хоть несколько крепких древесных волокон, чтобы по ней можно было ловко перебежать от канцелярии к отделению, а от восьми тысяч франков – к двенадцати; и выдающаяся женщина решила, что ей удастся провести этого развращенного политикана. Таким образом, г-н де Люпо оказался отчасти виновником тех чрезвычайных издержек в доме Рабурденов, от которых, раз начав, Селестина уже не могла отказаться.
На улице Дюфо, застроенной во времена Империи, стояло несколько домов с красивыми фасадами и удобными квартирами. Помещение, занимаемое Рабурденами, было чрезвычайно удачно расположено – преимущество, немало способствующее облагораживанию домашней жизни. Поместительная и премиленькая прихожая, окнами во двор, вела в большую гостиную, выходившую на улицу. Направо от гостиной были кабинет и спальня самого Рабурдена, за ними – столовая, имевшая выход в прихожую; налево – спальня г-жи Рабурден, ее туалетная и комнатка дочери. В дни приемов двери в кабинет хозяина и в спальню хозяйки стояли открытыми. Просторные комнаты давали Рабурденам возможность принимать у себя избранное общество, и их вечера не имели того оттенка комизма, которым отличаются вечера в иных мещанских домах, где приходится ради больших приемов прибегать к перестановкам и нарушать распорядок повседневной жизни. Гостиную заново обили желтым шелком с коричневым рисунком; спальню г-жи Рабурден обтянули «настоящими персидскими» тканями и обставили мебелью в стиле рококо. В кабинет Рабурдена перекочевала обивка гостиной, тщательно вычищенная, а на стенах появились прекрасные полотна, оставшиеся после Лепренса. Столовую дочь оценщика убрала коврами, купленными по случаю ее отцом, – чудесными турецкими коврами, обрамленными старым черным деревом, которому сейчас нет цены. Обстановку этой комнаты довершали восхитительные буфеты Буль [29]29
...буфеты Буль...– художественная, богато инкрустированная мебель в «стиле Буль», названа по имени французского художника-мебельщика Андре-Шарля Буля (1642—1732).
[Закрыть], также приобретенные покойным, а на самом видном месте поблескивали медными инкрустациями своей черепаховой облицовки те часы на цоколе, которые вошли в моду, когда пробудился интерес к шедеврам XVII века, и, заметим кстати, появились впервые именно у г-жи Рабурден.
Цветы наполняли своим благоуханием эти комнаты, убранные с таким вкусом и полные красивых вещей; каждая мелочь здесь являлась произведением искусства, была умело выделена и гармонировала с окружающими предметами; а среди всего этого г-жа Рабурден, одетая с той оригинальной простотой, какая присуща только художественным натурам, принимала гостей, держась как женщина, настолько привыкшая к красоте и роскоши, что она их даже не замечает, и предоставляла блеску своего ума довершать впечатление, производимое прекрасным ансамблем. Как только рококо вошло в моду, о Селестине заговорили, – этим она была обязана отцу.
Хотя де Люпо и привык ко всем видам роскоши, большой и малой, поддельной и настоящей, но, очутившись у г-жи Рабурден, он все же изумился; парижский Асмодей [30]30
Асмодей– злой демон еврейских сказаний.
[Закрыть]был словно заворожен, а почему – нам пояснит сравнение. Представьте себе путешественника, утомившегося тысячей живописнейших пейзажей Италии, Бразилии, Индии; но вот он возвращается на родину и по пути вдруг видит перед собой прелестное маленькое озеро, подобное хотя бы озерцу Орта у подножия Монте-Розы, – зеленый остров среди тихих вод, миловидный и простой, наивный и все же нарядный, одинокий и все же не заброшенный: его украшают грациозные купы деревьев, стройные статуи... Берега озера пустынны, но возделаны; все грандиозное и его тревоги остались позади... Здесь же все соразмерно человеку. Огромный мир, некогда открывшийся путешественнику, снова предстает пред ним в малом виде, скромный и чистый; и его отдохнувшая душа зовет его остаться здесь, ибо какое-то певучее и поэтическое очарование овевает его своей гармонией, будит в нем все живые помыслы. Это и монастырь и жизнь!
За несколько дней до того прекрасная г-жа Фирмиани, одна из самых прелестных женщин Сен-Жерменского предместья, очень любившая г-жу Рабурден и принимавшая ее у себя, спросила де Люпо (который и приглашен был нарочно затем, чтобы услышать эту фразу): «Почему вы не бываете у госпожи Рабурден? – И, указав при этом на Селестину, хозяйка продолжала: – Она дает прелестные вечера, а особенно обеды... они вкуснее, чем у меня». Обольстительной г-же Рабурден удалось выманить у него обещание, что он посетит ее, причем, беседуя с де Люпо, она впервые подняла на него глаза. Он отправился-таки на улицу Дюфо, – разве этим не все сказано? Как замечает Фигаро, женщина хитрит только на один лад, но зато действует без промаха. Обедая впервые у скромного правителя канцелярии, де Люпо решил повторять иногда эти посещения. И вот, благодаря сдержанному и скромному кокетству очаровательной женщины, которую ее соперница, г-жа Кольвиль, прозвала Селименой [31]31
Селимена– персонаж комедии Мольера «Мизантроп» (1766); тип светской кокетки.
[Закрыть]с улицы Дюфо, он целый месяц там обедал каждую пятницу и, уже повинуясь собственному влечению, приходил по средам выпить чашку чаю. А г-жа Рабурден, после весьма умелой и тонкой разведки, уже несколько дней, как, наконец, решила, что ею все-таки найдено на прогнившей министерской доске то место, куда в случае надобности можно будет поставить ножку. И ничуть не сомневалась в успехе. Ее радость способны понять только семьи чиновников, где за три-четыре года вперед подсчитываются достатки, ожидающие их после желанного назначения, мечту о котором они так нежно ласкают и лелеют. Наконец-то удастся избавиться от всех этих мук, от молений, обращенных к министерским божествам, от визитов к нужным людям! Да, благодаря своей решительности г-жа Рабурден уже слышала, как бьет тот час, который должен принести ей двадцать тысяч в год вместо восьми.
«И вела я себя хорошо, – размышляла она при этом. – Правда, я несколько поиздержалась; но что поделаешь, мы живем в такое время, когда никто не станет разыскивать скрытые добродетели; если же быть на виду, оставаться в обществе, поддерживать отношения с людьми и завязывать новые, то можно все-таки преуспеть. В конце концов, министры и их друзья интересуются только теми, кого они видят, а Рабурден совершенно не знает света. Если бы я не окрутила этих трех депутатов, они, может быть, сами польстились бы на место де ла Биллардиера; а так как они бывают у меня, то им совестно соперничать с нами, и они готовы нас поддержать. Пусть я немного и пококетничала, но, к счастью, можно было ограничиться самыми невинными пустяками, которые нравятся мужчинам».
В день, когда неожиданно началась настоящая борьба за место Биллардиера, после обеда у министра, перед одним из тех вечеров, которым министры придают официальный характер, де Люпо стоял у камина, подле хозяйки дома. Отпивая маленькими глотками кофе, он снова отозвался о г-же Рабурден как об одной из семи-восьми самых выдающихся женщин парижского света. Не впервые он упоминал ее имя: он действовал им, как капрал Трим – своей шапкой.
– Не повторяйте этого слишком часто, мой друг, вы ей только повредите, – заметила с усмешкой жена министра.
Но какой женщине приятно, когда в ее присутствии превозносят другую? Каждая непременно постарается вставить слово и прибавит к похвале каплю уксуса.
– Бедняга де ла Биллардиер при смерти, – сказал его превосходительство, – и место должно перейти к Рабурдену, ведь это один из наших опытнейших чиновников; наши предшественники были к нему несправедливы, хотя один из них и получил полицейскую префектуру лишь благодаря некоему лицу, взявшему с него обещание содействовать Рабурдену. Право же, мой друг, вы еще достаточно молоды, чтобы вас любили ради вас самих...
– Если место де ла Биллардиера достанется Рабурдену, значит, мне можно верить, когда я говорю о превосходстве его жены, – отозвался де Люпо, почувствовав иронию в словах министра, – но если графине угодно убедиться самой...
– ...то я должна пригласить ее к себе на первый же бал, не правда ли? И ваша выдающаяся женщина появится здесь среди особ, которые только затем и ездят ко мне, чтобы над нами насмехаться; и они услышат, как лакей доложит: «Госпожа Рабурден»?
– А разве на приемах у министра иностранных дел не докладывают: «Госпожа Фирмиани»?
– Ну, ведь она же урожденная Кадиньян!.. – с живостью возразил новоиспеченный граф, метнув грозный взгляд на своего секретаря, ибо ни он, ни его супруга не были дворянского происхождения.
Многие из присутствующих решили, что разговор идет о важных делах, и просители не осмеливались подойти. Когда де Люпо ушел, новоиспеченная графиня сказала мужу:
– Кажется, де Люпо влюблен.
– Тогда это первый раз в его жизни, – ответил супруг, пожав плечами и словно желая сказать, что де Люпо такими пустяками не занимается.
Тут министр увидел входящего депутата центра и покинул жену, чтобы обласкать его и привлечь на свою сторону этот еще не определившийся голос. Однако депутат, на которого обрушилась нежданная беда, хотел заручиться протекцией на будущее и пришел сообщить по секрету, что вынужден на днях сложить свои полномочия. Таким образом, министерство, получив предупреждение, могло начать обстрел раньше, чем оппозиция.
Министр, вернее де Люпо, пригласил в тот день к обеду одного из бессменных служащих министерства – вы найдете их в любом ведомстве. Этот чиновник, чувствовавший себя здесь довольно неловко, все же старался придать себе достойный вид и точно окаменел на месте, вытянувшись и плотно сдвинув ноги, как египетская мумия.
Стоя возле камина, он ждал подходящей минуты, чтобы поблагодарить секретаря министра, и уже придумал соответствующую любезность, когда де Люпо внезапно удалился. Чиновник этот был не кто иной, как министерский кассир – единственный человек, не боявшийся смены министров.
В ту пору бюджет, составляемый палатой, еще не был столь скаредной и убогой стряпней, какой он является в наше печальное время; тогда в нем гнусно не урезывалось министерское жалованье, государство не экономило, выражаясь кухонным языком, «на объедках» и каждому министру, вступавшему на свой пост, предоставляло, так сказать, подъемные. Ведь, увы, стать министром и перестать им быть – стоит денег! Если человек делается министром, это влечет за собой всевозможные расходы, иные из них неприлично даже и подсчитывать! Подъемные же составляли кругленькую сумму в двадцать пять тысяч франков. Приказ публиковался в «Монитере», и пока чиновники – и важные и мелкота, – сидя перед печкой или камином и сотрясаемые опасной бурей перемещений, гадали в тревоге за свои места: а что этот придумает, увеличит ли он число чиновников, выгонит ли двух, чтобы посадить на их место трех? – невозмутимый кассир, отсчитав двадцать пять новеньких банковых билетов, скалывал их булавкой, и на его лице, елейном, как у соборного привратника, запечатлевалось выражение почтительной радости. Он поднимался по внутренней лестнице в апартаменты министра и внушал его людям, не делающим различия между деньгами и тем, кому они доверены, между содержимым и содержащим, между идеей и формой, чтобы они тотчас доложили о нем, как только его превосходительство проснется. Кассир обычно заставал министерскую чету на заре восторгов, когда государственный муж еще бывает благодушен и щедр. В ответ на вопрос министра: «Что вам угодно?» – кассир извлекал из кармана пачку радужных кредиток и, вручая их, ответствовал, что поспешил-де принести его превосходительству причитающиеся подъемные, а затем, обращаясь к его супруге, разъяснял, что так уж принято, а она, изумленная и обрадованная, немедленно завладевала частью этой суммы, а то и всей целиком. Вопрос о сохранении за кассиром его места решался, так сказать, семейным образом. Кассир делал обходный маневр и как бы вскользь подпускал министру несколько фраз вроде следующих: если их превосходительство соблаговолят сохранить за ним его должность, если они останутся довольны этой чисто механической работой, если... и т. д. Но так как человек, приносящий вам двадцать пять тысяч франков, не может не быть хорошим чиновником, то кассир обычно уходил от министра, получив обещание, что останется на своем посту, с которого он наблюдал уже четверть века, как министры приходят, уходят и отходят в вечность. Затем, угождая супруге министра, он приносил тринадцать тысяч министерского жалованья в те минуты, когда они были ей всего нужнее, то упреждая срок, то запаздывая, согласно ее приказаниям, и благодаря всем этим маневрам, по старинному монастырскому выражению, сберегал себе голос в капитуле.
Кассир Сайяр служил бухгалтером в казначействе, когда там велась двойная бухгалтерия; с ее упразднением он был переведен в министерство. Это был тучный и грузный человек, очень сильный по части счетных книг и очень слабый во всем остальном, круглый как нуль, простой как «здравствуйте»; размеренной слоновьей поступью шествовал он на службу и такой же поступью возвращался на Королевскую площадь, где проживал в нижнем этаже собственного дома. Попутчиком ему служил обычно г-н Изидор Бодуайе, правитель канцелярии в отделении г-на ла Биллардиера и сослуживец Рабурдена, женатый на единственной дочери кассира Елизавете и, разумеется, поселившийся в верхней квартире того же дома. Никто в министерстве не сомневался, что папаша Сайяр глуп, но никто не знал, до чего он глуп. Эта глупость была настолько непроходима, что ее невозможно было исследовать до дна, в ней не рождалось никакого отзвука, она все поглощала без возврата. Некий Бисиу (об этом чиновнике речь впереди) нарисовал карикатуру на кассира – голова в парике, посаженная на яйцо, под ним – коротенькие ножки и подпись: «Рожденный, чтобы платить и получать, никогда не ошибаясь в счете. Немного меньше удачи – и быть бы ему артельщиком в банке; немного больше честолюбия – и быть бы ему уволенным».
Министр смотрел на своего кассира, как смотрят на карниз или лепной орнамент, даже не представляя себе, что орнамент может услышать его или разгадать его тайную мысль.
– Я желал бы обделать это дело с префектом в полной тайне, тем более что ведь у де Люпо есть кое-какие претензии, – говорил министр депутату, слагающему свои полномочия, – его домишко в вашем округе, а мы его избрания не желаем...
– Он слишком молод, и у него нет ценза [32]32
Он слишком молод, и у него нет ценза...– В годы Реставрации во Франции членами палаты депутатов могли быть только лица, достигшие сорокалетнего возраста и платившие не менее ста франков прямых налогов.
[Закрыть], – отвечал депутат.
– Да, но ведь известно, как разрешили вопрос о возрасте в отношении Казимира Перье [33]33
Перье, Казимир (1777—1832), Манюэль, Жак-Антуан (1775—1827) – французские политические деятели, принадлежавшие в период Реставрации к различным группам либеральной оппозиии. Упоминая имена Перье и Манюэля, министр в своей беседе с депутатом намекает на обычную для буржуазной избирательной системы фальсификацию выборов в парламент.
[Закрыть]. Что касается годового дохода, то у де Люпо есть кой-какая собственность, – правда, она ничего не стоит, однако законом не возбраняется расширить свою недвижимость и кое-что прикупить. Комиссии обычно смотрят на все это сквозь пальцы, когда дело касается депутатов центра, а нам трудно будет противиться открыто, если этого субъекта захотят избрать.
– Но где же он возьмет деньги, чтобы прикупить недвижимость?
– А каким образом Манюэль [33]33
Перье, Казимир (1777—1832), Манюэль, Жак-Антуан (1775—1827) – французские политические деятели, принадлежавшие в период Реставрации к различным группам либеральной оппозиии. Упоминая имена Перье и Манюэля, министр в своей беседе с депутатом намекает на обычную для буржуазной избирательной системы фальсификацию выборов в парламент.
[Закрыть]оказался владельцем дома в Париже? – воскликнул министр.
«Орнамент» слушал, и притом поневоле. Хотя этот оживленный диалог и велся шепотом, однако, по какому-то еще малоисследованному капризу акустики, достигал до ушей кассира. И, знаете ли вы, какое чувство овладело толстяком, когда он услышал эти политические секреты? Невыразимый ужас! Сайяр принадлежал к той породе наивных людей, которые приходят в отчаяние от одного опасения, что кто-нибудь заподозрит, будто они подслушивают то, чего им слышать не следует, или нарочно входят туда, куда их не зовут, и они, вопреки своей скромности, прослывут любопытными и дерзкими.
Поэтому кассир, неслышно скользя по ковру, поспешил отступить, и, когда министр его наконец заметил, он оказался в дальнем конце комнаты. Сайяр, преданный министерский служака, был нем, как могила, и неспособен на малейшую болтливость. Если бы министр знал, что кассир слышал его тайну, ему достаточно было бы сказать: ни гу-гу!
Сайяр воспользовался тем, что царедворцы все прибывали, подозвал фиакр, который он нанимал в своем квартале по часам в дни разорительных визитов, и вернулся к себе на Королевскую площадь.
В то время как папаша Сайяр разъезжал по улицам Парижа, его зять и его дорогая Елизавета занимались добродетельным бостоном в обществе своего духовника, аббата Годрона, нескольких соседей и некоего Мартена Фалейкса, владельца литейной мастерской в Сент-Антуанском предместье, которому именно Сайяр и ссудил необходимый капитал, чтобы тот мог открыть это выгодное предприятие.
Фалейкс, честный овернец, явившись в Париж с плавильным чаном за спиной, тут же поступил к Брезакам, известным спекулянтам, приобретавшим на слом старинные замки. Затем двадцатисемилетний Мартен Фалейкс, жаждущий, как и все, благосостояния, имел счастье вступить в компанию с г-ном Сайяром, давшим ему средства для эксплуатации некоего изобретения в литейном деле (получившего патент и золотую медаль на выставке 1825 года). Г-жа Бодуайе, единственной дочери которой, по выражению папаши Сайяра, уже «перевалило за двенадцать», остановила свой выбор на Фалейксе: это был коренастый, смуглый, чернявый юноша, энергичный, очень честный, – и она занялась его воспитанием. Согласно представлениям г-жи Бодуайе, воспитание это состояло в том, чтобы научить славного овернца играть в бостон, правильно держать карты и не позволять другим в них заглядывать; чтобы перед тем, как являться к ней, бриться и тщательно мыть руки простым мылом, не божиться, говорить на ее французском языке, носить сапоги вместо башмаков, коленкоровые рубашки вместо грубых холщовых, не прилизывать волосы. И вот уже неделя, как Елизавете удалось уговорить Фалейкса вытащить из ушей огромные плоские кольца, напоминавшие серсо.
– Вы слишком многого хотите, госпожа Бодуайе, – сказал он, видя, как она счастлива, что добилась от него этой жертвы, – совсем надо мной власть забрали: заставляете зубы чистить, а они от этого только расшатываются; скоро вы потребуете, чтобы я чистил ногти да завивал волосы, а в нашем деле это не принято, у нас щеголей не любят.
Елизавета Бодуайе, урожденная Сайяр, была одной из тех женщин, которые не поддаются кисти художника по причине своей крайней заурядности; вместе с тем они заслуживают описания, так как это типичные представительницы парижской мелкой буржуазии, стоящей на социальной лестнице выше ремесленников и ниже крупной буржуазии; их добродетели не лучше пороков, в их недостатках нет и тени привлекательности, однако их нравы, хотя и проникнуты мещанством, все же не лишены своеобразия. Елизавета выглядела до того хилой, что просто тоска брала смотреть на нее. Ростом она была чуть повыше четырех футов и притом настолько худа, что ширина ее талии едва ли превышала пол-локтя. Мелкие черты, как бы стянутые к носу, придавали ее лицу какое-то сходство с мордочкой ласки. Хотя ей стукнуло уже тридцать, она все еще производила впечатление шестнадцати-семнадцатилетней девицы. Ее голубые, как фаянс, глаза с тяжелыми веками, словно идущими от самых бровей, не отличались блеском. Все в ней было незначительно: и белесые волосы, и плоский тусклый лоб, и серый, почти свинцовый цвет кожи. Нижняя часть лица, скорее треугольная, чем овальная, завершала эту физиономию, банальную даже в своей неправильности. Кисло-сладкие интонации ее голоска не лишены были, впрочем, приятности. Словом, Елизавета была типичной мещаночкой, которая вечером, в постели, дает мужу практические советы; ее добродетелям грош цена, за ее честолюбием не кроется никаких более широких замыслов, оно плод домашнего эгоизма; живи она в деревне, она стремилась бы округлить свои владения, а будучи женой чиновника, желала, чтобы муж получил повышение по службе. Описать жизнь ее родителей, ее детство – значит сказать о ней все.
Господин Сайяр женился на дочери купца, торговавшего мебелью под навесом Центрального рынка. Крайняя скудость их средств вынуждала родителей Елизаветы к непрерывным лишениям. Сайяры, как их звали в округе, после тридцатитрехлетнего супружества и двадцатидевятилетнего сидения г-на Сайяра в конторах, все же сколотили капитал, состоявший из шестидесяти тысяч франков, доверенных Фалейксу, стоимости дома на Королевской площади, приобретенного в 1804 году за сорок тысяч, и тридцати шести тысяч франков, которые они давали за дочерью. В их капитал вошли и пятьдесят тысяч, доставшиеся им по наследству от вдовы Бидо, матери г-жи Сайяр. Жалованье Сайяра не превышало четырех с половиной тысяч, ибо его должность представляла собой настоящий служебный тупик и никого не прельщала. Поэтому девяносто тысяч франков были скоплены Сайярами по грошам, путем поистине скаредной экономии, и помещены чрезвычайно глупо. Действительно, Сайяры не знали иного способа пускать свои деньги в оборот, как относить их небольшими суммами – по пять тысяч франков – нотариусу Сорбье, предшественнику Кардо, и помещать их из пяти процентов под первую закладную, с распространением права взыскания на жену, если заемщик женат.








