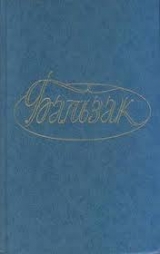
Текст книги "Модеста Миньон"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Жермен, – окликнул Каналис своего камердинера, когда тот уже собирался выйти из комнаты. – Подай нам шампанского и бордо. Пусть член корпорации нормандских писцов сохранит память о гостеприимстве поэта... А кроме того, он остроумен, как фельетонисты из «Фигаро», – сказал Каналис, похлопав карлика по плечу. – Газетное его остроумие забьет фонтаном и запенится вместе с шампанским. Мы от вас не отстанем, не так ли, Эрнест? Честное слово, вот уже два года, как я не был пьян, – продолжал он, поглядев на Лабриера.
– От вина? Ну, конечно. Зачем вам вино? – ответил клерк. – Вы каждый день опьяняетесь самим собою! Вы пьете полной чашей из источника похвал. Не удивительно! Вы красивы, вы поэт, вы знамениты еще при жизни, блеск вашего красноречия равен блеску вашего таланта, и вы нравитесь всем женщинам, даже жене моего патрона. Вы любимы самой прекрасной султаншей, какую я когда-либо видел (правда, до сих пор я других султанш не встречал), а если захотите, можете жениться на мадемуазель де Лабасти... Смотрите, сколько у вас преимуществ, не считая будущих – высокий титул, звание пэра, пост посланника. От одного их перечисления я уже захмелел, как люди, разливающие в бутылки чужое вино.
– Все это блестящее положение – ничто, – заметил Каналис, – если нет солидной основы, которая придает ему цену, а именно – богатства! Мы здесь в мужской компании, и я могу откровенно признаться, что прекрасные чувства хороши только в стансах.
– И в нужный момент, – сказал клерк, подчеркнув свои слова выразительным жестом.
– Но вы должны знать не хуже меня, господин составитель контрактов, некоторые рифмы, – сказал поэт, улыбаясь этому замечанию: – «Любовь под сенью шалаша» – «в кармане ни гроша».
За столом Бутша так разошелся в роли Ригодена из комедии «Дом разыгрывается в лотерею» [96]96
«Дом разыгрывается в лотерею»– комедия, написанная французскими драматургами Пикаром Луи-Франсуа и Наде Жаном-Батистом в 1817 году.
[Закрыть], что напугал Эрнеста, которому было незнакомо соленое острословие нотариальных контор, не уступающее острословию мастерских. Клерк пересказал скандальную хронику Гавра, истории нажитых богатств, разоблачил альковные тайны и преступления, совершаемые с кодексом законов в руке, благодаря которому люди «выходят сухими из воды». Он никого не пощадил. Остроумие его росло вместе с потоком вина, вливавшегося в его глотку, как грозовой ливень в водосточную трубу.
– Знаешь, Лабриер, – сказал Каналис, подливая клерку шампанского, – из этого славного малого вышел бы замечательный секретарь посольства...
– Такой замечательный, что он мог бы подсидетьсвоего патрона! – заметил карлик, бросая на Каналиса взгляд, дерзость которого потонула в пене шампанского. – Благодарности во мне нет ни чуточки, зато вполне достаточно пронырливости, чтобы сесть вам на шею. Этакого большого поэта оседлает недоносок!.. Здорово, а? Что ж, это случается и даже довольно часто... в издательском деле. Ну что вы смотрите на меня, как на шпагоглотателя? Эх, дорогой гений, вы же незаурядный человек, поскольку вы гений, и прекрасно понимаете, что только дураки верят в благодарность. Сие понятие значится в словаре, но отсутствует в человеческом сердце. Благодарность имеет цену лишь на горных высотах, которые не называются ни Парнасом, ни Пиндом [97]97
Пинд– древнее название горы в Северной Греции (современное название Аграфа); по верованиям древних греков, одно из местопребываний бога Аполлона и муз.
[Закрыть]. Уж не думаете ли вы, что я должен в ноги кланяться жене моего патрона за то, что она меня воспитала? Как бы не так! Разве я у нее в долгу? Весь город уплатил ей по этому счету уважением, похвалами, восхищением – словом, самой полноценной монетой. Я не признаю добрых дел, которыми пользуются, как капиталом, чтобы получить проценты в виде удовлетворенного самолюбия. Люди торгуют услугами, а благодарность, попросту говоря, – барыш, вот и все. А интрига особая статья: она мое божество. Бросьте, – сказал он в ответ на возмущенный жест Каналиса, – разве вы не преклоняетесь перед способностью изворотливого человека, умеющего взять верх над человеком гениальным? Ведь такая способность означает зоркий глаз, неусыпную бдительность, наблюдательность; умение подметить пороки и слабости власть имущих и уловить благоприятный момент. Спросите у дипломатов, разве их самый блестящий успех не является победой хитрости над силой? И будь я вашим секретарем, барон, вы бы скоро стали первым министром, потому что я был бы в этом заинтересован, и даже очень! Хотите получить доказательство моих дарований? Слушайте, вы обожаете мадемуазель Модесту, и вы правы. Она молодчина – настоящая парижанка. Уважаю таких! Иногда и в провинции попадаются парижанки. Наша Модеста – девица с головой, она поможет мужу сделать карьеру... В ней есть что-то, – проговорил он, прищелкивая пальцами. – Но у вас опасный соперник в лице герцога. Что вы мне дадите, если я через три дня спроважу его из Гавра?
– Допьем эту бутылку, – проговорил поэт, наполняя стакан Бутши.
– Вы меня напоите допьяна, – сказал клерк, поглощая девятый бокал шампанского. – Найдется ли у вас постель, где бы я мог поспать часок-другой? Мой патрон воздержан, как осел, да он и есть настоящий осел, а супруга его – жирафа! Строгие особы! Пожалуй, еще будут меня бранить за то, что я выпил. Ну, и верно: у них в голове хоть и пусто, да она не кружится, у меня ума палата, да я весь его растерял, а мне еще надо сегодня составлять всякие акты-контракты... – Затем, следуя особой логике пьяных, он воскликнул: – Экая память! Не уступит моей благодарности.
– Бутша, – воскликнул поэт, – ты только сейчас говорил, что не умеешь быть благодарным! Ты себе противоречишь.
– Ни капли, – продолжал клерк. – Забвение – знак презрения. А то, что надо, я помню крепко. Будьте уверены, из меня получится знатный секретарь.
– Но как ты примешься за дело, чтобы спровадить герцога? – спросил Каналис, очень довольный тем, что разговор принял желательное направление.
– Сие вас не касается! – проговорил клерк, громко икнув.
С трудом поворачивая голову, Бутша переводил взгляд с Жермена на Лабриера и с Лабриера на Каналиса, как это делают люди, когда чувствуют, что пьянеют, и опасаются, не понизилось ли к ним уважение окружающих, ибо когда в вине тонут все чувства, на поверхности остается лишь самолюбие.
– Послушайте, великий поэт, вы, я вижу, большой шутник! Неужто вы принимаете меня за одного из ваших читателей? Я все понимаю. Ведь это вы заставили своего друга скакать во весь опор в Париж, вы послали его собрать сведения о семействе Миньон... Я все понимаю, я все привираю, ты привираешь, мы привираем... Ладно! Но будьте так любезны, не считайте меня дураком. Поверьте, я о своем положении никогда не забываю. У меня во всем расчет. У старшего клерка мэтра Латурнеля сердце словно несгораемый шкаф... Язык мой не выдаст ни единой тайны клиентов. Я знаю все, а будто ничего не знаю. Да еще вот что – моя страсть всем известна. Модеста – моя любовь, моя ученица, она должна сделать хорошую партию... И я улестил бы герцога, если б это понадобилось. Но вы женитесь...
– Жермен, кофе и ликеры! – приказал Каналис.
– Ликеры? – повторил Бутша, закрываясь рукой, словно полудева, которая пытается противостоять искушению. – Ах, бедные мои акты-контракты! Среди них как раз есть брачный контракт. А знаете, младший клерк у нас глуп, как пробка. Перепутает статьи в контракте и... по...по...посягнет, по...пожалуй, на неотъемлемое достояние будущей супруги. Он считает себя красавцем, потому что вымахал ростом до крыши... Болван!
– Выпейте, вот Чайные сливки – ликер, привезенный с островов, – сказал Каналис. – Напиток, достойный человека, с которым советуется мадемуазель Модеста...
– Советуется... она со мной всегда советуется.
– Как вы полагаете, любит она меня? – спросил поэт.
– Д-да... любит... больше, чем герцога! – ответил клерк, выходя из пьяного оцепенения, прекрасно разыгранного. – Любит за бескорыстие ваше. Она мне говорила: «Ради него я готова на самые большие жертвы, не надо мне роскошных туалетов, буду тратить только тысячу экю в год...» Всю жизнь она вам будет доказывать, что вы разумно поступили, женившись на ней. И она здорово (громкая икота)... честная (икота)... поверьте, и образованная... все знает... Такая уж девушка уродилась.
– Значит, все эти достоинства и триста тысяч франков в придачу? – сказал Каналис.
– А что ж, возможно, и дадут за ней такую сумму, – заметил клерк с воодушевлением. – Папаша Миньон очень умен и молодец – настоящий отец. Уважаю его. Он последнее отдаст, лишь бы получше устроить свою единственную дочку. Ваша Реставрация приучила полковника (новый приступ икоты) существовать на половинный оклад. Он будет жить-поживатьв Гавре, потихоньку, полегоньку, вместе с Дюме, а все свои тысячи отдаст дочке. Да еще не забывайте, что Дюме собирается завещать свое состояние Модесте. Дюме, как вы знаете, бретонец; раз он сказал – и договора никакого не надо. Дюме своему слову не изменит. Денег у него будет не меньше, чем у патрона. Оба они прислушиваются к моим словам не хуже вас, хотя у них я никогда не говорю так много и так складно. Так вот, я сказал им: «Напрасно вы вложили столько денег в виллу. Если Вилькен и оставит ее за вами, ваши двести тысяч – мертвый капитал, никакого он не даст дохода... Следовательно, у вас останется только сто тысяч на все протори и убытки, а, на мой взгляд, этого маловато». Последнее время полковник все совещается с Дюме. Поверьте, Модеста богата. В порту и в городе болтают глупости. Зависть человеческая! Подите поищите девушек с таким приданым, во всем департаменте не найдете! – воскликнул Бутша и растопырил пальцы, чтобы лучше сосчитать. – Двести или триста тысяч франков наличными, – проговорил он, загибая пальцем правой руки большой палец на левой руке, – вот вам раз. Вилла «Миньон», хоть и бездоходная, а все-таки вилла – вот вам два, – продолжал он, загибая указательный палец. – В-третьих, состояние Дюме, – прибавил он, загибая средний палец. – Видите: у крошки Модесты окажется шестьсот тысяч приданого, как только оба солдафона отправятся на тот свет за паролем к вечному судье.
Это наивное и грубое признание, запиваемое ликером, настолько же отрезвляло Каналиса, насколько, казалось, опьяняло Бутшу. Очевидно, в глазах провинциального клерка это было неслыханное богатство. Бутша уронил голову на ладонь правой руки и, величественно облокотясь на стол, подмигнул, разговаривая сам с собой.
– Ежели принять во внимание, с какой быстротой дробятся состояния из-за статьи кодекса «О праве наследования», то через двадцать лет невеста с миллионным приданым будет таким же редкостным зверем, как бескорыстный ростовщик. Вы скажете, пожалуй, что Модеста легко промотает двенадцать тысяч франков процентов со своего приданого. Ну, пусть промотает. Зато она мила... очень мила... очень... Поэт, вы должны любить образные сравнения, – слушайте: она чиста, как голубка, и лукава, как обезьянка.
– А ты мне говорил, – вполголоса обратился Каналис к Лабриеру, – что у ее отца шесть миллионов!
– Друг мой, – ответил Эрнест, – разреши тебе заметить, что я должен был молчать, я связан клятвой. Право, я и так сказал слишком много...
– Связан клятвой? Кому ж ты дал ее?
– Господину Миньону.
– Как, Эрнест! Ведь ты же прекрасно знаешь, как мне необходимо богатство...
Бутша храпел.
– Тебе известно мое положение и все, что я потеряю на улице Гренель, если женюсь, и ты хладнокровно даешь мне гибнуть? – сказал Каналис, бледнея. – Ведь мы друзья, и наша дружба, дорогой мой, наложила на нас взаимные обязательства гораздо ранее, чем та клятва, которую потребовал от тебя этот хитрый провансалец...
– Дорогой мой, – сказал Эрнест, – я так люблю Модесту, что...
– Глупец! Бери ее себе, – закричал поэт. – Нарушь же свою клятву!
– Дай мне слово честного человека забыть все, что я скажу, и держать себя со мной так, как будто ты никогда не слышал этого признания, что бы ни случилось впоследствии.
– Клянусь тебе памятью моей матери!
– Так вот, господин Миньон сказал мне в Париже, что у него вовсе нет того огромного состояния, о котором говорил Монжено. Полковник намеревается дать за дочерью двести тысяч франков. Но в чем тут секрет, Мельхиор? Сказалось ли в этом недоверие отца? Был ли он искренен? Не мне это решать. Если Модеста снизойдет до меня, я готов ее взять без всякого приданого.
– Что ты! Что ты! Опомнись! Она ведь синий чулок, учености хоть отбавляй, все читала, все знает... – воскликнул Каналис, – в теории! – добавил он в ответ на молчаливый протест Лабриера. – Балованная девица, с колыбели воспитана в роскоши и лишена ее за последние пять лет! Ах, бедный друг, подумай хорошенько!
– Ода и кода... «Кода» по-латыни значит «хвост», а из «коды» получилось «кодекс», – забормотал Бутша, просыпаясь. – Вы строчите, и я строчу. У вас оды-с, у меня кодекс, – разница между нами не так уж велика... всего несколько букв. Вы меня угостили, я вас люблю. Не поддавайтесь кодексу... Послушайте, я вам дам хороший совет за ваше вино и за ваши Чайные сливки. Папаша Миньон тоже принадлежит к сливкам... к сливкам благоррродных людей. Так вот, велите оседлать лошадь, поезжайте кататься. Миньон поедет вместе с дочерью, и вы его напрямик спросите, – какое, мол, приданое даете, а он ответит начистоту. Вот и узнаете всю подноготную. Я хоть и пьян, да умен, а вы великий человек. Уедем отсюда, уедем из Гавра! Я буду вашим секретарем, потому что вот этот юнец, который смотрит на меня и смеется над пьяненьким, покинет вас. Ну и ладно! Ну его к черту, пусть себе женится на девице Модесте.
Каналис встал из-за стола, чтобы переодеться.
– Ни слова... он идет к своей гибели, – внушительно сказал Бутша Лабриеру с хладнокровием, достойным Гобенхейма, и, обращаясь к Каналису, сделал характерный жест парижского гамена. – Прощайте, хозяин! – заорал он во все горло. – Разрешите мне пойти очухаться в беседке госпожи Амори.
– Располагайтесь, как у себя дома, – ответил поэт.
Клерк, сопровождаемый хихиканьем трех слуг Каналиса, дотащился до беседки, ступая по цветочным грядкам и клумбам с неуклюжестью жука, который описывает бесконечные зигзаги, пытаясь пробраться сквозь закрытое окно. Когда Бутша вскарабкался по ступенькам в беседку, а слуги разошлись, он преспокойно уселся на крашеную деревянную скамью. Он был счастлив, он торжествовал победу. Итак, он провел выдающегося человека: ему удалось не только сорвать с него маску, но еще заставить лицемера самого развязать ее тесемки, и он смеялся, как автор комедии, присутствующий на ее представлении, смеялся, чувствуя ее огромную vis comica [98]98
Сила комизма ( лат.).
[Закрыть].
– Люди похожи на волчков. Все дело лишь в том, чтобы найти кончик веревочки, обмотанной вокруг них! – воскликнул он. – Разве я не лишился бы чувств, узнав, что мадемуазель Модеста упала с лошади и сломала себе ногу!
Некоторое время спустя Модеста, сидя на богато оседланном пони, показывала отцу и герцогу только что полученный ею красивый подарок. На ней была амазонка из казимира бутылочного цвета, шляпа с зеленой вуалью, замшевые перчатки и бархатные полусапожки, вокруг которых развевались кружевные оборки панталон. Она была счастлива, видя в этом подношении знак внимания, которое так льстит самолюбию женщин.
– Не ваш ли это подарок, герцог? – спросила она, протягивая ему сверкающую рукоятку хлыста. – В футляре была карточка и на ней написано: «Отгадай, если можешь»и многоточие. Франсуаза и госпожа Дюме приписывают этот очаровательный сюрприз Бутше, но мой милый Бутша недостаточно богат, чтобы заплатить за такой прекрасный рубин. А папенька, которому – заметьте это хорошенько – я сказала в воскресенье вечером, что у меня нет хлыста, послал в Руан, и мне купили вот этот хлыст.
Модеста указала на хлыст, который держал ее отец. Рукоятка хлыста была усыпана бирюзой – модная выдумка того времени, ставшая теперь довольно шаблонной.
– Я отдал бы десять лет жизни, чтобы иметь право поднести вам эту прелестную вещицу, – учтиво ответил герцог.
– Ах, так вот он, этот дерзкий человек! – воскликнула Модеста, заметив подъезжавшего на лошади Каналиса. – Только поэты способны делать такие красивые подарки. Сударь, – сказала она Мельхиору, – папенька будет вас бранить: вы подтверждаете мнение тех, кто упрекает вас в расточительности.
– Вот для чего Лабриер помчался вчера в Париж! – наивно воскликнул Каналис.
– Так это ваш секретарь позволил себе подобную вольность? – спросила Модеста, бледнея, и презрительно бросила хлыст Франсуазе Коше. – Дайте мне ваш хлыст, папенька.
– Бедный малый! А он-то лежит в постели, разбитый усталостью, – заметил Мельхиор, следуя за девушкой, которая пустила своего пони в галоп. – Вы жестоки, мадемуазель. «У меня есть только эта возможность напомнить ей о себе», – сказал мне Эрнест.
– Неужели вы стали бы уважать женщину, способную принимать подарки от всех без разбора? – спросила Модеста.
Удивленная молчанием Каналиса, Модеста приписала его невнимательность стуку копыт, заглушившему ее вопрос.
– Как вам нравится мучить тех, кто вас любит! – сказал герцог. – Ваше благородство, ваша гордость не вяжутся с этими выходками. Я начинаю подозревать, не клевещете ли вы на себя, заранее обдумывая свои злые слова и поступки?
– Ах, вы только сейчас это заметили, герцог? – спросила Модеста, смеясь. – Какая проницательность! Вы будете прекрасным мужем.
Всадники проехали молча целый километр. Модеста была удивлена, не чувствуя на себе пламенных взглядов Каналиса, и заметила, что его восхищение красотой пейзажа было явно преувеличенным. Ведь только накануне, любуясь вместе с поэтом восхитительным закатом солнца на море, она сказала, обратив внимание на его рассеянный, «отсутствующий» взор: «Как! Вы ничего не видели?» – «Я видел только вашу руку», – ответил он.
– Умеет ли господин Лабриер ездить верхом? – спросила Модеста, чтобы подразнить Каналиса.
– Не особенно хорошо, но все же ездит, – равнодушно ответил поэт, который стал холоден, как Гобенхейм до возвращения полковника.
Как только всадники выехали вслед за г-ном Миньоном на проселочную дорогу – сначала она шла по живописной долине, а затем поднималась на вершину холма, с которого открывался широкий вид на Сену, – Каналис пропустил вперед Модесту с герцогом и придержал свою лошадь, чтобы поравняться с полковником.
– Вы благородный человек, граф, вы военный, и я надеюсь, моя откровенность только поднимет меня в ваших глазах. Обе стороны проигрывают, когда брачное предложение и все связанные с ним переговоры, порой слишком откровенные, а порой, если хотите, чересчур хитроумные, поручаются третьему лицу. Мы с вами дворяне, оба не болтливы и вышли из того возраста, когда люди всему удивляются. Итак, поговорим по-дружески. Я готов подать вам в этом пример. Мне двадцать девять лет, у меня нет земельной собственности, и я честолюбив. Мадемуазель Модеста мне бесконечно нравится, вы должны были это заметить. Несмотря на недостатки, которые ваша прелестная дочь так щедро себе приписывает...
– Вдобавок к тем, которые у нее действительно есть, – вставил полковник улыбаясь.
– Я с удовольствием предложил бы ей руку и сердце, и мне кажется, что могу составить ее счастье. Вопрос приданого для меня – вопрос будущего, ныне поставленного на карту. Все девушки хотят быть любимыми, несмотря ни на что!Тем не менее вы не такой человек, чтобы выдать единственную дочь без приданого, а мое положение не только не позволяет мне вступить в так называемый брак по любви, но и взять в жены девушку, которая не обладала бы состоянием, по крайней мере равным моему. Мое жалованье, синекуры, Академия и издательства приносят мне около тридцати тысяч франков в год – состояние немалое для холостяка. Если наш общий с женой годовой доход составит шестьдесят тысяч франков, то мое материальное положение почти не изменится. Дадите ли вы миллион за мадемуазель Модестой?
– Ах, сударь, мы очень далеки от этой цифры! – воскликнул полковник с коварством, достойным иезуита.
– Предположим в таком случае, – с живостью возразил Каналис, – что между нами ничего не было сказано. Вы будете довольны моим поведением, граф: меня сочтут одним из несчастных поклонников этой очаровательной девушки. Дайте мне слово, что вы сохраните все в тайне, даже от вашей дочери, так как в моей судьбе может произойти перемена, – прибавил он в виде утешения, – которая позволит мне просить ее руки и без приданого.
– Я буду молчать, даю слово, – ответил полковник. – Вы знаете, сударь, как любят в провинции и в Париже толковать о нажитых и прожитых состояниях. Люди одинаково преувеличивают чужое счастье и несчастье. Мы никогда не бываем ни так несчастны, ни так счастливы, как об этом говорят. Самое верное помещение капиталов – вложить их по оплате всех счетов в земельную собственность. Я с нетерпением ожидаю отчета моих уполномоченных. Ничто еще не закончено: ни продажа товаров и корабля, ни приведение в порядок моих дел в Китае. Цифра моего состояния окончательно выяснится только по истечении десяти месяцев. Все же в Париже я гарантировал господину де Лабриеру двести тысяч франков приданого, и притом наличными деньгами. Я хочу обратить свои земли в майорат и обеспечить будущее внуков, добившись права передать им мой герб и титулы.
Но с первых же слов г-на Миньона Каналис перестал его слушать. Оказавшись на довольно широкой дороге, все всадники поехали рядом и достигли возвышенности, откуда по направлению к Руану открывался вид на плодородную долину Сены, а в противоположной стороне взор еще различал вдалеке море.
– Пожалуй, Бутша прав: бог – великий пейзажист, – сказал Каналис, любуясь живописными берегами Сены, красота которых пользуется заслуженной известностью.
– Это особенно замечаешь на охоте, – отозвался герцог. – Безмолвие природы нарушается тогда голосами, нестройным шумом, и мелькающие перед глазами пейзажи кажутся поистине величественными со своей сменой эффектов.
– Солнце – неистощимая палитра, – проговорила Модеста, удивленно поглядывая на поэта.
На замечание Модесты об его сосредоточенном виде Каналис ответил, что занят своими мыслями, – удобный предлог, на который всегда могут ссылаться писатели в отличие от прочих смертных.
– Разве мы стали счастливее оттого, что ушли от природы и проводим жизнь в светском обществе, осложняя ее множеством искусственных потребностей и непомерно раздутым тщеславием? – спросила Модеста, окидывая взглядом спокойные плодородные поля, навевавшие мысли о философски безмятежном существовании.
– Эту пастушескую идиллию, мадемуазель, всегда писали на золотых скрижалях, – сказал поэт.
– И все же она могла быть задумана в мансарде, – возразил полковник.
Бросив на Каналиса проницательный взгляд, которого он не в состоянии был выдержать, Модеста услышала звон в ушах, в глазах у нее потемнело, и она произнесла ледяным тоном:
– Ах, ведь сегодня среда!
– Не думайте, что я хочу попасть в тон мадемуазель де Лабасти, тем более, что ее настроение, конечно, весьма мимолетно, – торжественно заявил герцог д'Эрувиль, которому эта сцена, драматическая для Модесты, дала время подумать, – но, право же, свет, двор и Париж опротивели мне. Вместе с герцогиней д'Эрувиль, будь у нее обаяние и ум мадемуазель де Лабасти, я согласился бы прожить всю жизнь, как философ, в замке д'Эрувиль, делая добро окружающим, осушая болота и воспитывая своих детей...
– Это вам зачтется, герцог, – ответила Модеста, задерживая свой взгляд на этом благородном человеке. – Но вы мне льстите, – продолжала она, – вы предполагаете во мне отсутствие легкомыслия и достаточно внутреннего содержания, чтобы жить вдали от общества. Что ж, возможно, такова моя судьба, – прибавила она, с пренебрежением глядя на Каналиса.
– Это судьба всех людей с небольшими средствами, – ответил поэт. – Париж требует вавилонской роскоши. Порой я спрашиваю себя, как удавалось мне до сих пор поддерживать такой образ жизни.
– Король может ответить на этот вопрос за нас обоих, – простодушно сказал герцог, – ведь мы живем милостями его величества. Если бы после падения Великого, как звали Сен-Мара [99]99
Сен-Мар– маркиз де Сен-Мар, Анри (1620—1642), фаворит французского короля Людовика XIII; участник заговора группы французских феодалов; был казнен на эшафоте.
[Закрыть], его пост не перешел к нашему роду, нам пришлось бы продать замок д'Эрувиль черной шайке [100]100
Черными шайкаминазывали во Франции компании спекулянтов, которые во время французской буржуазной революции XVIII века скупали на слом старинные замки и монастыри.
[Закрыть]. Верьте мне, мадемуазель, я считаю для себя большим унижением, что мне приходится примешивать денежные соображения к вопросу о браке.
Это чистосердечное признание и прозвучавшая в нем искренняя жалоба тронули Модесту.
– В наши дни, герцог, – сказал поэт, – во Франции не найдется ни одного человека достаточно богатого, чтобы позволить себе такое безумие, как жениться на бесприданнице. Кто же теперь берет себе жену за ее личные достоинства, за ее обаяние, характер и красоту?..
Внимательно взглянув на Модесту, лицо которой уже не выражало удивления, полковник многозначительно посмотрел на Каналиса.
– Порядочные люди, – проговорил он, – могут найти прекрасное применение своему богатству, постаравшись исправить ущерб, нанесенный временем старым историческим родам.
– Да, папенька, – серьезным тоном подтвердила Модеста.
Полковник пригласил герцога и Каналиса пообедать у него запросто, в костюмах для верховой езды, сославшись при этом на свой собственный костюм. По возвращении домой Модеста пошла переодеться и с любопытством взглянула на подарок, привезенный ей из Парижа и отвергнутый ею с таким жестоким пренебрежением.
– Как теперь искусно работают! – сказала она Франсуазе Коше, ставшей ее горничной.
– А ведь у несчастного юноши лихорадка, мадемуазель...
– Кто тебе сказал?
– Господин Бутша. Он приходил сюда и просил передать вам, что сдержал свое слово в назначенный день, хотя, говорит он, вы, без сомнения, уже заметили это сами.
Модеста спустилась в гостиную, одетая с царственной простотой.
– Дорогой отец, – громко сказала она, беря полковника под руку, – навестите, пожалуйста, господина де Лабриера, узнайте, как он себя чувствует, и возвратите ему этот подарок. Вы можете сослаться на то, что ни мои скромные средства, ни вкусы не позволяют мне пользоваться безделушками, которые приличествуют лишь королевам или куртизанкам. К тому же подарки я могла бы принимать только от жениха. Попросите милого юношу оставить у себя хлыст до того времени, когда вы узнаете, достаточно ли вы богаты, чтобы возместить его стоимость.
– У моей девочки так много здравого смысла? – сказал полковник, целуя Модесту в лоб.
Каналис воспользовался разговором, завязавшимся между герцогом д'Эрувилем и г-жой Миньон, чтобы выйти в сад; за ним из любопытства последовала Модеста, тогда как он предположил, что ею руководит желание стать г-жой де Каналис. Поэт был сам несколько смущен бесстыдством, с каким он только что проделал маневр, называемый военными «налево кругом», хотя всякий честолюбец сделал бы то же самое на его месте. Заметив приближавшуюся к нему злополучную Модесту, он стал подыскивать убедительное объяснение своему поступку.
– Дорогая Модеста, – сказал он ей с ласкающими нотками в голосе, – быть может, я рискую навлечь на себя ваше неудовольствие, но я должен сказать, что при сложившихся между нами отношениях ваши ответы господину д'Эрувилю больно задевают человека любящего, а особенно поэта, который терзается всеми муками ревности, вызванной истинной любовью в его чуткой душе. Я был бы весьма плохим дипломатом, если бы не отгадал, что ваше кокетство, ваши заранее обдуманные, хотя с виду непоследовательные, поступки имели определенную цель: вы хотели изучить наши характеры...
Модеста подняла голову быстрым, умным и кокетливым движением; нечто подобное встречается, быть может, только в животном мире, где инстинкт порождает чудеса грации.
– ...И всякий раз по возвращении домой я не обманывался на этот счет. Я поражался вашей проницательности, так гармонирующей с вашим характером и всем вашим обликом. Будьте спокойны, я ни разу не усомнился в том, что эта искусственность, эта двойственность – лишь оболочка прелестной душевной чистоты. Нет, ни ум, ни образованность не нанесли ущерба той бесценной невинности, которую мы требуем от супруги. Поистине вы созданы для того, чтоб быть подругой поэта, дипломата, мыслителя, его поддержкой на трудном жизненном пути к успеху, и мое восхищение может сравниться только с моей привязанностью к вам. Умоляю вас, если вы не играли мной вчера, благосклонно выслушивая мои признания, признания человека, чье тщеславие сменится гордостью, когда он увидит себя избранным вами, чьи недостатки под вашим благотворным влиянием превратятся в достоинства, умоляю вас, не задевайте моего больного места. Ревность способна отравить мою душу, а вы мне дали почувствовать ее ужасную, разрушительную силу. О, это не ревность Отелло, – продолжал он, заметив нетерпеливое движение Модесты, – нет, нет!.. Вопрос во мне самом. Я избалован в этом отношении. Вам известна моя единственная привязанность, ей я обязан тем счастьем, которое изведал в жизни, увы, очень неполным счастьем! (Он покачал головой.) У всех народов художники изображают любовь ребенком, ибо только ребенок может думать, что вся жизнь принадлежит ему. Но предел моему чувству был положен самой природой, – оно оказалось мертворожденным. Материнское сердце, самое чуткое, отгадало, успокоило боль моей души, ибо женщина, которая чувствует, которая знает, что от нее уходят радости любви, умеет щадить и беречь любимого, и герцогиня ни разу не заставила меня страдать. За все десять лет мы не обменялись ни словом, ни взглядом, который мог бы внести разлад в нашу жизнь. Словам же, мыслям, взглядам я придаю больше значения, чем заурядные люди. Но если один взгляд может принести мне неизъяснимое блаженство, то малейшее сомнение для меня хуже яда и действует мгновенно: я перестаю любить. По моему разумению, идущему вразрез с мнением посредственностей, которым нравится трепетать, надеяться, ждать, любовь должна корениться в спокойной уверенности, полной, детски безмятежной, безграничной уверенности... Я заранее отказываюсь от того мучительного счастья, от того восхитительного ада, который женщины своим кокетством так любят создавать для нас здесь, на земле. Для меня любовь – либо рай, либо ад. Я не желаю ада и чувствую в себе достаточно силы, чтобы прожить всю жизнь под лазурным небосводом рая. Я отдаю всего себя, – в будущем у меня не будет ни тайн, ни сомнений, ни обмана, и я требую взамен того же. Быть может, вас оскорбляют мои сомнения! Но подумайте, я говорю только о себе...
– Вы много говорите о себе, впрочем, я всегда готова вас слушать, – сказала Модеста, задетая этими обидными намеками, в которых имя герцогини де Шолье употреблялось в качестве дубинки, – я привыкла восхищаться вами, дорогой поэт.
– Так как же? Обещаете ли вы мне ту же собачью преданность, которую я предлагаю вам? Разве это не прекрасно? Разве это не то, о чем вы мечтали?






