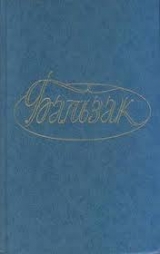
Текст книги "Модеста Миньон"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Характер Модесты сильно изменился за эту неделю. Такой удар, – а это был поистине удар для столь поэтической натуры, – пробудил в ней скрытую проницательность и хитрость, и теперь поклонники должны были встретить в ее лице опасного противника. Когда у девушки остывает сердце, голова ее начинает мыслить трезво. Становясь наблюдательной, она выносит свои суждения обо всем, высказывает их с живостью и в том шутливом тоне, который так прекрасно удался Шекспиру, создавшему в комедии «Много шума из ничего» образ Беатриче. Модесту охватило глубокое отвращение ко всем мужчинам, так как самые выдающиеся из них не оправдали ее надежд. В любви то, что женщина принимает за отвращение, есть не что иное, как здравый взгляд на вещи. Но когда дело касается чувств, женщина, в особенности девушка, не знает середины: если она не восхищается, то презирает. Испытав невообразимые муки, Модеста, естественно, облеклась в доспехи, на которых, как она говорила, было начертано слово «презрение». Отныне она могла присутствовать как посторонний зритель на представлении, которое называла «водевилем женихов», хотя играла в нем роль героини. Прежде всего она решила постоянно унижать г-на де Лабриера.
– Модеста спасена, – сказала, улыбаясь, г-жа Миньон мужу. – Она хочет отомстить ложному Каналису, попытавшись полюбить настоящего.
Таков был действительно план Модесты, план весьма обычный, и даже мать, которой она поверила свои горести, посоветовала ей выказывать г-ну Лабриеру только самую высокомерную любезность.
– Приедут два вздыхателя, – сказала г-жа Латурнель в субботу вечером. – Они даже не подозревают, сколько шпионов будет следовать за ними по пятам. Нас восемь человек, и все мы будем наблюдать за ними.
– Почему «два вздыхателя», милый друг? – воскликнул низенький Латурнель. – Их будет трое. Гобенхейм еще не пришел, и я могу говорить откровенно.
Модеста и все остальные посмотрели на низенького нотариуса.
– К числу искателей руки Модесты присоединится третий поклонник.
– Вот как? – удивился Шарль Миньон.
– И поклонник этот, – напыщенно продолжал нотариус, – не кто иной, как его светлость герцог д'Эрувиль, маркиз де Сен-Сэвер, герцог де Ниврон, граф де Байе, виконт д'Эссиньи, обер-шталмейстер и пэр Франции, кавалер ордена Шпоры и Золотого руна, испанский гранд и сын последнего правителя Нормандии. Он видел Модесту, когда приезжал в Гавр и гостил у Вилькенов, и еще тогда жалел, по словам его нотариуса, приехавшего вчера из Байе, что она недостаточно богата. Ведь по возвращении во Францию отец герцога оказался владельцем одного только замка д'Эрувиль, украшенного присутствием незамужней сестры. Молодому герцогу тридцать три года. Мне поручено сообщить все это вам, граф, – сказал нотариус, почтительно обращаясь к полковнику.
– Спросите у Модесты, – ответил отец, – желает ли она иметь лишнюю птицу в своей вольере. Что касается меня, я согласен. Пусть и господин обер-шталмейстер ухаживает за ней.
Несмотря на старания Шарля Миньона избегать знакомых, почти не выходить из Шале и нигде не появляться без дочери, Гобенхейм, которого было бы трудно больше не принимать, разнес молву о богатстве Дюме, так как Дюме, этот второй отец Модесты, сказал банкиру, оставляя службу в его конторе:
– Я буду управляющим у моего полковника, и все свое состояние, кроме той доли, которую пожелает оставить себе жена, завещаю детям моей дорогой Модесты.
И всем пришел в голову один и тот же вопрос, который уже однажды задал себе Латурнель: какое же состояние у Шарля Миньона? Вероятно, колоссальное, если часть, выделенная им Дюме, достигает шестисот тысяч франков, а сам Дюме собирается занять у него должность управляющего?
– Миньон прибыл на собственном корабле с грузом индиго, – говорили на бирже. – Стоимость одного этого груза, не считая судна, превосходит сумму, в которую он определяет свое состояние.
Полковник не захотел уволить своих слуг, тщательно выбранных им во время путешествий, и принужден был снять на полгода дом у подножия Ингувильского холма, так как у него в услужении находились камердинер, повар и кучер – двое последних негры, мулатка и двое мулатов, на преданность которых он рассчитывал. Кучер Миньона искал верховых лошадей для своего хозяина и его дочери, а также лошадей для прекрасной коляски, в которой приехали полковник и лейтенант. Этот модный экипаж был куплен в Париже, и на его дверцах красовался герб де Лабасти с графской короной. Обо всех этих подробностях, ничтожных в глазах человека, прожившего четыре года среди невообразимой роскоши, которой окружают себя богачи Индии, гонконгские купцы и англичане в Кантоне, толковали на все лады гаврские коммерсанты и обыватели Гравиля и Ингувиля. За пять дней молва прокатилась по всей Нормандии, произведя действие, подобное взрыву бомбы.
– Господин Миньон вернулся миллионером, – говорили в Руане, – и стал, по-видимому, графом во время своего путешествия!
– Но он был графом де Лабасти еще до революции, – отвечал собеседник.
– Итак, либерала, носившего двадцать пять лет имя Шарля Миньона, именуют теперь «ваше сиятельство». Куда, спрашивается, мы идем?
Таким образом, несмотря на молчание родителей и друзей, Модеста прослыла богатейшей в Нормандии наследницей, и тогда все сразу заметили ее достоинства. Тетка и сестра герцога д'Эрувиля подтвердили при всех гостях, собравшихся в гостиной замка Байе, право г-на Шарля Миньона на герб и титул графа, принадлежавшие кардиналу Миньону, чья шапка и кисти, по наведенным справкам, были изображены в виде навершия шлема и щитодержателей на этом гербе. Девицы д'Эрувиль видели как-то Модесту де Лабасти из окна виллы Вилькена и тотчас же подумали о главе своего обедневшего рода.
– Если дочь графа де Лабасти столь же богата, сколь и красива, – сказала тетка молодого герцога, – она будет считаться лучшей партией в провинции. И по крайней мере она дворянка, эта девушка!
Последние слова были колкостью, направленной против Вилькенов, с которыми д'Эрувили не могли найти общего языка, несмотря на то, что унизились до посещения их дома.
Таковы были мелкие события, в результате которых на этой семейной сцене должно было выступить, вопреки законам Аристотеля и Горация, третье действующее лицо. Однако ввиду малого удельного веса этого героя, так поздно появившегося на страницах нашего романа, его биография и описание внешности не слишком затянут повествование. Герцог не займет здесь более значительного места, чем в истории Франции. Его светлость герцог д'Эрувиль, плод позднего брака последнего правителя Нормандии, родился в 1796 году в Вене, во времена эмиграции. Старый маршал, его отец, вернулся на родину в 1814 году вместе с королем и умер в 1819 году, так и не женив своего сына, хотя тот и был герцогом Нивронским. Отец завещал ему всего-навсего огромный замок д'Эрувиль, парк, несколько служебных построек и ферму, выкупленную с большим трудом, – все это давало пятнадцать тысяч франков годового дохода. Людовик XVIII предоставил молодому герцогу пост обер-шталмейстера, а при Карле X он стал получать, кроме того, двенадцать тысяч франков пенсии, пожалованной неимущим пэрам Франции. Но что значили для герцогского семейства оклад обер-шталмейстера и двадцать семь тысяч франков годового дохода? Правда, в Париже молодой герцог пользовался экипажами короля и жил во дворце на улице Сен-Тома-дю-Лувр, при королевской конюшне, но все его жалованье уходило зимой на жизнь в Париже, а двадцать семь тысяч франков расходовались летом на жизнь в Нормандии. Однако если такой вельможа все еще оставался холостым, то виновата в этом была главным образом его тетка, которой, очевидно, были незнакомы басни Лафонтена. Непомерные требования г-жи д'Эрувиль шли вразрез с духом века, так как обнищавшие носители громких имен не могли найти богатых наследниц среди высшего французского дворянства, которое и само-то было весьма озабочено судьбой своих сыновей, разоренных законом о равном разделе наследства [82]82
...разоренных законом о равном разделе наследства.– Согласно Гражданскому кодексу, введенному Наполеоном в 1804 году, было уничтожено право первородства, то есть преимущественное право старшего сына наследовать состояние отца. Равное право наследования получали все дети. Это вело к раздроблению владений старой аристократии
[Закрыть]. Чтобы выгодно женить молодого герцога, надо было сблизиться с богатыми банкирскими домами, а высокомерная представительница рода д'Эрувилей всех их оттолкнула своими ехидными словечками. Несмотря на то, что в начале Реставрации, с 1817 по 1825 год, г-жа д'Эрувиль усердно подыскивала для своего племянника невесту с миллионным приданым, она все же отказалась от дочери банкира Монжено, которой, однако, вполне удовлетворился г-н де Фонтэн. Даже после того, как множество блестящих случаев было упущено по ее вине, она пришла к заключению, что состояние Нусингенов слишком грязного происхождения, и отказалась пойти навстречу честолюбивым желаниям г-жи де Нусинген, мечтавшей сделать свою дочь герцогиней. Король, стремившийся восстановить прежний блеск герба д'Эрувилей. сам подготовил этот брак и, когда он не удался, публично назвал г-жу д'Эрувиль «безумной старухой». Таким образом, тетка выставляла в смешном виде своего племянника, который и сам подавал немало поводов к насмешкам. Действительно, когда навсегда уходит то, что некогда составляло вершину старого общества, остаются его осколки или «поскребыши», как сказал бы Рабле, и в наш век таких оглодков что-то слишком много среди французского дворянства. Разумеется, в этой длинной повести нравов ни духовенству, ни дворянству не придется жаловаться, что о них позабыли. Эти две крупные и блистательные общественно необходимые силы прошлого хорошо в нем представлены. Но разве не значило бы, что мы отказались от славного звания историка и проявили пристрастие, если бы не показали здесь вырождения дворянского сословия, тем более что в других наших сценах вы встретите тип эмигранта в лице графа де Морсофа («Лилия долины») и воплощение дворянского благородства в лице маркиза д'Эспар («Дело об опеке»). Однако как могло случиться, что гордый род д'Эрувилей, поколения храбрых и сильных людей, давших королевству знаменитого маршала, церкви – кардиналов, династии Валуа – отважных рыцарей и Людовику XIV – полководцев, заканчивался теперь этим хилым заморышем, ростом меньше Бутши? Такой вопрос часто задаешь себе в парижских гостиных, когда лакей доложит о носителе одного из самых громких имен Франции и вслед за этим входит тщедушный человечек, как говорится, в чем душа держится, – юноша, преждевременно превратившийся в старика, или же одно из тех странных существ, у которых с трудом отыскиваешь какую-нибудь черту, свидетельствующую о минувшем величии. Мотовство и оргии в годы мрачного и жестокого царствования Людовика XV способствовали появлению этого убогого дворянства, и только манеры его представителей еще напоминают о навеки исчезнувших крупных достоинствах. Внешний лоск – единственное наследство, сбереженное дворянством. И то равнодушие, среди которого погиб Людовик XVI, объясняется, за редкими исключениями, печальными последствиями владычества маркизы де Помпадур. Обер-шталмейстер, бледный, щуплый и голубоглазый блондин, не был лишен известного благородства. Но малый рост и промахи тетки, принудившей его понапрасну ухаживать за Вилькенами, внушили ему чрезмерную робость. Однажды род д'Эрувилей уже чуть было не прекратился из-за недоноска (см. «Проклятое дитя» – «Философские повести»). Но «великий маршал», как называли в семье д'Эрувилей того пращура, которому Людовик XIII пожаловал титул герцога, женился в возрасте восьмидесяти двух лет, и разумеется, род его не угас. Что касается молодого герцога, он любил женщин, но ставил их чересчур высоко, слишком обожал их и преклонялся перед ними, чувствуя себя свободно лишь с теми женщинами, которых не уважал. Из-за своего характера он стал вести двойную жизнь: утомившись почтительным обожанием, которому предавался в гостиных, или, вернее, в будуарах Сен-Жерменского предместья, он вознаграждал себя с доступными женщинами. Его привычки, маленький рост, болезненное лицо и водянистые голубые глаза, часто принимавшие восторженное выражение, усиливали насмешливое к нему отношение окружающих, отношение несправедливое, так как он был деликатен и совсем неглуп, но его ум, лишенный блеска, проявлялся лишь тогда, когда герцог чувствовал себя непринужденно. Вот почему актриса Фанни Бопре, которая слыла его близкой, хотя и не бескорыстной, приятельницей, говорила о нем: «Он похож на хорошее вино, которое так тщательно запечатано, что сломаешь штопор, если захочешь откупорить бутылку!» Прекрасная герцогиня де Мофриньез, которую обер-шталмейстер мог обожать только издали, заклеймила его крылатой шуткой, и, к несчастью для герцога, она переходила из уст в уста, как и всякое изящное злословие. «Д'Эрувиль производит на меня впечатление подвеска тонкой ювелирной работы, – его чаще показывают, чем надевают, вот он и остается лежать в вате», – сказала эта дама. Все в нем смешило добродушного Карла X, вплоть до его должности обер-шталмейстера, которая совсем не соответствовала внешности герцога д'Эрувиля, хотя он и был превосходным наездником. Некоторых людей, как и некоторые книги, иногда начинают ценить слишком поздно. Модеста видела герцога д'Эрувиля во время его безуспешного пребывания у Вилькенов и, глядя на него, невольно припомнила то, что о нем говорилось. Все же она прекрасно понимала, насколько ухаживание герцога было ценно в ее положении, – оно давало ей полную свободу действия по отношению к обоим Каналисам.
– Не вижу причины отклонять ухаживание герцога д'Эрувиля, – сказала она Латурнелю. – Несмотря на нашу бедность, – прибавила она, лукаво поглядев на отца, – я считаюсь теперь богатой наследницей. Поэтому я кончу тем, что опубликую свою программу. Разве вы не заметили, как изменилось выражение глаз Гобенхейма за последнюю неделю? Он крайне огорчен тем, что не может отнести свои партии в вист за счет безмолвного обожания моей особы.
– Тише, душа моя, – сказала г-жа Латурнель, – вот и он.
– Папаша Альтор в отчаянии, – сказал Гобенхейм, входя и обращаясь к Шарлю Миньону.
– Почему? – спросил граф де Лабасти.
– Говорят, Вилькена ожидает банкротство, а вас на бирже считают архимиллионером.
– Никто не знает, какие обязательства существуют у меня в Индии, – возразил весьма сухо Шарль Миньон. – Я же вовсе не намерен посвящать посторонних в свои дела. Дюме, – сказал он на ухо своему другу, – если Вилькен находится в стесненных обстоятельствах, мы могли бы вновь поселиться в моей прежней усадьбе, уплатив ему наличными ту сумму, за которую он ее приобрел.
Вот та обстановка, которая по воле случая ожидала Каналиса и Лабриера, когда они вслед за курьером приехали в воскресенье утром во флигель г-жи Амори. Вскоре стало известно, что герцог д'Эрувиль под предлогом расстроенного здоровья прибудет во вторник с сестрой и теткой, и они поселятся в доме, нанятом в Гравиле. Это соперничество вызвало шутки на бирже, – там говорили, что из-за дочери г-на Миньона сильно возрастет квартирная плата в Ингувиле.
– Если так будет продолжаться, эта девица превратит в странноприимный дом весь Ингувиль, – сказала младшая дочь Вилькена, в отчаянии от того, что ей не удалось стать герцогиней.
Вечную комедию «Наследница», которая должна была разыграться в Шале, можно было бы назвать, повторяя шутку Модесты, «Жизненной программой молодой девушки», так как сама героиня после потери своих иллюзий твердо решила отдать руку только тому человеку, достоинства которого ее вполне удовлетворят.
На следующий день после приезда два соперника, по-прежнему еще близкие друзья, стали готовиться к своему появлению в Шале в тот же вечер. Все воскресенье и утро понедельника они употребили на распаковку вещей, вступление во владение флигелем г-жи Амори и устройство, необходимое для месячного пребывания в Гавре. Поэт заранее все рассчитал. К тому же в качестве будущего посланника он склонен был прибегать ко всевозможным уловкам и ухищрениям. Итак, он решил извлечь пользу из того шума, который, по всей вероятности, поднимется вокруг его приезда в Гавр, справедливо полагая, что отголоски молвы дойдут и до Шале. Как человек, переутомленный тяжкими трудами, Каналис не выходил из дому, а Лабриер уже успел два раза прогуляться под окнами Шале. Он любил с каким-то отчаянием, его охватывал глубокий ужас при мысли о гневе Модесты, и будущее казалось ему окутанным густым мраком. В понедельник два друга спустились из своих комнат к обеду, уже одетые для первого и важнейшего визита. На Лабриере был тот же костюм, что и в знаменательное воскресенье, когда он появился в церкви; но на этот раз он считал себя только спутником литературного светила и положился на волю случая. Что касается Каналиса, то он не пренебрег возможностью надеть фрак, ордена и позаботился придать своей внешности то салонное изящество, которое он усовершенствовал в школе своей покровительницы, герцогини де Шолье, и высшего света Сен-Жерменского предместья. Каналис не забыл ни одного даже мельчайшего предписания дэндизма, тогда как несчастному Лабриеру предстояло явиться в Шале в небрежном костюме человека, потерявшего всякую надежду. Прислуживая за столом своим двум господам, Жермен не мог скрыть улыбки при виде этого контраста. Но когда он вошел в столовую со второй переменой блюд, его лицо уже приняло дипломатическое, или, лучше сказать, озабоченное выражение.
– Известно ли вам, господин барон, – обратился он вполголоса к Каналису, – что обер-шталмейстер прибывает в Гравиль для лечения от той же болезни, которой страдает господин Лабриер и вы сами?
– Как, маленький герцог д'Эрувиль? – воскликнул Каналис.
– Да, сударь.
– Он, очевидно, приезжает ради мадемуазель де Лабасти? – краснея, спросил Лабриер.
– Да, ради мадемуазель Миньон, – подтвердил Жермен.
– Нас провели! – воскликнул Каналис, смотря на Лабриера.
– В первый раз ты сказал мысо времени нашего отъезда, – с живостью заметил Эрнест. – До сих пор ты все время говорил я.
– Ты прекрасно изучил меня, – весело смеясь, ответил Мельхиор. – Разумеется, нам с тобой не под силу бороться с придворной должностью, титулами герцога и пэра и теми болотами, которые государственный совет на основании моего доклада пожаловал дому д'Эрувилей.
– Его светлость, – сказал Лабриер с иронической серьезностью, – может предоставить тебе некоторое утешение в лице своей сестры.
В эту минуту слуга доложил о графе де Лабасти. Услышав эту фамилию, оба молодых парижанина встали из-за стола, и Лабриер пошел навстречу гостю, чтобы представить ему Каналиса.
– Я счел своим долгом отдать вам визит, который вы мне сделали в Париже, – сказал Шарль Миньон молодому докладчику счетной палаты. – Кроме того, я знал, что получу при этом двойное удовольствие, встретив одного из великих поэтов наших дней.
– «Великих», сударь? – возразил поэт, улыбаясь. – Может ли быть что-нибудь великое в наш век, прологом к которому служит царствование Наполеона. Во-первых, нас целое племя так называемых великих поэтов, а во-вторых, второстепенные таланты так хорошо подражают гению, что истинная слава теперь невозможна.
– Не это ли побудило вас обратиться к политике? – спросил граф де Лабасти.
– То же наблюдается и в политике, – сказал поэт. – Теперь уже нет больше крупных государственных деятелей, а только люди, более или менее причастные к важным событиям. Видите ли, сударь, при нынешнем режиме, который создала для нас конституционная хартия, предпочитающая налоговое обложение оружию, прочным осталось только то, за чем вы ездили в заморские страны, а именно – деньги.
Довольный собой и тем впечатлением, которое он произвел на своего будущего тестя, Мельхиор обратился к Жермену.
– Подайте кофе в гостиную, – сказал он и пригласил Шарля Миньона перейти туда из столовой.
– Очень вам благодарен, граф, – проговорил Лабриер, – за то, что вы вывели меня из затруднения: я не знал, удобно ли мне явиться к вам в дом вместе с моим другом. Как вы добры и тактичны.
– Что вы! Самые обычные правила вежливости провансальцев, – сказал Шарль Миньон.
– Как! Вы родом из Прованса? – воскликнул Каналис.
– Извините моего друга, – сказал Лабриер, – он не изучал, подобно мне, историю рода де Лабасти.
При слове «друг» Каналис выразительно посмотрел на Эрнеста.
– Если ваше здоровье позволит, – сказал провансалец, обращаясь к поэту, – я попрошу вас оказать мне честь и посетить сегодня вечером мой дом; тогда день этот будет для меня знаменательным, или, как говорили в древности, albo notanda lapillo [83]83
Отмеченным белым камешком ( лат.) – то есть счастливым.
[Закрыть]. Хотя нам и неловко принимать такого великого поэта в очень скромном домике, но вы, надеюсь, снизойдете к нетерпению моей дочери, – она в беспредельном восторге от ваших стихов и даже перекладывает их на музыку.
– У вас есть нечто большее, чем слава, – сказал Каналис. – В вашем доме обитает сама красота, как говорил мне Эрнест.
– О, моя дочь – просто славная девушка, а вам она, пожалуй, покажется провинциалочкой.
– Но руки этой провинциалочки домогается, как говорят, герцог д'Эрувиль, – сухо заметил Каналис.
– Я предоставляю моей дочери полную свободу выбора, – продолжал г-н Миньон с коварным добродушием южанина. – Герцоги, князья, простые смертные, даже и сам гений – все равны в моих глазах. Я не хочу брать на себя никаких обязательств, и тот, кого выберет Модеста, будет моим зятем, или, вернее, сыном, – сказал он, поглядев на Лабриера. – Что прикажете делать, жена у меня – немка и не признает нашего преклонения перед титулами, я же во всем руковожусь желаниями моих двух повелительниц. Я всегда предпочитал спокойно сидеть в экипаже, а не держать в руках вожжи. Мы можем говорить шутя об этих серьезных вещах, так как еще не видели герцога д'Эрувиля, и я не больше верю в женихов, навязанных родителями, чем в браки, заключенные по доверенности.
– Такое заявление может привести в отчаяние и в то же время ободрить двух молодых людей, которые намереваются искать в браке философский камень счастья, – сказал Каналис.
– Разве вы не считаете полезным, необходимым и благоразумным заранее обусловить полную свободу родителей, дочери и женихов? – спросил Шарль Миньон.
Выразительный взгляд Лабриера заставил Каналиса промолчать, и разговор перешел на безразличные темы.
После короткой прогулки по саду отец Модесты уехал, повторив, что надеется видеть у себя обоих друзей.
– Нам дали отставку! – воскликнул Каналис. – Ты это понял, конечно, не хуже меня. Что ж, на его месте я не стал бы колебаться. Где уж нам соперничать с обер-шталмейстером, как бы очаровательны мы с тобой ни были.
– Я этого не думаю, – сказал Лабриер. – Мне кажется, что добрейший полковник приехал нарочно, чтобы поскорее познакомиться с тобой; он хотел, кроме того, заявить о своем нейтралитете и открыть нам двери своего дома. Модеста влюблена в твою славу и обманулась во мне. Ей предстоит сделать выбор между поэзией и действительностью. Я имею несчастье быть действительностью.
– Жермен, – сказал Каналис камердинеру, который вошел, чтобы убрать кофе со стола, – прикажите запрягать, мы едем через полчаса. Сначала немного покатаемся, а потом отправимся в Шале.
Оба молодых человека горели одинаковым нетерпением увидеть Модесту, но Лабриер опасался этой встречи, а Каналис ждал ее с уверенностью, граничившей с самомнением. Сердечный порыв Лабриера, когда он высказал свою симпатию отцу Модесты, и лесть, которой он пощекотал дворянскую спесь коммерсанта, обратив вместе с тем его внимание на оплошность Каналиса, внушили поэту мысль о необходимости взять на себя определенную роль. Мельхиор решил прибегнуть ко всем средствам обольщения и, разыграв равнодушие и пренебрежение, уколоть самолюбие девушки. Ученик прекрасной герцогини де Шолье оказался достойным своей репутации психолога, хорошо знающего женщин, хотя в действительности не знал их, как это случается с теми, кто является счастливой жертвой единственной привязанности. Бедный Эрнест забился в угол коляски и погрузился в мрачное молчание, испытывая терзания истинной любви и предчувствуя гнев, презрение, насмешки – все громы и молнии, которые обрушит на него уязвленная и возмущенная девушка. Каналис столь же безмолвно готовился к своему выступлению, словно актер, который должен сыграть главную роль в новой пьесе. Без сомнения, ни один из них не походил на счастливого человека. К тому же Каналис подвергал себя большому риску. Одно только намерение жениться могло повлечь за собой разрыв серьезной дружбы, почти десять лет связывавшей его с герцогиней де Шолье. Необходимость своей поездки он объяснил ей усталостью – предлог, которому женщины никогда не верят, даже когда это правда, и совесть несколько мучила его. Но слово «совесть» в этом случае показалось Лабриеру настолько лицемерным, что он лишь пожал плечами, когда поэт поделился с ним своими сомнениями.
– Твоя совесть, друг мой, кажется мне попросту тщеславием и боязнью потерять вполне реальные преимущества и привычную связь, лишившись любви госпожи де Шолье. Если же ты будешь иметь успех у Модесты, то без сожаления откажешься от пресных удовольствий страсти, достаточно приевшейся тебе за восемь лет. Скажи лучше, что ты опасаешься прогневить свою покровительницу, если она узнает о причине твоего пребывания здесь, и я охотно тебе поверю. Но отказаться от герцогини и потерпеть неудачу в Шале значило бы лишиться слишком многого. Ты принимаешь за укоры совести свои колебания.
– Ты ничего не понимаешь в чувствах, – сказал Каналис с досадой, ибо ему сказали горькую правду, в то время как он ожидал услышать комплимент.
– То же самое, должно быть, говорит двоеженец перед судом двенадцати присяжных, – смеясь, возразил Лабриер.
Эта саркастическая шутка также произвела неприятное впечатление на Каналиса. Он нашел, что Лабриер слишком остроумен и чересчур свободно держится для секретаря.
Появление великолепной коляски с кучером, одетым в ливрею дома Каналисов, вызвало сенсацию в Шале, тем более что там уже ждали обоих претендентов и все действующие лица этой повести находились в сборе, кроме герцога и Бутши.
– Который же из них поэт? – спросила г-жа Латурнель у Дюме, стоя у окна, где она заняла наблюдательный пост, когда застучали колеса приближающегося экипажа.
– Тот, который выступает, словно полковой барабанщик, – ответил кассир.
– А-а, – протянула жена нотариуса, рассматривая Мельхиора, который шествовал величественно, как человек, привыкший привлекать к себе все взоры.
Хотя определение Дюме, человека простого, если такие вообще встречаются, страдает излишней резкостью, оно все же не лишено справедливости. По вине знатной дамы, которая чрезмерно льстила Каналису и баловала его, как это всегда будут делать женщины, если они старше своих поклонников, поэт был в моральном отношении своего рода Нарциссом. Когда женщина весьма зрелого возраста хочет навсегда привязать к себе мужчину, она начинает обожествлять его недостатки, чтобы сделать невозможным всякое соперничество, так как соперницы не могут сразу постигнуть тайну этой утонченнейшей лести, а мужчина привыкает к ней довольно легко. Если фатовство не прирожденное свойство, то оно – следствие этой женской политики. Каналис, которого прекрасная герцогиня де Шолье взяла себе в любовники совсем молодым, оправдывал в собственных глазах свою рисовку, говоря себе, что она нравится этой изысканной женщине, а вкусы ее были законом для общества. Как ни тонки оттенки аффектации, их все же можно уловить. Так, например, Мельхиор обладал талантом чтеца, вызывавшим восхищение, но слишком снисходительные похвалы завлекли его на ложный путь напыщенности, где ни поэт, ни актер уже не могут остановиться, и это дало основание сказать про него (все тому же де Марсе), что он не декламирует, а завывает, читая свои стихи, настолько он растягивал слова, с удовольствием прислушиваясь к собственному голосу. Говоря языком сцены, Каналис «переигрывал». Он бросал вопросительные взгляды на слушателей, всем своим видом выражал удовлетворенное тщеславие и прибегал к тем уловкам, которые актеры называют «отсебятиной» – выражение красочное, как и все, что создается в артистическом мире. К тому же у Каналиса появились последователи, и он оказался главою школы. Декламаторская напыщенность слегка повлияла и на его разговорную речь, – он стал пользоваться в ней ораторскими приемами, как это можно было заметить из его беседы с Дюме. Как только поэт стал кокетничать своим умом, это сказалось и на его манерах. Он выработал особую походку, стал придумывать жесты, украдкой смотреться в зеркала и принимать позы, соответствовавшие его тирадам. Он настолько был озабочен впечатлением, которое производил на окружающих, что один насмешник по фамилии Блонде много раз держал пари, и не без успеха, обещая смутить поэта своим пристальным взглядом, устремленным на его завитые волосы, на его сапоги или на его фрак. Но по прошествии десяти лет эта изящная манерность, которую вначале скрашивала цветущая молодость, устарела, тем более что и сам Мельхиор казался пожившим. Светская жизнь утомляет как мужчин, так и женщин, и возможно, что те двадцать лет, на которые герцогиня была старше Каналиса, ложились на его плечи большей тяжестью, чем на ее, так как свет по-прежнему видел ее красивой, без морщин, без румян и без сердца. Увы! Ни у мужчин, ни у женщин не бывает друга, способного предостеречь их в ту минуту, когда аромат их скромности улетучивается, ласка взгляда начинает напоминать избитый актерский прием, улыбка переходит в гримасу, а искусственный блеск остроумия позволяет угадывать, что огонь его уже догорел. Только гений обновляется подобно змеиной чешуе. Что же касается привлекательности всего облика, то одно лишь сердце не стареет. Сердечные люди просты. Но у Каналиса, как вы знаете, было черствое сердце. Он злоупотреблял красотой своих глаз, придавая совершенно некстати своему взгляду ту пристальность, которая говорит о напряжении мысли. Наконец, он любил расточать похвалы и делал это с корыстной целью, желая посредством их приобрести слишком много. Его манера говорить комплименты, очаровательная в глазах поверхностных людей, оскорбляла людей чутких своей банальностью и тем льстивым апломбом, за которым угадывался скрытый умысел. Действительно, Мельхиор лгал, как царедворец. Он беззастенчиво сказал герцогу де Шолье, который произвел весьма посредственное впечатление, впервые выступив с парламентской трибуны в качестве министра иностранных дел: «Вы были просто великолепны, ваше сиятельство!» Скольких людей, подобных Каналису, судьба отучила бы от аффектации, преподнося им неудачи мелкими дозами. Недостатки Каналиса казались незначительными в золоченых гостиных Сен-Жерменского предместья, там, где каждый регулярно вносит в общество свою долю нелепостей, где все разновидности самовлюбленности, рисовки и, если хотите, натянутости имеют соответствующую им рамку, где чрезмерная роскошь обстановки и пышные туалеты, пожалуй, служат всему оправданием; но те же самые недостатки должны были резко бросаться в глаза на фоне провинциальной жизни, нелепости которой имеют иной характер. А натянутый и жеманный Каналис не мог измениться. Он уже успел застыть в той форме, какую придала ему герцогиня де Шолье; кроме того, он был настоящий парижанин, или, точнее, настоящий француз. Парижанин удивляется, что жизнь не всюду устроена так, как в Париже, а француз – тому, что не всюду она идет так, как во Франции. Хороший тон заключается в умении приспособиться к чужим нравам, не слишком теряя, однако, свои индивидуальные черты, примером чего может служить Алкивиад [84]84
Алкивиад(ок. 451—404 годы до н. э.) – афинский политический деятель и полководец, участник Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой (431—404 годы до н. э.). Отличался крайней политической неустойчивостью и беспринципностью. Славился своей любовью к роскоши и изящной одежде, стремлением постоянно обращать на себя внимание.
[Закрыть]– этот образец для джентльменов. Истинное изящество должно быть гибким. Оно применяется к различным обстоятельствам и ко всем слоям общества. Изящная женщина наденет для улицы платье из простенькой материи, выделяющееся только своим покроем, она не будет прогуливаться, нацепив на себя яркие цветы и перья, как это делают мещанки. Между тем Каналис, руководимый женщиной, которая любила его больше ради себя, чем ради него самого, желал всем навязывать свои мнения и всюду быть одинаковым. Он полагал – ошибка, которую разделяют с ним многие парижские знаменитости, – что его всегда окружает свита поклонников.






