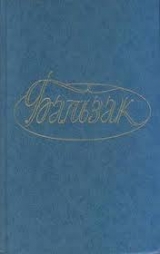
Текст книги "Модеста Миньон"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– К какому же выводу вы приходите, Бутша? – спросила Модеста.
– К выводу о необходимости строжайшего наблюдения за всеми маневрами противника, – ответил клерк.
– Что я тебе говорил, милочка? – сказал Шарль Миньон, намекая на свой разговор с дочерью во время их прогулки по берегу моря.
– Мужчины, подыскивая себе невесту, надевают множество личин; также и матери, желая сбыть дочерей с рук, навязывают им различные роли, – сказал Латурнель.
– Следовательно, разрешается прибегать к военным хитростям? – спросила Модеста.
– Да, как с той, так и с другой стороны, – воскликнул Гобенхейм, – тогда в игре будут равные шансы!
Разговор велся во время игры в вист, и как говорят в просторечии, из пятого в десятое, причем все присутствующие не преминули высказать свое мнение о г-не д'Эрувиле: он очень понравился маленькому нотариусу, маленькому Дюме и маленькому Бутше.
– Я думаю, – сказала г-жа Миньон с улыбкой, – что госпожа Латурнель и мой бедный муж кажутся здесь настоящими великанами.
– К счастью для полковника, он вовсе не высокого роста, – ответил Бутша в то время, как его патрон сдавал карты, – так как высокий и вместе с тем умный человек – исключение.
Без спора, приведенного здесь о законности брачных хитростей, можно было бы найти скучным описание вечера, которого с таким нетерпением ожидал Бутша. А помимо этого, и богатство – причина стольких тайных подлостей, – возможно, придаст мелочам частной жизни значительный интерес, который еще усилится благодаря описанию социальных отношений, так верно подмеченных Эрнестом в его ответе на письмо Модесты.
На следующее утро приехал Деплен. Он провел в Шале около часу, – пока посылали в Гавр за лошадьми и запрягали их в коляску. Осмотрев г-жу Миньон, он сказал, что больной можно вернуть зрение, и назначил операцию через месяц после своего визита. Разумеется, эта важная врачебная консультация происходила в присутствии всех обитателей Шале, которые с трепетом ожидали приговора знаменитости. Прославленный член Академии наук задал слепой десяток кратких вопросов, внимательно исследуя у окна ее глаза при ярком дневном свете. Модеста была поражена, поняв, как дорого было время для этого знаменитого врача; в самом деле, его коляска была наполнена книгами, которые ученый собирался прочесть на обратном пути в Париж, откуда он уехал накануне вечером, употребив ночь для путешествия и сна. Быстрота и ясность, с которой Деплен отвечал на все вопросы г-жи Миньон, его манеры и деловой тон – все это впервые дало Модесте правильное представление о таланте. Она почувствовала огромную разницу между Каналисом, человеком заурядным, и Депленом, человеком более чем выдающимся. Даровитые люди черпают удовлетворение своей законной гордости в сознании собственных заслуг и в прочности окружающей их славы, у них не возникает желания подавлять простых смертных своим величием. Кроме того, непрестанная борьба с миром людей и вещей не оставляет им времени для рисовки: к ней прибегают только тщеславные и самовлюбленные герои моды, которые спешат собрать жатву кратковременного успеха, напоминая своей жадностью таможенных чиновников, взимающих пошлину со всего, что попадает им под руку. Модеста была тем более очарована великим врачом, что ее изящная красота, казалось, поразила даже этого человека, лечившего самых различных женщин и уже давно привыкшего рассматривать их с лупой и скальпелем в руке.
– Было бы поистине обидно, – сказал он ей тем любезным тоном, который был ему иногда свойствен и не вязался с приписываемой ему резкостью, – если бы мать была лишена возможности видеть такую прелестную дочь.
Модеста пожелала самолично подать скромный завтрак – единственное угощение, принятое великим хирургом. Затем вместе с отцом и Дюме она проводила до садовой калитки ученого, которого ждало еще много больных, и, стоя около его коляски, еще раз спросила, глядя на него глазами, сияющими надеждой:
– Значит, дорогая моя маменька увидит меня?
– Да, милый блуждающий огонек, обещаю вам это, – ответил он, улыбаясь. – А я не способен вас обмануть, у меня у самого есть дочь!
Коляска тронулась после этих слов Деплена, полных неожиданной сердечности. Ничто так не очаровывает, как непредвиденные черточки доброты, свойственные талантливым людям.
Визит хирурга стал целым событием и оставил в душе Модесты светлое воспоминание. Девушка простодушно восхищалась этим человеком, жизнь которого принадлежала другим и в котором привычка облегчать физические страдания людей уничтожила проявления эгоизма. Вечером, когда в гостиной Шале собрались Гобенхейм, супруги Латурнель, Бутша, Каналис, Эрнест и герцог д'Эрувиль, гости стали поздравлять хозяев, и все говорили о радостной надежде, внушенной Депленом. Естественно, что разговор, где главную роль играла та Модеста, которую мы знаем по ее письмам, коснулся и самого Деплена, чей гений, к несчастью для его славы, мог быть оценен только сонмом ученых и профессоров. У Гобенхейма вырвались слова, которые в наши дни выражают, по мнению экономистов и банкиров, сокровенную сущность таланта:
– Он зарабатывает бешеные деньги.
– Его считают очень корыстолюбивым, – заметил Каналис.
Похвала, с которой Модеста отозвалась о Деплене, неприятно подействовала на поэта. Тщеславный мужчина похож на кокетку: им обоим кажется, будто они что-то теряют, если похвалы и любовь относятся не к ним. Вольтер завидовал уму какого-то плута, которым Париж восхищался в течение двух дней; избалованная поклонением герцогиня чувствует себя оскорбленной взглядом, брошенным на ее горничную. Суетность людей такова, что богачи считают себя обездоленными, если частичка внимания достанется бедняку.
– Неужели даже вы, сударь, думаете, – спросила Модеста улыбаясь, – что к таланту следует подходить с обычной меркой?
– К таланту? Прежде всего следовало бы определить это понятие, – ответил Каналис. – Одно из отличительных свойств таланта – способность изобретать, открывать нечто новое: формы, системы или источники силы. Наполеон, например, несомненно, был изобретателем, помимо других признаков его гениальности. Он изобрел особый метод ведения войны. Вальтер Скотт, Линней, Жоффруа Сент-Илер, Кювье – тоже изобретатели, таланты в полном смысле этого слова. Они обновляют, расширяют или видоизменяют науку или искусство. Что же касается Деплена, то весь его огромный талант заключается только в уменье правильно применять уже открытые законы и определять, в силу прирожденного дарования, свойства каждого темперамента и час, указанный природой для операции. Он, как и Гиппократ, не основал самой науки, не изобрел системы, как Гален [89]89
Гален, Клавдий (ок. 130 – ок 200) – крупнейший римский врач, анатом и физиолог, родился в Малой Азии. Гален оказал большое влияние на последующее развитие медицины в Европе в средние века.
[Закрыть], Бруссе [90]90
Бруссе, Франсуа-Жозеф (1772—1838) – французский врач, последователь медицинских теорий известного итальянского врача Радзори, Джованни (1766—1837).
[Закрыть]или Радзори. Это гений-исполнитель, подобно Мошлесу – виртуозу-пианисту, Паганини – виртуозу-скрипачу, и Фаринелли – виртуозу-певцу. Хотя эти люди и обладают огромными способностями, они ничего не создали в области музыки. Если выбирать между Бетховеном и Каталани [91]91
Каталани, Анджелика (1779—1849) – итальянская певица. В годы Реставрации и Июльской монархии жила в Париже, выступала в Итальянской опере.
[Закрыть], то разрешите мне присудить Бетховену бессмертный венок гения и мученика, а Каталани – груду монет по сто су. Мир навсегда останется должником одного, тогда как с другой мы будем квиты. Мы с каждым днем чувствуем себя все более обязанными Мольеру, а Байрону мы заплатили более чем достаточно.
– Мне кажется, друг мой, что ты отводишь слишком много места красивым идеям, – сказал Эрнест де Лабриер мягким и мелодичным голосом, внезапно поразившим присутствующих своим контрастом с безапелляционным тоном поэта, в голосе которого вместо обычных ласкающих нот звучала ораторская напыщенность.
– Талант надо ценить главным образом соразмерно его полезности, – продолжал Эрнест. – Пармантье, Жаккар и Папен тоже таланты [92]92
Пармантье, Жаккар и Папен тоже таланты...– Пармантье, Антуан-Огюст (1737—1813) – французский агроном и экономист, способствовал внедрению культуры картофеля во Франции. Жаккар, Жозеф-Мари (1752 —1834) – французский ткач и механик, внесший усовершенствование в ткацкий станок. Папен, Дени (1647—1714) – французский физик и механик, которому принадлежит несколько технических изобретений.
[Закрыть], и когда-нибудь им воздвигнут памятники. В известном смысле они изменили или изменят лицо государства. С этой точки зрения Деплен всегда будет являться перед взором мыслителя в окружении целого поколения людей, чьи слезы он осушил, чьи страдания исцелил своей всемогущей рукой.
Достаточно было Эрнесту высказать это мнение, чтобы Модеста решила его оспаривать.
– Если рассуждать таким образом, сударь, – сказала она, – гением окажется и тот, кто найдет средство жать хлеб, не портя соломы, – при помощи машины, заменяющей труд десяти жнецов?
– Конечно, дочка, – заметила г-жа Миньон, – такого человека благословляли бы бедняки, потому что хлеб подешевел бы, а тех, кого благословляют бедняки, благословляет сам бог.
– Что ж, значит, полезности надо отдавать предпочтение перед искусством? – возразила Модеста, покачав головой.
– А без полезности не было бы и искусства, – сказал Шарль Миньон. – На что мог бы опереться поэт, чем стал бы он жить, где преклонил бы голову и кто стал бы ему платить?
– Ах, папенька, такое мнение достойно капитана дальнего плавания, лавочника, обывателя!.. Ну пусть Гобенхейм и господин докладчик счетной палаты придерживаются его, – сказала она, указывая на Лабриера. – Я понимаю: они заинтересованы в разрешении этой социальной проблемы. Но вы! Ведь вся ваша жизнь была бесплоднейшей поэзией нашего века, ибо ваша кровь, пролитая во всей Европе, и те нечеловеческие страдания, которых потребовал от вас гигант, не помешали Франции лишиться десяти департаментов, завоеванных Республикой. Как можете вы быть сторонником такого рассуждения, чрезвычайно «старозаветного», как говорят романтики? Сразу видно, что вы вернулись из Азии.
Непочтительность этих слов еще подчеркивалась гордым, презрительным тоном, к которому сознательно прибегла Модеста. Он в равной мере удивил г-жу Латурнель, г-жу Миньон и Дюме. Г-жа Латурнель ничего не понимала, хотя и смотрела во все глаза. Бутша, внимание которого можно было сравнить с вниманием шпиона, бросил красноречивый взгляд на г-на Миньона, заметив, что лицо его внезапно покрылось краской возмущения.
– Еще немного, сударыня, и вы отнеслись бы неуважительно к своему отцу, – сказал, улыбаясь, полковник, которому взгляд Бутши многое разъяснил. – Вот что значит баловать своих детей.
– Я единственная дочь, – дерзко ответила Модеста.
– Единственная, – повторил нотариус с ударением.
– Сударь, – сухо возразила Модеста Латурнелю, – мой отец очень доволен тем, что я обращаюсь в его наставника; он дал мне жизнь, я даю ему знания, – он хоть чем-нибудь будет мне обязан.
– На все есть время, а главное, место, – сказала г-жа Миньон.
– Но мадемуазель Модеста права, – заметил Каналис и, встав, оперся на камин в одной из самых выигрышных поз своей коллекции. – Бог в своей предусмотрительности дал возможность человеку находить себе пищу и одежду, но не даровал ему непосредственно искусства. Он сказал человеку: «Чтобы жить, ты будешь сгибать спину, склоняясь к земле, чтобы мыслить, ты вознесешься к небесам!» Духовные потребности имеют для человечества не меньшее значение, чем потребности материальные. С практической точки зрения вдохновенная эпопея не сравнится, конечно, с мисочкой жидкого супа, который выдают беднякам в благотворительном обществе. Прекраснейшая идея не заменит корабельного паруса. Разумеется, котел автоклава, подрагивающий под действием пара, удешевляет метр коленкора на тридцать су, но эта машина и все усовершенствования в промышленности не вдохнут живую струю в душу народа и не расскажут грядущим поколениям о жизни этого народа; египетское искусство, мексиканское искусство, греческое искусство, римское искусство с их шедеврами, которые считаются бесполезными, вечное свидетельство существования народов, создавших эти творения, тогда как крупные нации, лишенные гениев, исчезли бесследно с лица земли, не оставив, так сказать, даже своей визитной карточки!.. В гениальных творениях сосредоточена сущность цивилизации, и тем самым обусловлена их огромная полезность. Я уверен, что в ваших глазах пара сапог не может быть ценнее театральной пьесы, и церковь Сент-Уана вы предпочтете какой-нибудь мельнице. Не правда ли? Ну так вот: целый народ может испытывать те же чувства, какие испытывает отдельный человек, а заветное желание каждого человека – жить и после смерти в чем-либо, созданном им, так же, как он физически воспроизводит себя в своих детях. Бессмертие же народа – в творчестве его гениев. В наше время Франция дает убедительные доказательства правоты моего утверждения. Конечно, Англия обогнала ее в промышленности, в торговле и мореплавании, а все же, мне думается, Франция стоит во главе мира благодаря своему искусству, своим талантам, изяществу своих изделий. Любой художник, любой мыслитель стремится в Париж, чтоб именно в нем получить признание своего мастерства. В наше время только во Франции существует подлинная школа живописи, и с помощью наших книг мы будем царить более надежно и прочно, чем с помощью меча. Если встать на точку зрения Эрнеста, надо уничтожить прекрасные цветы, женскую красоту, музыку, живопись и поэзию, но, спрашивается, кто примирился бы с такой жизнью?
Все, что полезно, – безобразно, отвратительно. Кухня необходима в доме, но вы избегаете сидеть в кухне, вы предпочитаете ей гостиную, которую украшаете, как вот эту гостиную, совершенно ненужными вещами. Ну, для чего вот эта роспись, эти резные панели? Шестнадцатый век мы зовем веком Возрождения, и совершенно справедливо называем его так. Этот век был зарей нового мира, люди будут говорить о нем даже и тогда, когда изгладятся из памяти человечества несколько предшествующих веков, вся заслуга которых только в том, что они были когда-то, как и миллионы людей, не имевших никакого значения в жизни того или иного поколения.
– Пусть ветошь, все равно! Мила моя мне ветошь [93]93
«Пусть ветошь, все равно! Мила моя мне ветошь»– слова Кризаля в комедии Мольера «Ученые женщины».
[Закрыть], – шутливо произнес герцог д'Эрувиль, когда наступило молчание после напыщенной декламации Каналиса.
– А что такое искусство, которое, по-вашему, единственная сфера, достойная гения, где он призван заниматься эквилибристикой? – напал на Каналиса Бутша. – Существует ли оно в действительности? Или это только пышно изукрашенная ложь, в которую общественный человек привык верить. Зачем вешать в своей комнате нарисованный нормандский пейзаж, когда я могу пойти посмотреть настоящий пейзаж, который превосходно удался господу богу? В мечтах мы создаем поэмы прекраснее «Илиады». За небольшую цену я могу найти в Валонье, Карантане, а также в Провансе и Арле живых Венер, не менее прекрасных, чем творения Тициана. «Судебная газета» печатает романы получше романов Вальтера Скотта, с ужасной развязкой, кровавой, а не чернильной. Счастье и добродетель – выше искусства и гениальности.
– Браво, Бутша! – воскликнула г-жа Латурнель.
– Что он сказал? – спросил Каналис у Лабриера, с трудом отрывая взгляд от Модесты, ибо он с наслаждением читал прелестное наивное восхищение в ее глазах и позе.
Презрение Модесты, которое пришлось вынести Лабриеру, а главное, непочтительные слова, обращенные ею к отцу, настолько огорчили бедного юношу, что он не ответил Каналису. Его взгляд, скорбно устремленный на своенравную девушку, выражал глубокое раздумье. Доводы клерка были подхвачены герцогом д'Эрувилем; он с жаром развил их, сказав в заключение, что религиозные экстазы святой Терезы несравненно выше творений лорда Байрона.
– Вы неправы, – ответила Модеста, – эти экстазы – поэзия глубоко личная, между тем как гений Байрона или Мольера приносит пользу человечеству.
– Ну вот, ты и противоречишь господину Каналису, – с жаром возразил Шарль Миньон. – Ты требуешь теперь, чтобы гений был полезен, словно хлопок, но, быть может, и логика кажется тебе столь же отжившей и старозаветной, как твой бедный отец.
Бутша, Лабриер и г-жа Латурнель обменялись полунасмешливыми взглядами, которые раздосадовали Модесту; она растерялась и не нашлась, что ответить.
– Успокойтесь, мадемуазель, – сказал Каналис, улыбаясь ей, – мы не побиты и не уличены в противоречии. Произведение искусства, к какой бы области оно ни относилось, к литературе, музыке, живописи, скульптуре или архитектуре, имеет для общества и чисто материальную пользу в такой же мере, как коммерческие товары. Искусство – не что иное, как торговля, оно подразумевает ее. Книга приносит теперь автору около десяти тысяч франков, а для ее издания требуется наличие типографии, бумажной фабрики, книжной лавки, словолитни, то есть многие тысячи рабочих рук. Исполнение симфонии Бетховена или постановку оперы Россини также обслуживают рабочие руки, машины и целые отрасли производства. Стоимость какого-нибудь памятника еще нагляднее подтверждает мои слова. Вот почему можно смело сказать, что гениальные произведения покоятся на чрезвычайно дорогой основе, которая не может не приносить пользы рабочему.
Развивая это положение, Каналис говорил некоторое время чрезвычайно образно, сам наслаждаясь своим красноречием, но с ним случилось то же, что с большинством завзятых говорунов: он вернулся к исходной точке разговора и, не замечая этого, оказался одного мнения с Лабриером.
– Я с удовольствием вижу, дорогой барон, – тонко заметил герцог д'Эрувиль, – что вы будете прекрасным конституционным министром.
– О!.. – воскликнул Каналис с величественным жестом. – Что доказываем мы всеми этими спорами? Ту извечную истину, что все – правда и все – ложь. Как моральные истины, так и живые существа изменяются до неузнаваемости в зависимости от окружающей их среды.
– Общество живет признанными истинами, – заметил герцог д'Эрувиль.
– Какое легкомыслие! – тихо сказала г-жа Латурнель своему мужу.
– Он поэт, – ответил Гобенхейм, услышав эти слова.
Каналис, который полагал, что он стоит бесконечно выше своих слушателей, и, вероятно, был прав в своем последнем философском выводе, принял за признак невежества холодок, отразившийся на лицах присутствующих; но он увидел, что понят Модестой, и остался доволен собой. Он и не подозревал, как оскорбителен был его монолог для провинциалов, ибо главная их забота – доказать парижанам существование, ум и благоразумие провинции
– Давно ли вы видели герцогиню де Шолье? – спросил герцог у Каналиса, чтобы переменить разговор.
– Я расстался с ней шесть дней тому назад, – ответил Каналис.
– Как ее здоровье? – продолжал герцог.
– Превосходно.
– Окажите любезность, передайте ей поклон от меня, когда будете писать.
– Говорят, она очаровательна, правда это? – спросила Модеста, обращаясь к герцогу.
– Барон может ответить вам с бóльшим знанием дела, чем я, – сказал обер-шталмейстер.
– Более чем очаровательна, – проговорил Каналис, не отступая перед коварным намеком д'Эрувиля. – Но я пристрастен, мадемуазель: герцогиня де Шолье – мой друг уже десять лет. Ей я обязан всем, что во мне есть хорошего, она оградила меня от опасностей света. Наконец, герцог де Шолье помог мне вступить на тот путь, который я избрал. Без покровительства этой семьи король и принцессы могли бы забыть о таком незначительном поэте, как я; вот почему моя привязанность к герцогине будет всегда преисполнена благодарности.
Все это было сказано со слезами в голосе.
– Как мы должны любить вдохновительницу стольких чудесных песен, женщину, внушившую вам такое прекрасное чувство! – сказала Модеста растроганно. – Можно ли представить себе поэта без музы?
– У такого поэта не было бы сердца, он сочинял бы стихи, похожие на стихи Вольтера, который никогда никого не любил, кроме Вольтера, – ответил Каналис.
– А помните, как в Париже вы оказали мне честь откровенным признанием? Вы еще говорили тогда, что не испытываете тех чувств, которые выражаете в своих произведениях? – спросил бретонец у Каналиса.
– Меткий удар, храбрый воин, – ответил поэт, улыбаясь. – Но знайте, что вполне позволительно вкладывать чувство и в творчество и в реальную жизнь. Можно выражать прекрасные чувства, не испытывая их, и испытывать эти чувства, не будучи в силах их выразить. Мой друг Лабриер любит до потери рассудка, – великодушно сказал он, глядя на Модесту, – я же хоть и люблю, без сомнения, так же сильно, как он, но полагаю, если только не обольщаюсь, что сумел бы излить свою любовь в литературной форме, соответствующей ее глубине. Однако я не поручусь, мадемуазель, – проговорил он, повернувшись к Модесте с несколько утрированным изяществом, – что завтра же не потеряю рассудка и...
Поэт выходил победителем из любого затруднения и мгновенно сжигал в честь своей любви все палки, которые ему вставляли в колеса. Модеста была поражена этим неизвестным ей доселе умом парижанина, придававшим блеск пышным фразам говоруна.
– Каков акробат! – сказал Бутша на ухо низенькому Латурнелю, выслушав великолепнейшую тираду о католической религии и о счастье иметь женой набожную женщину; эта тирада была преподнесена Каналисом в ответ на какое-то замечание г-жи Миньон.
На глаза Модесты как будто была надета повязка. Обаяние речей Каналиса и внимание, которое она заранее решила ему уделять, мешали девушке видеть то, что тщательно отмечал Бутша, а именно – декламаторские приемы, отсутствие простоты, напыщенность, заменяющую чувство, и все несообразности, внушившие клерку его несколько резкое сравнение. В то время как г-н Миньон, Дюме, Бутша и Латурнель удивлялись непоследовательности речей Каналиса, упуская из виду, что она вообще свойственна своенравно-капризной французской беседе, Модеста восхищалась гибкостью поэта и, увлекая его за собой по извилистым тропинкам фантазии, думала: «Он меня любит!» Бутшу и остальных зрителей этого «представления» поражал в поэте основной недостаток эгоистов – Каналис же слишком явно его обнаруживал, как и все люди, привыкшие разглагольствовать в гостиных. То ли Мельхиор заранее схватывал мысль собеседника, то ли вовсе не слушал или же обладал способностью одновременно и слушать и думать о другом, но его лицо обычно выражало рассеянность, которая расхолаживает собеседников и оскорбляет их гордость. Не слушать – это не только отсутствие вежливости, но и признак пренебрежения. Между тем у Каналиса эта привычка заходила иногда слишком далеко. Он часто забывал ответить на обращенный к нему вопрос и до невежливости резко переходил к той теме разговора, которая его занимала. Если эту дерзость и принимают без протеста от выдающегося человека, она все же может заронить в сердце искру вражды и желание отомстить, а если она исходит от равного, то способна уничтожить дружбу. Случалось, что Мельхиор заставлял себя выслушать собеседника, но тогда он впадал в другую ошибку: он только снисходил до разговора, а не отдавался ему всей душой; такая половинчатая жертва менее оскорбительна, чем невнимание, но она все же неприятно действует на слушателя и вызывает у него недовольство. Ничто так не окупается в общении с людьми, как милостыня внимания. «Имеющий уши да слышит» – не только евангельская истина, но и прекрасная житейская мудрость. Соблюдайте ее, и вам простится все, даже пороки. Каналис старался переломить себя, желая понравиться Модесте, и был с ней любезен, но с другими слишком часто оставался самим собой.
Модеста, безжалостная к мучениям десяти остальных слушателей, попросила Каналиса продекламировать одно из его произведений: она слышала, что он превосходный чтец. Каналис взял томик, который протянула ему Модеста, и проворковал (определение наиболее точное) то из своих стихотворений, которое считается лучшим, а именно подражание «Любви ангелов» Мура, озаглавленное Vitalis [94]94
Дыхаиие жизни ( лат.).
[Закрыть]; однако оно было встречено зевками со стороны г-жи Латурнель, г-жи Дюме, Гобенхейма и кассира.
– Если вы, сударь, вдобавок ко всем вашим качествам еще хорошо играете в вист, я, право, еще ни разу не встречал такого совершенства в образе человека, – сказал Гобенхейм, предлагая Каналису пять карт, сложенных веером.
Эти слова вызвали смех, так как выражали мнение всех присутствующих.
– Я играю достаточно хорошо, чтобы провести в провинции остаток моих дней, – ответил Каналис. – Для любителей виста здесь было слишком много поэзии и философии, – досадливо прибавил он, бросив томик своих стихов на подзеркальник.
Этот пустячный эпизод указывает, какие опасности ожидают салонного героя, когда он, подобно Каналису, покидает свою обычную сферу; он напоминает тогда актера – любимца известного рода публики, талант которого блекнет, как только он выходит из своей среды и выступает на подмостках первоклассного театра.
Каналис играл в одной партии с герцогом, Гобенхейм оказался партнером Латурнеля. Модеста села около поэта, к большому огорчению бедного Эрнеста, – он следил за малейшими изменениями в выражении лица этой своенравной девушки и видел, что она все больше поддается обаянию Каналиса. Лабриер еще не знал, что Мельхиор наделен даром обольщения, в котором природа часто отказывает искренним людям, обычно довольно застенчивым. Этот дар требует смелости, большой гибкости в применении средств, вольтижировки ума и даже известной доли актерских способностей. Но разве в душе всякий поэт не комедиант? Между способностью выражать чувства, которые не испытываешь, но постигаешь в других, прекрасно улавливая их оттенки, и притворством, к которому прибегают, желая добиться успеха на подмостках частной жизни, огромная разница. Однако если поэт заражен лицемерием, необходимым светскому человеку, то он сознательно направляет свое дарование на то, чтобы выразить любое чувство применительно к обстоятельствам, подобно тому как выдающийся человек, обреченный на одиночество, дает выход своему сердцу в игре воображения.
«Ради миллионов старается, – горестно думал Лабриер, – и так хорошо сумеет разыграть страсть, что Модеста поверит в нее!»
И вместо того, чтобы попытаться превзойти соперника любезностью и остроумием, Лабриер последовал примеру герцога д'Эрувиля: он сделался сумрачным, беспокойным, натянутым. Но в то время как придворный наблюдал за выходками молодой наследницы, изучая ее характер, Эрнест терзался мрачной и тяжелой ревностью, – ведь он еще не добился ни единого взгляда от своего кумира. Он вышел на несколько минут в сад вместе с Бутшей.
– Все кончено, – проговорил Лабриер, – она без ума от него, я же ей более чем неприятен. Что ж, она права! Каналис очарователен, он даже молчит умно, глаза его выражают страсть, а гиперболы так поэтичны.
– Честный ли он человек? – спросил Бутша.
– О да! – ответил Лабриер. – Он прямодушен, рыцарски благороден и, подчинившись влиянию такой девушки, как Модеста, избавится от мелких недостатков, которые привила ему госпожа де Шолье.
– Вы славный малый, – сказал маленький горбун. – Но может ли он любить и полюбит ли ее?
– Не знаю, – ответил Лабриер. – Говорила ли она обо мне? – спросил он, помолчав.
– Да, – сказал Бутша и передал Лабриеру вырвавшиеся у Модесты слова относительно маски.
Лабриер опустился на скамью и закрыл лицо руками; он не мог сдержать слез и не хотел показать их Бутше; но карлик был достаточно проницателен, чтобы догадаться о них.

– Что с вами, сударь? – спросил Бутша.
– Она права, – проговорил Лабриер, резким движением поднимаясь со скамьи. – Я негодяй!
Он признался Бутше в обмане, на который его склонил Каналис, заметив при этом, что хотел рассеять заблуждение Модесты прежде, чем она сама снимет с себя маску, и стал по-детски жаловаться на свою несчастную судьбу. Бутша почувствовал к нему симпатию, видя в сетованиях Лабриера любовь с ее наивной непосредственностью, с ее искренней и глубокой тоской.
– Но почему вы не хотите показать себя в выигрышном свете перед Модестой, – спросил он юношу, – почему позволяете сопернику пускать в ход все его средства обольщения?
– Так, значит, вы ни разу не испытывали, – ответил Лабриер, – как сжимается горло, когда хочешь заговорить с ней, как пробегает холодок у корней волос и по всему телу, когда ее взгляд хотя бы мимоходом останавливается на вас.
– Вы еще не совсем потеряли голову: я заметил ваше мрачное уныние, когда она, правда иносказательно, заявила своему почтенному отцу: «Вы тупица».
– Сударь, я слишком ее люблю! Для меня такие ее слова – нож в сердце, настолько они противоречат совершенствам, которые я в ней нахожу.
– А Каналис оправдал ее, – ответил Бутша.
– Будь у нее больше самолюбия, чем сердца, не стоило бы и жалеть о ней, – возразил Лабриер.
В это время Модеста в сопровождении проигравшегося Каналиса, своего отца и г-жи Дюме вышла в сад, чтобы насладиться свежестью звездной ночи. Пока девушка гуляла по дорожке с поэтом, Шарль Миньон, отойдя от них, подошел к Лабриеру.
– Вашему другу, сударь, следовало бы стать адвокатом, – сказал он, улыбаясь и внимательно глядя на молодого человека.
– Не судите слишком поспешно о поэте, граф. К нему нельзя подходить с той же меркой, что и к заурядному человеку вроде меня, – ответил Лабриер. – У поэта есть высокое назначение. По своей натуре он не может не видеть поэтической стороны жизни, не выражать поэзии всего сущего. Там, где вы замечаете противоречие, он только остается верен своему призванию. Он похож на художника, одинаково хорошо изображающего мадонну и куртизанку. Мольер дал правдивые образы и стариков и юношей, а у него, разумеется, была трезвая голова. Игра ума, развращающая обыкновенных людей, не оказывает никакого влияния на характер действительно великого человека.
Шарль Миньон пожал руку Лабриеру, говоря:
– Но ведь при такой гибкости он может, пожалуй, оправдать в собственных глазах поступки диаметрально противоположные, особенно же в политике.
– Ах, мадемуазель, – вкрадчивым голосом отвечал в эту минуту Каналис в ответ на лукавое замечание Модесты, – не думайте, что разнообразие ощущений способно хоть в малейшей мере повлиять на силу чувства. Поэты любят вернее и преданнее, чем другие люди. Прежде всего не ревнуйте поэта к тому, что принято называть его музой. Счастлив удел жены занятого человека! Послушайте жалобы женщин на праздность мужей, когда те не имеют профессии или же благодаря своему богатству пользуются излишним досугом, и вы поймете, что высшее счастье парижанки – это свобода и неограниченная власть у себя дома. И вот мы, поэты, позволяем женщине взять в свои руки бразды правления в семейной жизни, так как не способны унизиться до тирании, к которой прибегают мелочные люди. У нас есть более интересное дело. Если я когда-нибудь женюсь, – а это, клянусь вам, для меня еще очень отдаленная катастрофа, – я желал бы, чтобы моя жена сохранила за собой ту же духовную свободу, что и любовница, – не в этом ли источник всех женских чар?
Каналис проявил все свое остроумие и обаяние, говоря о любви, браке, преклонении перед женщиной; он спорил с Модестой и всячески развлекал ее, пока г-н Миньон, успевший за это время присоединиться к ним, не воспользовался минутным молчанием, чтобы взять дочь под руку и подвести ее к Эрнесту, которому он посоветовал объясниться с Модестой.






