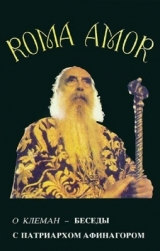
Текст книги "Беседы с патриархом Афинагором"
Автор книги: Оливье Клеман
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Византия, Константинополь, Стамбул
Избрание Афинагора I было совершенно неожиданным. Дело в том, что в 1946 году вселенским патриархом был избран Максим, человек достаточно молодой. Ему было пятьдесят два года, и ожидалось, что он еще долго будет управлять Церковью. Но вскоре после этого он был поражен душевной болезнью – своего рода ужасом перед священным, – которая вынудила его к отречению. И вот после этого 1 ноября 1948 года был избран Афинагор I.
Афинагор регулярно посещает своего больного предшественника. «Перед тем как идти к нему, я никогда не забываю снять с себя все знаки моего сана, чтобы не причинять ему боли». Мне случалось видеть патриарха тотчас после этих визитов. Он был печален, долго хранил молчание. Однажды он рассказал мне, какой замечательный человек Максим, как остры его страдания, ибо кризисы, которые мучат его, переживаются при полном разуме. Я пустился в рассуждения о провиденциальной роли, выпавшей на долю нынешнего патриарха, которую он не мог бы сыграть без душевной болезни Максима. Жестом он заставил меня замолчать: «Кто знает? – сказал он, – кто знает?»
Афинагор I прибыл в Стамбул 26 января 1949 года на борту личного самолета президента Трумена. Его интронизация состоялась на следующий день.
Американская политика была направлена на примирение Турции и Греции в целях сдерживания сталинского проникновения на Балканы в тот момент, когда югославский раскол и окончание гражданской войны в Греции благоприятствовали их союзу. Афинагор I был фигурой, казалось, наиболее способной содействовать сближению греков и турок. В более широком плане с него ожидали, что его престиж поможет Константинопольскому патриархату создать в православном мире противовес влиянию патриархата Московского. Война и национальное сплочение, которое она вызвал, открыла возможность для реорганизации Русской Церкви, которая стремилась объединить вокруг себя Церкви–сестры, находившиеся, кстати, за железным занавесом. Традиционный престиж этих Церквей в арабском православии способствовал русскому проникновению на Ближний Восток. В 1948 году на праздновании 500–летия автокефалии Русской Православной Церкви в Москве состоялось совещание с самым широким представительством православных Церкви, антизападная направленность которого была выражена со всей резкостью.
Однако история и неисповедимые ее судьбы с одной стороны, ясновидческий дар Афинагора с другой, нарушили все эти расчеты и предвидения. Греко–турецкое сближение не выдержит кипрского кризиса. А новый патриарх станет апостолом всех православных Церквей, но не вопреки Москве, а вместе с ней.
Мы не знаем точной даты, когда был обращен в христианство маленький греческий городок Византия, и когда о получил епископскую кафедру. Как говорит предание, впрочем, достаточно позднее, христианскую общину здесь основал апостол Андрей. Патриарх Консантинопольский Никифор в конце VIII века даже утверждал: «Апостол Андрей проповедовал Евангелие в Византии, учредил здесь культ и поставил епископа по имени Стахий, о котором говорит апостол Павел в Послании к Римлянам». 3 марта 357 г., вскоре пюле того, как Византия стала Константинополем, сода были перенесены мощи Апостола. Андрей «Первозванный» стал поэтому небесным покровителем города, где ему было посвящено пять церквей. Однако Константинопольская кафедра вовсе не обязана своей значимостью этому не вполне исторически доказанному, легендарному апостольскому деянию. «Апостольскими кафедрами» вообще никого не удивишь на Востоке. Но превращение Византии в столицу христианской империи быстро сделало ее и великим духовным центром. Святой Григорий Назианзин, которого, за прославление им тайны Пресвятой Троицы, тайны, составляющей сердце подлинного «богословия», называют на Востоке «Богословом», в конце IV века, после господства арианских императоров, восстановил православие в столице. Он стал ее епископом и сыграл решающую роль в работе Второго Вселенского Собора, собравшегося в этом городе. Тот же Собор воздал особую честь Новому Риму: «Константинопольский епископ, – говорит третий его канон, – имеет первенство чести после епископа Римского, потому что Константинополь – это Новый Рим». Вскоре эта Церковь распространила свою юрисдикцию на область Фракии и Малой Азии. Святой Иоанн Златоуст, самый знаменитый среди тех, кто занимал эту кафедру, утверждал или отменял избрания епископов в этих районах, не вызывая ни у кого протеста против такого рода – уже «патриарших» – актов. В 451 году Четвертый Вселенский Собор был собран в азиатском пригороде Константинополя Халкидоне; он подтвердил правомочия нового патриарха и в своем двадцать восьмом каноне наделил его «прерогативами», равными прерогативам Рима. {Слова «Ты – Петр и на этом камне воздвигну Церковь Мою» обращены Христом к апостолу Петру (Мф 16.18). «Примущества же престола Нового Рима основываются на том, что град, получивший честь быть градом царя и синклита… и в церковных делах будет возвеличен подобно ветхому Риму и будет вторым (М. Поснов, «История Христианской Церкви», Брюссель 1964, стр. 295, 296. } Канон 9 и 17 того же Собора признают определенное право апелляции к Константинополю. Наконец в VI веке епископ столицы принимает титул «вселенского патриарха», что никоим образом не влечет за собой отрицания римского первенства, но подчеркивает связь, соединяющую патриархат с империей как с политической организацией христианской ойкумены. Эта вселенская роль была постепенно перенесена и в духовную сферу благодаря сохранению и углублению православной веры. Пятый и Шестой Вселенские Соборы, собиравшиеся в этом городе в 553 и 680 годах, стали важными этапами в выработке христологической доктрины. Значительную роль сыграли Соборы 1274,1341 и 1351 годов, пролившие свет на тайну Духа Святого и благодати обожения. На пороге второго тысячелетия Вселенский патриархат проделал огромную миссионерскую работу в славянских, румынских и кавказских землях. Он становится Церковью–Матерью всех православных Церквей, за исключением старых патриархатов Александрии, Антиохии и Иерусалима, ослабленных к тому же «монофизитским» расколом и вторжением ислама.
Начиная с XI века удаление от латинского мира сделало патриарха Нового Рима первоиерархом православной Церкви без всякого ущерба для традиционных прав епископа Римского, в случае если бы единство веры было восстановлено. В XIII веке титул этот звучит так: «Милостью Божией архиепископ Константинополя, Нового Рима и вселенский патриарх». После падения византийской империи, патриарх, как мы видели, становится «этнархом» православного народа, подчиненного оттоманскому владычеству. Он принимает титул «Его Святейшества» и печать базилевса : двуглавого орла, над которым возвышается крест.
Вплоть до XIX века, несмотря на все тяжкие испытания, выпадавшие на долю греков и славян, первенство Константинополя не вызывало возражений. Речь шла о первенстве в братской любви, которая отнюдь не навязывала себя поместным Церквам, но хранила их согласие. Начиная с VI века, взаимозависимость римского первенства и епископской коллегиальности сложилась на Востоке в систему «пентархии», т. е. согласия главных апостольских кафедр, следующих по порядку чести: Рима, Константинополя, Антиохии, Александрии, Иерусалима. После раскола в православии сохранился тот же традиционный канонический порядок. Вселенский патриарх служил порукой сотрудничества поместных Церквей в согласии с тремя восточными патриархами, которых он созывал на Соборы, куда их сопровождало множество епископов. Так собирались Соборы 1484, 1735, 1848 и 1872 годов, последние два из которых имели исключительное экклезиологическое значение. Независимость Русской Церкви никоим образом не нарушила этой организации. Томос 1589 года, учреждавший в этой Церкви патриаршество, который подписали патриархи Константинополя, Антиохии и Иерусалима и восемьдесят один митрополит, указывал, что «Московский патриархат, как и другие патриархаты, имеет своей главой и своим началом апостольскую кафедру Константинополя». Нестроения, возникшие в Русской Церкви в XVII веке, заставили патриарха Московского Никона обратиться с апелляцией к Константинополю с тем, чтобы утвердить решение поместного собора, что позволило апостольской кафедре еще раз подчеркнуть, что «вследствие поврежденности Римской Церкви, прерогативы ее перешли к Константинопольской кафедре, и что в случае конфликта между поместным первоиерархом и его епископами определяющим становится решение патриарха Константинопольского, принятое в согласии с его восточными собратьями».
Тем не менее упадок, а затем и крушение оттоманской империи в XIX и XX вв., обретение независимости народами во всей Юго–Восточной Европе, увеличение числа национальных Церквей в конце концов свело к минимуму непосредственную юрисдикцию Константинополя и сделало недействительным все то, что еще могло остаться от Пентархии. Фанар понимает, что необходимо провести реорганизацию и что первоначальные права и председательство вселенской кафедры могут сохранить свой смысл только в согласии со всеми Церквами–сестрами и лишь в служении их единству. Константинополь собирает две всеправо–славные конференции в 1923 и 1930 году с непосредственным представительством всех автокефальных Церквей. Однако трагическая ситуация Русской Церкви препятствует успеху этих попыток. В то же время многие сообщества, вышедшие из этой Церкви, путем ли эмиграции или установления новых границ, обращаются к Церкви Константинополя, которая, за пределами национальных групп, служит порукой вселенскости православия и в исключительных ситуациях становится последним оплотом. Вселенский патриарх в период между двумя войнами берет под свое покровительство Церкви, которым он дает автономию. Речь идет о Церквах польской, финской, прибалтийских стран, равно как и о Церкви основной частью русской эмиграции в Западной Европе. Однако, Московский патриархат не принимает этих решений и после 1945 года реорганизует по–своему те из этих Церквей, которые находятся по его сторону «железного занавеса». Он разрабатывает экклезиологию, которая практически исключает существование какого–либо центра всеобщего согласия; и в этой перспективе «абсолютного автокефализма» православие определяет себя как конфедерацию независимых Церквей, каждая из которых наделена безраздельным правом самостоятельных действий. Русская Церковь в этой конфедерации в силу своей численности, должна получить решающий вес.
1949: Константинополь и Москва представляют собой два различных понимания Церкви и принадлежат двум политическим мирам, находящимся в состоянии «холодной войны». С точки зрения «реалистических» наблюдателей православие стало как бы «двухглавным», оказалось перед угрозой раскола.
1969: собрано пять всеправославных конференций, происходит подготовка к вселенскому собору, и все это – при полном сотрудничестве Московского патриархата. Таков итог деятельности Афинагора I. Он сумел разрешить спорные вопросы, имевшиеся между Константинополем и Москвой. Из самостоятельных Церквей, возникших между двумя войнами, он, с согласия Московского патриархата, сохраняет под своей эгидой лишь Церковь Финляндии. В 1965 году он отказался от русского экзархата в Западной Европе в надежде, что русская диаспора станет организованным церковным целым. Он объединил православие, утверждая первенство Константинополя не как юридическую власть, которой добиваются или которую навязывают, но как жертвенное служение.
Если сегодня Константинопольская Церковь являет собой центр согласия ста шестидесяти миллионов православных, ее непосредственная юрисдикция распространяется лишь на три миллиона из них. Сила и гарантия чисто духовного ее присутствия утверждаются самой этой диспропорцией, скорректированной, однако, недавним планетарным рассеянием греков, символизирующим новую ситуацию – и новое бремя ответственности – с коим столкнулось православие.
Непосредственная юрисдикция патриархата включает в себя Константинопольскую архиепископию и четыре митрополии (Халкидона, Деркона, Принцевых островов, островов Имброса и Тенедоса) в Турции; в Греции – четыре митрополии Додеканеза (принадлежавшего Италии до 1945 года) и патриарший экзархат на Патмосе, где монастырь непосредственно зависит от Константинополя; в рассеянии – четыре митрополии в Европе, архиепископию в Северной и Южной Америке, архиепископию в Австралии и Новой Зеландии. Критская Церковь наполовину автономна; ее митрополит назначается Константинополем после консультации с местным синодом. Финляндская Церковь самостоятельна: ее примас, архиепископ, выбирается духовенством и народом, затем утверждается патриархатом. Наконец монашеская республика на Афоне (где гражданская администрация, назначаемая греческим государством, играет все возрастающую роль) находится в верховной юрисдикции Константинополя.
«Константинополь – перекресток всего мира, – говорит патриарх. – Здесь встречаются Восток с Западом, Азия с Европой, но также и славянский Север с африканским Югом». Царственный город с местоположением столицы мира, пересеченный морским проливом, так что один берег его находится в Азии, другой в Европе. На передних холмах Юстиниан возвел храм Софии–Премудрости, дабы превзойти Соломона и сделать город символом Нового Иерусалима. Сулейман возвел свою мечеть, чтобы превзойти Юсти
ниана, а Ахмед окружил эту мечеть шестью минаретами, чтобы сделать свою столицу новой Меккой. Все они стремились воплотить своего рода апокалиптическое видение завершенного града, где «кристаллизируются честь и слава народов», где само море – это не враждебная стихия, но река жизни. И само название города «Истанбул», официально введенное Ататюрком, разве не означает оно «обращенный к городу» is tin bolin, как говорили завоевателям византийские крестьяне, город, в котором началось созидание вечного Града?
«Мы, православные греки, живущие под турецким подданством, лояльные граждане, мы не просим ничего иного, кроме уважения Конституции, но мы знаем, что здесь мы у себя дома. Уже три тысячи лет».
Согласно Страбону, городом матерью Византии в начале первого тысячелетия до нашей эры была Мегра. «Мегрцы, предводительствуемые Визом, выслушав Дельфийского оракула, отправились на Север». Они расположились напротив другой греческой колонии – Халкидона, основанной, как сказал оракул, «слепцами», ибо они пренебрегли великолепным естественным портом Золотого Рога.
Константин, когда он преобразовал этот провинциальный город в столицу всей империи, возвел в центре его колонну, у подножия которой он сложил все те священные предметы, которые символизировали два призвания города – призвание быть новым Римом и знамением нового Иерусалима: здесь зарыты топор Ноя, скала, из которой Моисей извлек воду, корзина умножения хлебов, сосуд для мира, принадлежавший евангельской блуднице, – и Палладиум, эта деревянная статуя Афины–Паллады, упавшая с неба, чтобы защитить Трою, и принесенная Энеем в Италию, затем ставшая великим талисманом Рима. Так, в сердце этого города было как бы заложено воспоминание о космическом завете Ноя, о законе Моисеевом, о парадоксе Бога воплощенного, не отвергающего и блудницы, пришедшей помазать Его драгоценным миром–и воспоминание о Риме, силе земной, поставленной на служение Христу.
В 1105 году, когда в Византии тяга к пространству стала уступать место жажде Духа, колонна, на которой стояла статуя Константина, обрушилась. Но предметы, находившиеся у ее подножия, смешались с землей города, той почвой, что благодаря хранению стольких мощей и свидетельству стольких святых стала «землей небесной».
Византия мирская, столь обесславленная, была весьма многообразной по своему «человеческому составу», который мы еще отнюдь не изучили до конца. Ее следует сравнивать не столько с западноевропейским средневековьем, сколько с эпохой Возрождения и древнего гуманизма, ибо она и вправду время от времени переживала возрождение античного гуманизма, но последний был уравновешен, зачастую преображен Светом христианства… Разве зодчие Святой Софии не были инженерами, влюбленными в геометрию, имевшими опыт использования силы волн и сжатия пара?
Византия была по–своему современна: государство и Церковь брали на себя расходы по медицинскому обслуживанию бедняков, а в больницах даже работали женщины–врачи. Правила городского строительства определяли широту улиц, сообразовывали с ландшафтом высоту домов и оставляли квартиры с видом на бесчисленные античные статуи, привозимые со всего греческого мира, не за самыми богатыми, но за самыми образованными. 98
Демократия Византии – демократия насильственная и утонченная. Никогда наследственный принцип, несмотря на весь престиж «порфирородных» князей не мог утвердить себя во главе государства. Кто угодно мог стать императором, если он был избран Сенатом, армией и народом, кто угодно мог стать императрицей, если ее избрал император; так известно, что самая мужественная и умная basilissa поначалу играла в самых низкопробных спектаклях, где лебеди клевали ее половые органы. Наконец цирковые игрища давали народу возможность дать выход своим страстям, когда он принимал сторону тех или иных партий, боровшихся на арене и обозначенных различными цветами, символизировавшими воздух, воду, землю и огонь. Иногда на этих игрищах происходили прямые разговоры, а порой даже драматические пререкания с самим императором.
Однако нам говорят о цезаро–папизме. Мы должны отдавать себе отчет в его границах.
Византийская Церковь никогда не знала теории «двух мечей». Она никогда не притязала на владение мечом государственным. Она согласилась с тем, что империя, по принципу «симфонии», служит лишь временным пристанищем Церкви на земле. Она пошла даже и на некоторое административное сращение Церкви и государства. Однако это сращение никогда не уничтожало строгой духовной границы между ними. Так в недрах ее возникло монашество, возникло как вызов христианской империи, вдохновляя и одновременно преодолевая ее. Монахи не были ни священниками, ни эрудитами – гуманистическая культура шла своим путем – но просто мирянами, одушевленными евангельским гуманизмом, и пророками грядущего Царства. Всю византийскую историю и культуру пронизывает скрытое противоречие между имперской пышностью и монашеской бедностью. Ибо Церковь, внешним образом включенная в государство, признала в монашестве то, что ранее она прославляла в мученичестве: «нормальное» выражение христианской жизни, которое оспаривает самодостаточность этого мира. Монашеская молитва стала для православия источником приходского богослужения, как и образцом духовной жизни в целом.
Более того: всякий раз, когда императоры из соображений политических стремились навязать Церкви догматические компромиссы, монахи, воодушевляя пророчески весь народ Божий, воздвигали против государства подлинную Церковь исповедников, которая в конце концов побеждала. Побеждала не насилием, но мученичеством. Ибо «христианские» императоры были скоры на пролитие крови мучеников, в особенности в VIII веке, во время иконоборческих споров. И тогда были выкованы окончательные формулы: «Империя не должна принимать решений в области веры» «Миссия императоров – наблюдать за благом государства, но только пастырям надлежит наблюдать за делами Церкви». В это время в имперском искусстве триумфальный цикл, унаследованный от Поздней Империи и прославляющий императора победителя, уступил место теме базилевса, простирающегося у ног Христа.
И даже более того: Византийская Церковь, несмотря на всю свою слабость и порой раболепство, неуклонно отстаивала двойное требование свободы и справедливости. В этой перспективе, если власть государства поневоле основана на принуждении в силу греха, буйство которого она должна ограничить, то когда дело касается духа, то его, государство, ограничивает Церковь. Следует процитировать здесь святого Иоанна Златоуста, являющего собой как бы образeц патриарха Константинопольского. «Пока гражданская власть является властью меча и принуждения, власть пастыря будет властью слова и убеждения». «Я привык переносить преследования, но не преследовать, быть угнетенным, но не угнетать. Ибо Христос восторжествовал не распиная других, но сам будучи распятым». «Нет веры по принуждению», – напоминал в XIV веке Иоанн Кантакузин. Свобода при определенных исторических обстоятельствах не является удобством для Церкви. Она есть само содержание ее нести, потому что именно на Кресте проявило себя всемогущество Божие.
С требованием свободы соединяется требование справедливости. Греческие Отцы – святой Василий и снятой Иоанн Златоуст – поняли буквально двадцать пятую главу Евангелия от Матфея и уравняли Христа с бедняком. Бог не сотворил одних богатыми, а других бедными; несправедливость сможет исчезнуть чшпь тогда, когда блага земные окажутся в распоряжении всех. От святого Иоанна Златоуста в V веке до Афанасия II в XIX веке многие Константинопольские патриархи перед лицом сильных мира сего становились ходатаями и защитниками пролетариата огромного города. Лишь с великими западными расколами, отозвавшимися и на Востоке, замкнувшемся в своих литургических ритмах и как бы убаюканном ими, в пашем веке возникло трагическое противопоставление Христа–бедняка Христу Евхаристии.
В Стамбуле ничего не осталось от земного величия Византии. Исчезли дворцы и статуи. Сохранились только крепостные стены, форма города, как душа является формой тела, и на большой площади, где находился ипподром, «змеевидная колонна» и обелиск Карнака. Обелиск с своей порфирной стрелой невредим и чист как безликая вечность. Сделанная из трех бронзовых переплетенных змей, колонна была открыта во времена Дельфов греческими полисами, чудесным образом одержавшими победу над персами при Саламине и Платее. Здесь вся судьба Византии: эта встреча между Востоком и Западом, небесным провозглашением вечного и земным требованием свободы для личности и для полиса. Синтез и преодоление заключены, может быть в этой богочеловечности, о которой свидетельствует Византия духа, как бы растворившаяся в молитвенном стоянии.
«Византийская литургия, – говорит Луи Буйе, – это поистине священное празднество, где все начала христианского гуманизма, гуманизма не случайного, но единственно сущностного, служат прославлению Божию». Истинными творцами в Византии были не эти утонченные платоники или эти мастера в искусстве малых жанров, о которых постоянно вспоминают западные историки, но те музыканты, те поэты, те архитекторы, что с помощью целостного, литургического искусства низвели небо на землю воплощенным в непреходящей красоте.
Когда Мехмед II захватил Византию, она была лишь тенью себя самой. От миллиона жителей города оставалось не более пятидесяти тысяч, и «паук плел свою паутину во дворцах», как ностальгически повествует Фатих, Завоеватель. Хорошо знакомый с мыслью древней Греции, он имел особую склонность к стоицизму. Не раз он заказывал свои портреты у итальянских живописцев. Два из этих полотен выставлены в музее Топкапи Сараи. На портрете художника Джентиле Беллини лицо поражает своей изысканностью и меланхолией, длинным и тонким носом, замкнутым ртом. Этажом ниже на портрете кисти Констанцо ди Ферраро, подчеркнута массивность шеи и плеч. Тонкое лицо становится резким на фоне массивности. ()рел отдыхающий, орел задумавшийся…
Топкапу Сараи. Сады, нависшие над морем павильоны, альбомы султанов и их миниатюры наводят на мысль о развитом строе чувств. Эта красота иная, отличающаяся от красоты византийской, красота не преображенного эроса, но эроса чувственно утонченного. За нею угадывается животная невинность, соединяющаяся всегда с определенной жестокостью, сексуальность тяжелая, лишенная нежности, но не лишенная ностальгии. Эту ностальгию выражают даже сады: здесь ощущается близость Персии, где сад носит имя пардес, парадиз… Сады, просвечиваемые насквозь, не густые, но глухо заросшие разнообразной зеленью, где каждое дерево, каждый цветок одиноко возносит себя в четырехугольном пространстве. Это пространство повсюду пронизано тихо пламенеющими розами и соразмерно посаженными хвойными деревьями, как бы раскрытыми жарой в их сокровенной сущности, ибо этот сад – сад запахов… В конце XVII иска турки полюбили цветники из тюльпанов, куда ночью они выпускали черепах, к панцырю которых они прикрепляли свечи. «День, когда турки вошли в Константинополь, – рассказал мне патриарх, – был праздником святой Феодосии; по этому случаю церковь, посвященная ей, была украшена цветами. Завоеватели, увидев цветы, пощадили церковь и молящихся в ней. Они назвали ее «церковью цветов».
Такова невинность жестокости, которая определяет Восток. На альбоме Сулеймана Великолепного цветущие миндальные или персиковые деревья образуют с кипарисами символическую конфигурацию жизни и смерти. И с такой же изысканной четкостью, выраженной в растительном мире, сражения и пытки представлены в саду: отрубленная рука, торчащая среди цветов, и как бы истекающая их кровью.
От своего кочевого прошлого, от долгой связи с животным миром, турецкое искусство сохранило поразительное восприятие хищника, которое запечатлено, скажем, в альбоме миниатюр Завоевателя. Острое видение мускулатуры, связок, суставов: животное сведено к сплетению мускулов, оно ощущается не как комочек вечности на японский манер, но как скрученность силы. Здесь можно угадать преемственность с хеттским и месопотамским искусством, на которую, не обращая внимания на насмешки, указал Ататюрк…
Любовь к цветам, жизненный порыв хищника, присутствие смерти. Здесь, в тени ислама, «под сенью Божией», существовала культура изысканная и суровая, умевшая создать истинную красоту.
Затем – встреча с современным Западом, подобная шоку, крушение оттоманской империи. Народ этот, в особенности в неимущих слоях, сумел обнаружить подлинное благородство, чувства, может быть, узкие, но интенсивные и чистые: любовь к земле, нежность отца к детям, целомудрие влюбленных и способность этих людей молчать, застыв в спокойной и строгой позе с темными глазами, плоскими и в то же время бездонными. Они были хорошими солдатами, хорошими поэтами, великими мистиками, однако умение ориентироваться в современном мире требует другого. Нередко греки и армяне пользовались ими по–своему, вот почему они их ненавидели.
Затем пришел Ататюрк. Патриарх научил меня понимать его величие. Из руин оттоманской империи и мусульманской империи он, прибегнув в кесареву сечению, принял роды современной нации. Он отверг два искушения стран третьего мира: религиозный фанатизм и псевдорелигиозный коммунизм, который рациональный уклад современного мышления ставит на службу такому же фанатизму. Он проложил путь для современной Турции, терпимой, способной принять на себя ответственность за все пространство своей земли и своей истории. Но для того, чтобы гениальные замыслы были осуществлены в жизни, народу требуется пройти еще долгий и длительный путь.
Вот почему Стамбул, где с 1949 года живет Афинагор I – это город, в котором пересекаются и наслаиваются друг на друга разные миры, нисколько не навязывая друг другу какого–то однообразия. Бейоглу, древняя Пера, космополитический город с его греческими и армянскими купцами, архитектурой 1900–ых годов, ныне несколько обветшалой, перерастает на севере в современные кварталы, где на холмах, нависающих над Босфором, тон задает уже молодая турецкая архитектура. Старый город, стоящий еще на византийской закладке, с несколькими греческими кварталами, старинный еврейский квартал со своими западными окраинами, ныне прорезан современными улицами, насильно окружен и еще более насильно пересечен гигантскими шоссейными дорогами. У вокзала, в районе Базара и на других окраинах все еще господствует Восток, «пролетаризированный» посредственной современной застройкой, однако заселенный тем людом, стиль жизни которого, медлительный и праздный, мы, европейцы, утратили. За фасадом больших городских артерий, придавших современный облик древнейшим путям, не изменившимся с IV века, стоят высокие деревянные дома, чуть–чуть расширяющиеся от одного этажа к другому, с окнами в форме гильотины, откуда выходят иногда изогнутые трубы дымоходов.
Город урчит, коротко лают тяжелые американские автомобили, которые работают здесь как маршрутные такси, глубоким басом ревут корабли.
Стамбул – песочные часы с двумя стрелками, два плавучих моста, пересекающих Золотой Рог и открывающихся по ночам, чтобы пропустить большие пароходы. Какой–то возглас раздается с Галатского моста, самого близкого к открытому морю. Внизу рыбак разжигает жаровню прямо на своей лодке и жарит для покупателей, ожидающих на набережной, рыбу, которую он только что поймал.
Холмы, протягивающиеся осью через старый город, покрыты широкими куполами. Эти холмы кажутся легкими и пористыми, сложенными из полых кирпичей – словно из птичьих костей. Они как бы воспроизводят очерченный минаретами Купол небесный, откуда влажный свет расстилается тончайшим облаком.








