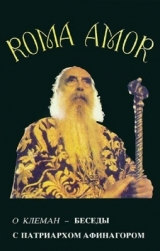
Текст книги "Беседы с патриархом Афинагором"
Автор книги: Оливье Клеман
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Наука жизни
Он
Нет иного основания новой жизни, кроме Воскресения: оно созидает в нас «совершенного человека Божия, ко всякому доброму делу приготовленного» (см. 2 Тим 3.17). Внутренний человек, сокрытый человек сердца – это сознание нашего воскресения в Воскресшем, созревшее во всем нашем существе.
Я
Сердце – как загадочно выразился Палама – это «сокровеннейшее тело в теле». Вся наша задача заключается в том, чтобы соединить разум и сердце, дабы разум перестал быть лихорадочным и расчленяющим, а сердце слепым. Человек, достигший внутреннего единства и благодати, обретает сердце «разумеющее» которое видит мерцание небесного света в глубина тела его, привитого Крещением к светоносному телу Христову.
Он
«Сердце разумеющее» – это сердце, наделенное разумением любви. Любовь – великая сила и сила единственная, это энергия Божия, которая пронизывает все вещи и движет ими, движет всей вселенной вплоть до самых далеких туманностей. Носить в себе разумение любви – значит каждого принимать как тайну. Стареющий Иоанн Богослов мог говорить только об этом: «любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин 4.7–8).
Мне нужен другой, чтобы осознать собственное мое существование и существование Божие. Мое самосознание проходит через другого, самосознание, которое я воспринимаю от Бога как и познание моего ближнего. Мы стремимся соединить то и другое и совместно находим «центр, где сходятся все лучи».
Я
Секрет христианства, может быть, и заключается в этой неистощимой взаимосвязи одного с другим, нераздельной и неслиянной. На духовных вершинах Индии все смешивается, тогда как в иудаизме и в исламе царит разделение (которое их духовидцы преодолевают лишь за счет иной формы смешения). В христианстве, чем более мое «я» достигает единства с другим, тем более его личность предстает для меня новой и неисчерпаемой, открывающейся мне как бы впервые.
Он
То же самое и с Богом. То же бесконечное расширение души.
Я
Святой Григорий Нисский славит бесконечный полет души–голубя – «о, если бы у меня были крылья голубя» – в свете, который одновременно есть и мрак, ибо Бог скрывает Себя в Своей несокрытости, Он неприступен в Своем присутствии. Чем более насыщает Он душу, тем более она жаждет Его, чем больше наполняет ее светом Своим, тем более устремляется она во мрак, означающий, что свет бездонен.
Он
Ближний становится ближним лишь благодаря откровению, где он открывает себя, оставаясь навсегда непостижимым.
Я
«Объект – это изгнание личности», – сказал в Упсале епископ Латтаикский Игнатий Ацим. Личность – это не объект, в том числе и не объект познания.
Он
Нужно научиться вниманию. И тогда какую радость может подарить открывающееся лицо! Мы скупы на любовь. Чтобы одарить цветами ближнего, нам нужен, чтобы он умер. Подари же ему цветы сегодня – слово, взгляд, улыбку. Дадим ему понять, как он нужен нам.
Какая радость в том, что здесь, с нами – другой человек, что он, другой существует. Существует столь же реально, столь же внутренне, как и я сам. Ведь раз существует Бог, существует и другой, и это чудо Божие. Человеческий взгляд – уже чудо. Какая радость – погрузиться взглядом в глаза другого, во внутренний океан его глаз…
Я
Когда я слышу эти слова, мне кажется, я говорю с самим собой. Знаете ли вы, что я стал христианином, потому что христианство предстало для меня религией лиц? В детстве я жил в атеистической среде, где никто не говорил ни о Боге, ни о Христе. «А после смерти что?» – спрашивал я. «Ничего», – отвечали мне. Однако лица людей чем–то тревожили меня. Откуда они приходят, откуда исходит тот свет, что освещает их? В лице, во взгляде я yгадывал что–то огромное, вторгшееся в материю. Лица и взгляды не есть ли это цветы земли? Но какое солнце взрастило их?
Однажды подростком я гулял днем по берегу моря. Ныла зима, и в бесконечной пустыне неба поднимаюсь первые звезды. Может быть, они погасли уже тысячи лет назад, но их свет все еще доходил до меня. Вскоре умру и я, и немного позднее – ибо перед лицом небытия, тем более перед лицом Божиим тысячи лет как несколько дней – немного позднее, вся земля будет мертвой, а мертвые звезды всегда будут светить «ад ней. Оледенелый, с оледеневшим сердцем я сел в автобус, который должен был отвезти меня в город. Я решил покончить самоубийством. К чему жить и давать ничто медленно истязать себя? Так пусть же оно возьмет меня тотчас и всею целиком. И вдруг я почувствовал, что на меня смотрят. Это была маленькая девочка четырех или пяти лет. Глаза ее светились дружбой. Она улыбнулась. И я понял, что свет взгляда – внутренний океан глаз, если вспомнить ваше выражение – шире, чем это ничто, утыканное звездами, что есть обещание, и что надо жить.
Он
Любовь дает все понять: Бога и жизнь. Она делает жизнь откровением Божиим. Жизнь всего – это Христос, т. е. лицо. И взгляд Матери Божией обращен к нам с бесконечным состраданием.
Я
Христианство – это решим лиц, откровение лиц. В церкви, полной икон, небо делается как бы другом, лики заменяют звезды,
Он
и Христос есть «Солнце правды», которое озаряет лика праведников…
Я
Позвольте мне поделиться еще одним воспоминанием. Это было в Греции. Круг лазури повис над всеми вещами как благословение. Я вошел в старую церковь. И тотчас купол охватил меня: в нем была та же полнота, тот же порыв благословения, что в лазури. Но в центре его проступало лицо, от которого исходил свет и к которому он возвращался…
Он
Любовь питает молитву, и молитва питает любовь Ходатайствовать и воздавать благодарность – значит позволить Крови из чаши орошать весь мир. «За всё благодарите», – говорит Апостол. Изумитесь тому что Бог существует, и вы обнаружите, что все живо Молитва становится существованием, существованием того, кто более не замыкается в себе самом, что бы открыться тому, что необъятно и просто. Чисты сердцем Бога узрят, и кроткие наследуют землю.
Я
А нищие духом?
Он
Это те, кто уже не видит центра мира в своем «я» – будь оно индивидуальным или коллективным – дабы иидеть его в Боге и в ближнем. Они лишают себя всего, и в итоге – отказываются и от себя. В каждое мгновение своего существования они воспринимают Бога как благодать.
Позвольте мне прибегнуть здесь к военной терминологии, которую я иногда предпочитаю: я воюю, нападаю и пытаюсь так жить. Но я воюю с самим собой, чтобы разоружить самого себя.
Чтобы успешно бороться против войны, против зла, нужно уметь вести войну внутри себя, победить зло изнутри. Война с самим собой – самая суровая из войн, ибо внутри нас тоже полно национализма!
В конце концов нужно разоружить самого себя.
Я вел эту войну. Вел ее годы и годы. Она была ужасной. Но ныне я безоружен. Я ничего не боюсь, ибо «любовь изгоняет страх». Я разоружил свою волю, желающую быть правой, оправдывать себя за счет других. Я уже не живу начеку, ревниво распростершись над своими богатствами. То, что мне дается, я умею и разделить. Я не слишком привязан к собственным идеям, собственным проектам. Если мне предложат лучше, я приму их без сожаления. Даже не лучшие, а просто хорошие. Знаете, я отказался от сравнительных степеней… То, что хорошо, истинно, реально где бы то ни было, для меня всегда остается лучшим. Вот почему я не боюсь. Когда ничего не имеешь, ничего не боишься. «Кто отлучит нас от любви Божией?»
Я
Я думаю об этой фразе в Херувимской, которую поют в момент, предшествующий свершению таинства: «Всякое ныне житейское отложим попечение». Большинство людей живет в «попечении», может быть, ради того, чтобы забыть о смерти. Время для них соткано из попечений, соткано плотно, так что никакой свет не пробивается через эту ткань.
Он
Время жестоко.
Но если человек втайне уязвлен, это от того, что он знает, что умрет, и от того, что он нуждается в Боге. «Попечениями» он обманывает и свой страх смерти, и свою нужду в Боге. Обманывает или скорее выдает – в двух смыслах этого слова.
Я
Но человек обезоруженный, не должен ли он также избавиться от своих попечений, как от тяжелых доспехов, дабы разоблачить тоску перед смертью, преобразовать ее в упование на Христа, победителя смерти? В нашей духовной традиции – и это мне особенно дорого – «память смерти» испрашивается как благодать, дабы она преобразилась в «памятование о Боге».
Он
Время жестоко. Но каждое преходящее и тем самым убивающее мгновение, может стать, если мы приемлем его от Бога, мгновением воскресения.
Попечение приковывает нас к прошлому и к будущему. Оно мешает нам жить сегодняшним днем.
Прошлое живет в нас. Дурное прошлое, полное разделении и насилия, длится в нас, питая страх и ненависть.
Вот почему Богу нужно позволить стереть наше дурное прошлое. Доброе преображается и находит свое место в Царствии Божием: это общение святых, которое охраняет и наполняет светом наше настоящее.
Я
Уже память человеческая преображает. Можно забыть скорбь. Остается лишь опыт страдания с той ноной глубиной, которую оно привнесло, остается способность пожалеть и понять. Радость и красота как бы просачиваются к нам и соединяются с вечностью, которая их вдохновляет. В истории также забывается человеческая боль и жестокость. Остаются картины, симфонии, великолепные развалины. Забываются цирковые ристалища. И Святая София соединяется со своим первообразом, Новым Иерусалимом.
Он
Однако не забывается зло, как причиненное, так и испытанное, в особенности, когда виноваты в нем люди или коллективы, которые еще существуют. Это не забывается. И это нельзя заставить забыть. Но если остаешься безоружным, неимущим, открытым к Богочеловеку, Который творит все новое, то Он стирает дурные воспоминания и возвращает нам новое время, где все делается возможным. Прощение–это Бог, Который воплощается, умирает на Кресте и воскресает. Он прощает нас и позволяет нам прощать, ибо Он – обновитель времени, даже и прошедшего. В этом заключается таинство покаяния. И это таинство должно совершиться и в отношениях между народами, но сначала, прежде всего, оно должно совершиться в отношениях между Церквами. Ибо Церковь живет лишь прощением Божиим. Вот почему папа и я, вместе с Синодом просили Бога изгладить из памяти Церкви то дурное прошлое, которое разделило нас, драму 1054 года, ненависть, существовавшую веками…
«Итак, отправимся далее».
Однако мы не можем навязывать будущее. Оно во власти Божией. Мы знаем только, что в нашей жизни, как и в истории, Воскресение будет последним словом. Вот почему у нас нет страха; мы обращаем взгляд к Богу, возлагая на Него безграничное упование, что бы ни случилось в будущем.
Таким образом мы можем встретить настоящее и прожить его самым интенсивным образом. Каждый день я встаю с благодарностью за то, что живу, и каждый новый день принимаю как благословение. И все обетование жизни, что исходит от прошлого и обращается к будущему, коим владеет Бог, я пытаюсь возрастить сегодня, проживая каждое мгновение в его полноте.
Я
Но мгновение может быть и распинающим. Оно может быть испытанием Иова.
Он
Ничто не смущает меня. Ничто не может меня смутить. Я в руке Божией. В страданиях и превратностях нам остается одна неприкрытая вера, что Бог любит нас бесконечной любовью, нам остается Кровь Христова и теплота Пресвятой Богородицы. Вспомните все эти богородичные иконы, в особенности те, на которых Богородица прижимается ликом к лику Сына. Помните, в храме, где мы вчера были, с какой любовью там убирали цветами Ее икону. Иконы умножают Ее присутствие. И Ее вера приходит на помощь нашей в тот момент, когда мы перестаем понимать. Ее сладость стирает нашу горечь.
Мне знакомы эти мгновенья, когда ход событий уже ни в чем от меня не зависит, когда ничего уже нельзя сделать. Тогда всецело я отдаю себя, тогда все гнетущее меня бессилие я перелагаю в упование. И мир нисходит ко мне, мир, даруемый нам Господом и превосходящий всякое разумение.
Нынешним вечером, выходя из церкви после вечерни, патриарх надолго останавливается у жасмина. Медленно вдыхает он запах то одного, то другого цветка. Не торопясь, самозабвенно и благодарно, как будто принося жертву. Поза его литургична, священна. «Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся» {Из Евхаристического канона Литургии св. Иоанна Златоуста}.
Я
Замечая вашу любовь к природе, я думаю о том «созерцании природы», о котором говорят великие духовидцы христианского Востока, этом приношении Богу вещей в их подлинной сути, этом дыхании твари… Церковь, где все вещи обретают свое евхаристическое призвание, позволяет нам различать и совершать космическую литургию, и каждый на алтаре своего сердца может стать священником мира…
Он
Природа – это утешение, которое посылает нам Бог в воспоминание о рае. Его мир, Его сила, Его мудрость, которая правит природой, укрепляет душу в неопределенности судеб, в особенности в трагические и тревожные периоды истории. Человечество становится тогда лихорадочным и безумным, но природа учит нас верности Богу, учит законам истинного плодоношения: терпению, постепенности, безмолвию.
Я помню, как в тот год, когда для меня началось тяжелая разлука, присутствие глазков на дереве в начале осени успокоило и умиротворило меня. Каждая почка была средоточием будущего времени, еще до того, как началась зима, она свидетельствовала о том, что будет весна, будет лето.
Он
«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт 8.22). Великие ритмы природы напоминают об обетовании и благословении Божием. Церковь благословляет землю – вспомните о виноградных лозах, которые благословляются в праздник Преображения – она прославляет ее материнство…
Я
Когда я смотрел, как вы вдыхаете запах жасмина, когда слушал, как вы говорите об утешении, которое приносит нам природа в судорожные часы истории, мне вспомнился великий роман Бориса Пастернака Доктор Живаго, само название которого как бы связует нас с темой жизни. На протяжении тех апокалиптических лет, когда революция с ее абстрактной волей переделать человека ударами декретов, все более и более обращалась в пустоту, унося с собою бесчисленное количество жизней, Живаго обрел ощущение реальности, можно сказать, вернулся на землю, только благодаря созерцанию великих ритмов природы. Особенно привлекали его деревья, которые росли так незаметно, что за их ростом можно было уследить лишь через большие промежутки времени. Так происходит подлинный рост истории. Ныне мне кажется, что мы нуждаемся в людях, подобных деревьям. Считалось, что деревья не нужны, их истребляли, но потом оказалось, что без них земля перестанет быть плодоносной. Люди, подобные деревьям, это святые, и Церковь в ее сути – это, может быть, безмолвный лес, растущий под дыханием Духа, так что люди не замечают этого роста. Не только ее присутствие умиротворяет и охраняет человечество, каждый день одиночки отправляются к ней, входят под ее сень и в ее безмолвие, чтобы в свою очередь стать деревьями, что оказываются целительными и плодоносными для жизни. Простите меня, я запутался в метафорах, может быть, несколько нелепых.
Он
Отнюдь. Усталые люди отдыхают в тени деревьев, чтицы небесные вьют в них свои гнезда. И только деревья позволяют услышать пение ветра, пение Духа. Крест есть новое древо жизни, соединяющее небо и землю, живых и мертвых, людей и ангелов. В Писании есть множество символов, взятых из растительного мира. И это отнюдь не случайность, такова подлинная природа вещей. Иисус есть истинная виноградная лоза, а мы – ветви. Израиль – это хорошая маслина, к которой привиты язычники… Илия Венецис – писатель, которого я высоко ценю как художника и человека, ибо поистине это человек добра, – великолепно описал этот жизнеобмен, начинающийся с прививки деревьев…
Я отыскал этот отрывок. Вот он. Речь идет о старом крестьянине Иосифе и его разговоре с автором, тогда еще ребенком, и его сестрой: «Мы пришли. Дедушка Иосиф ставит на землю пучок прутиков. Зрение его ослабело, и потому, ощупывая дичок, он поглаживает пальцами веточки, чтобы найти подходящую сторону. Его лицо становится все более серьезным… всякая жизнь оставила его тело, только прикосновение сохранило еще силу жизни. Найдя наконец нужную сторону, он подымает глаза к солнцу. Троекратно перекрестившись, и едва шевеля губами, он начинает шептать свою сокровенную молитву. После минуты сосредоточенности он переводит взгляд к дереву, к которому предстоит сделать прививку. Твердой рукой он подрезает своим ножом прутик и отделяет от того места, куда будет сделана прививка, удлиненный кусочек коры. Тем же ножом он надрезает) кору дичка, вынимает ее, и на ее место прикладывав вырезанный кусочек коры. Затем крепко привязывает чужое тело к телу дерева.
Он кончил. Сильная бледность разлилась по лицу старика. Он вновь обратил взгляд к солнцу и с треп том принялся за молитву:
Благодарю Тебя, Господи, что и в сей год Ты позволил мне прививать деревья…
Затем, обернувшись ко мне, он спокойно сказал:
– Вот, мой мальчик, дарю тебе это дерево. Полюби его так, как если бы оно посылалось тебе Богом.
В эту минуту в выражении его старческого лица было что–то религиозное, и это ощущение бессознательно передалось и нам. Но мы не понимали, отчего. Что произошло? Кусок древесной коры приклеился к дичку. И не было ничего иного.
Мы с удивлением посмотрели на старика. Как будто угадав, что происходит в нас, он сказал, повернувшись ко мне:
– Прислони ухо твое к стволу дерева.
Я прислонился головой к стволу, как он мне сказал. Он сделал то же самое и прислушался. Наши лица были рядом, почти касаясь друг друга. Его веки потихоньку отяжелели и закрылись, как будто он погрузился в жстаз.
– Слышишь что–нибудь?
– Ничего. Ничего не слышу.
– Но я–то слышу, – прошептал он.
И в его тихом голосе звенела глубокая радость.
– Но я–то слышу, – повторил он.
И он объяснил мне, что слышит ток крови дерева, у которого он взял кусок коры, слышит, как она медленно втекает в кровь ствола и смешивается с ним, и так начинает совершаться чудо преображения дичка.
Когда ты полюбишь деревья по–настоящему, ты тоже услышишь, – сказал он мне» (Ilias Vénézis. Terre éolienne, tr. fr., Paris, Gallimard, 1946).
* * *
Я
К сожалению, говорят эти великие космические символы недоступны людям больших городов.
Он
Люди больших городов при первой же возможности отправляются в деревню. В Америке множество горожан живет в деревянных домах, утопающих в зелени. Техника избавляет нас от природы, грозной и принуждающей, но позволяет нам приблизиться к ней иным, бескорыстным образом. Не столько как к матери, которую мы ожидали, сколько как к невесте, за которую мы ответственны и которую со всей подобающей честью мы должны подвести к бракосочетани; Царства. Такова одна из наших задач – научить технику служить великим жизненным ритмам.
Я
Есть потаенная связующая нить между отношениями человека с природой и брачной тайной. Величие Пастернака в Докторе Живаго состоит в том, что ом осмыслил эту связь, чего никогда не делал Достоевский, которого Пастернак продолжает и дополняет. Живаго разгадывает тайну природы в лице любимой женщины…
Он
Любовь дает понять все. Для меня тайна природы проглядывает, может быть, через лик Матери Божией…
Я
Для древних зерно поистине умирало в земле, и Бог выращивал молодое растение. Это было чудом, чем–то подобным смерти–воскресению.
Он
Это и есть чудо. Нашей науке известны какие–то виды непрерывных рядов. Однако всякое рождение, всякий рост, что совершается в границах своей формы, никогда не нарушаемых, несет печать премудрости Божией.
Мы садимся в саду. Близится вечер. Свет становится неподвижным, как пламя в костре. Огромном голубом костре.
Он
Мы говорили о птицах. Посмотрите на чаек. Они прилетели с моря с началом дня, чтобы искать свою пищу на городских окраинах. Сейчас они снова направляются к морю.
И вправду: десятки больших птиц появились высоко в лазури. Покружив в воздухе, они устремляются на юг, к Мраморному морю.
Он
Они прощаются с днем.
Как волен их полет.
Их крылья могучи.
Они летят всегда парами.
Они знают свой путь.
Долгий путь, иной раз через все море.
Одна из них подает знак,
и все подымаются с места.
Он также показывает мне на голубей, небольших и темных, устраивающихся на ночь под черепицами патриаршего дома.
Он
С тех пор как я здесь, вот уж скоро двадцать лет, их всегда одно и то же число. Есть какой–то смысл в этих великих равновесиях природы.
Наступает ночь. Патриарх уводит меня в притвор храма. Он надолго останавливается на паперти, любуясь ночью. «Какой покой вокруг. Как я люблю его». Он входит, зажигает две свечи, ставит их на плоский подсвечник перед иконой Богородицы. Звезды, выписанные на покрывале Пречистой, как бы служат продолжением тех, которые просыпаются на темно–синем небе. «Две свечи, одна за всех живых, другая за всех усопших», – говорит патриарх.
* * *
В машине, после своего визита к Максиму, как бы желая сбросить с себя тягостное впечатление, патриарх внезапно заводит речь о цветах.
Он
На столе в приемной Максима был большой букет цветов. В моем кабинете цветов не бывает. Я не люблю собирать их, не люблю, когда собирают другие, убывают их. У цветов своя жизнь. Они цветут для всех. Когда я вижу их живыми, я как будто беседую с ними. Беседую, порой со слезами на глазах.
В садах Фанара один куст расцветает первым, еще в феврале. И я прихожу и приветствую: добро пожаловать, куст.
В Фанаре также много птиц. И, разумеется, кошек. Один из котов поджидает меня каждый вечер, я разговариваю с ним, глажу его. Он провожает меня до верхней ступеньки лестницы.
* * *
В Халки наши беседы часто велись на садовой скамейке позади храма. Отсюда открывается море, простирающееся до самого анатолийского берега. У наших ног, у края камня копошатся муравьи. У некоторых крылья, расправленны для брачного полета. Патриарх, когда что–то в жизни природы привлекает его внимание, умолкает и весь уходит в наблюдение. И уходит надолго. Там, где человек рассеянный и поверхностный скользит взглядом, ребенок и молитвенник умеют вглядываться – по долгу.
Он
Никогда не перестаю удивляться. Удивляться этому коллективному разуму, который движет ими, удивляться их встречам, языку, их бесконечной деятельности в каком–то самозабвении или неведении. И когда один из них находит и хватает добычу, с какой же гордостью он несет ее!
Тогда я читаю патриарху заметку одного французского физика, лауреата Нобелевской премии, сделанную в «анкете о Боге», опубликованной в еженедельнике, который попался мне в Стамбуле перед нашей поездкой на острова: «Идея, что мир, материальная вселенная, возникли сами по себе, представляется мне абсурдной… Для физика один–единственный атом так сложен, так богат разумом, что материалистическая концепция вселенной теряет всякий смысл. Наука весьма скромна. Нельзя и пытаться все объяснить с ее помощью».
Он
Вопрос атеистов, в сущности, следует обратить к ним самим. Как может существовать Бог? – говорят они. Однако следует скорее спросить: как может существовать мир? Возможно ли существование мира. Возможно ли его постижение?
* * *
Вечером он заговорил со мною о смерти. Я слушал его до конца, не прерывая. Я не искал новых импульсов для продолжения нашей беседы. Нужно было толь! ко слушать. Он
Смерть – страшное событие. Все члены одного поколения вместе отправляются в путь. Затем один падает здесь, другой там. Теперь я остался почти один. Большинство приятелей моего детства уже умерло. Большинство соучеников тоже. Когда четыре года назад я вернулся в родную деревню, я встретил только молодых. Мало, поразительно мало, стариков которых я знал.
Мне было тринадцать лет, когда умерла моя мать. И восемнадцать, когда умер отец. Благодаря усопшим, которых человек любил, которых не перестает любить, человек с годами приобретает все больше и больше корней в невидимом. Обезоружить себя – это значит стать накоротке и со смертью. Когда ты безоружен, и у тебя нет страха, то не боишься смерти. Тогда ты каждый день говоришь ей «да». Смерть – переход. Воскресший ведет нас от смерти к жизни. Мы были крещены в смерть, чтобы соучаствовать в Воскресении. Шаг за шагом наша жизнь свертывается, и наше крещение, и наша смерть сливаются воедино.
Силой Животворящего Креста жизнь обретает свое завершение в смерти. Без смерти жизнь не имела бы реальности. Она была бы иллюзией, сном без пробуждения.
Мне не хотелось бы умереть внезапно. Нужно проболеть несколько недель, чтобы приготовиться. Не слишком долго, чтобы не обременять других. Вот смерть отправляется в дорогу за мной. Я вижу, как она спускается с холма, поднимается по лестнице, входит в коридор. Она стучится в дверь комнаты. И у меня нет страха, я жду ее. И я говорю ей: «войди!» Но не будем сразу же трогаться с места. Ты – моя гостья, присядь на минуту. Я готов». И затем пусть она унесет меня в милосердие Божие…………………………………………………………………
Души людей – неисчислимое количество душ – где они ныне? Мы что–то знаем об их состоянии, но не об их местопребывании. Далеко ли они? На других землях, иных планетах? Но почему они покинули эту землю, которую любили, где еще живут их родные, их друзья? Эту землю, чья материя освещена светом Господним? Они здесь, совсем близко, по другую сторону видимого, в милосердии Божием. Если мы не видим их, то это наша вина, объясняемая ограниченностью, ослеплением наших духовных способностей…
Однажды я был совсем недалеко отсюда, в церкви Николая Угодника. Я думал о всех поколениях верующих, прошедших здесь за те четыре века, что стоит этот храм. Тысячи людей – где они? Где их души? Но внезапно я понял, что здесь в этом храме они молились, поклонялись иконам, разделяли здесь хлеб жизни. И здесь же они остаются, – в общении святых, в близости ко Христу. В Его любви мы не разделены. Потому что есть Бог, Он существует. Существует и вечность. И в Его любви Он хочет соединить нас всех.
При Воскресении Он станет всем во всех. Неумолимого времени, которое изнашивает и убивает, пространства, которое ущемляет и разделяет, больше не будет. Он Сам станет нашим временем и пространством.
Ибо Он существует, Он есть.
Нельзя Его объяснить. Здесь тайна веры, блаженный опыт веры.
* * *
В православной традиции, как, впрочем, и во многих других религиях, олицетворение смерти ни в коей мере не является метафорой. Многие умирающие со страхом или с упованием действительно видели ангела смерти, существо из мира духов, готовое перерезать нить жизни и принять душу в мир иной. В своем очерке, написанном по поводу кончины старца о. Алексия Мечева, о. Павел Флоренский подобрал ряд свидетельств об этом видении смерти. «Мне представляется совершенно бесспорною, – пишет он, – прямая зависимость бесчисленных образов искусства, древнего и нового, всех этих плясок смерти, триумфов войны и т. д. от таких видений, т. е. не только по рассказам о них, но и по прямому, хотя, может быть, и смутному опыту самого художника… Обладающие двойным зрением видят иногда смерть и саму по себе, вне угрозы 230
собственной их жизни; то, что называют художественной фантазией, есть на самом деле некоторая смутная степень двойного зрения. Детям весьма нередко эта способность бывает свойственна, и не раз приходилось слышать, как дети рассказывают привиденную ими «Смерть». (Цит. по книге «Отец Алексей Мечев», Париж, 1970, стр. 368–370).
Я
Нельзя говорить о смерти, не вспомнив об аде, не припомнив слов Писания о муке вечной…
Он
Вечный ад? Но какой он, какой он – ад?
И рай и ад – в нас самих.
Чистилище же для меня не имеет смысла. Что оно может означать? Бог не уготовал ничего похожего. Он принимает души в лоно Своей любви, утирает сле–нл, исцеляет язвы. Лаской Своей Он готовит их к Воскресению, к тому решающему мгновению, когда они погрузятся в свет.
Свет Воскресения затопит все наше существо. И гели мы примем его со смирением и благодарностью, то наступит рай. Но если мы отвергнем его, если мы, погрузившись в любовь Божию, останемся отделенными от нее, связанными самими собой, то мы окажемся в аду…
Я
Об этом писал святой Исаак Сирин: «Неправда, что грешники в аду лишены любви Божией… Но любовь действует двумя различными путями: она становится страданием для осужденных и радостью для блаженных».
Но имеем ли мы право говорить об аде для других. Только Бог вправе говорить мне об аде. Евангельские притчи об овцах и козлищах служат для меня прежде всего предупреждением и призывом к покаянию.
Я знаю, что Судья – это в то же время и Защитник. «Горсть песку в необъятном море – вот что такое грех всей плоти в сравнении с милосердием Божиим», – говорит святой Исаак, и единственный настоящий грех для него состоит в невнимании к Воскресению Господа, которое в силу крещения становится и нашим воскресением. Самое главное, говорит он, это прислушаться всем своим существом к «радости любви Христовой; что такое геена перед благодатью Воскресения»?
Он
Ориген считал, как вы знаете, что в самом конце, пройдя через зоны и бездны, все души обратятся к Богу. Каждая из душ познает, что самое крайнее зло н может ее насытить, ибо бесконечен лишь один Бог…
Я
Это верно, ведь во зле иногда ощущается как бы обращенный вспять поиск бесконечного.
Он
Церковь осудила Оригена. Всеобщее спасение не дается с автоматической достоверностью. Но величайшие святые молились о том, чтобы все были спасены. Молитве нельзя ставить границ.
Я
И это один из самых важных эпизодов в истории Церкви, оригенизм был осужден как учение и усвоен и ее духовной жизни. И это могло бы означать: к самым важным вещам богословие должно подходить не объективно умозрительно, но искать их разгадки в молитве.
Антоний Великий пожелал узнать, где пребывает он на своем духовном пути. И он вопросил Христа. Но Христос, воздав ему должное, сказал, что его опередил один сапожник из Александрии. Антоний спешит и Александрию и спрашивает сапожника.
«Я не делаю ничего особенного, – отвечает тот, – все, что я зарабатываю я делю на три части: одна для бедных, другая для Церкви, третья для меня».
«Но я–то оставил все, – говорит Антоний. – Нет, здесь что–то другое. Сам Христос меня к тебе послал, так скажи мне все».
«Хорошо, – отвечает сапожник, – когда я работаю, передо мной проходит большая толпа жителей Александрии. И я молюсь: Пусть будут все спасены, один я достоин осуждения…» Некоторые монахи сохранили эту молитву, передавая ее от поколения к поколению, и она дошла до наших дней. Но рождается она непроизвольно в сердце, уязвленном любовью Божией. Один русский юродивый во Христе, живший в прошлом веке, умирая, отказался войти в свет и даже заспорил с Богом: «Не войду, пока Ты не обещаешь мне, что все спасутся, что вся земля будет спасена».








