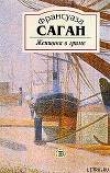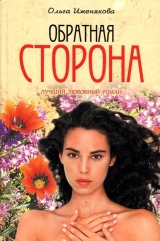
Текст книги "Обратная сторона"
Автор книги: Ольга Иженякова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
– Гриша, извини, конечно, но ты же не ходишь ни в ЖЭУ, ни в сберкассу…
– При чем здесь я? Я – никто. Я – бомж! И речь не обо мне. Я свой путь давно выбрал сам и, знаешь, мне он, признаться, по душе. Только так можно спастись теперь… Только так.
Я заметила, что все это время Гриша вырезал из толстой сосновой ветки большую деревянную ложку. Наверное, на продажу, подумала я. Зачем, спрашивается, бомжу большая деревянная ложка? Конечно, я могла бы ее у него купить, но ведь он не продаст, а подарит. А мне будет неудобно, что я, возможно, лишила бомжа куска хлеба. Эх! Что за штука эта жизнь! И так нельзя, и эдак не выходит!
Стружки тоненькими кудряшками ложились на землю, и ветер их немного шевелил. Со стороны казалось, что гора стружек дышит. Но Грише было не до них, он задумчиво продолжал:
– Конечно, я мог бы стать богатым. Извилин у меня на это хватит. Быть, например, нотариусом или депутатом. Но зачем оно мне? За это мне пришлось бы бесконечно расплачиваться, кланяться, дорожить рабочим местом – фи!
– А если бы не пришлось?
– Нет, увы, здесь выбора нет и быть не может. Уж я-то знаю. А если теоретически предположить, что мне дали бы жить и работать спокойно, при этом не мешали бы помогать другим… – Гриша немного подумал и продолжил:
– Нет, не дали бы. Натравили бы на меня налоговую, пожарных, еще кого-нибудь. Пришлось бы откупаться, давать взятки, оправдываться. Было, было у меня уже это. Тоска смертная. Каждый день одно и то же. Цель – набитая продуктами и ненужными вещами жизнь. А внутри – пустота.
Ради сытого брюха засорять душу не хочу. Я так понимаю, главное в этом мире – внутренняя тишина, здоровье и сознание, что ты приносишь пользу кому-то, пусть добрым словом или нелукавым взглядом поддерживаешь, а остальное, поверь мне, можно купить и в секонд-хэнде почти задаром.
Самое нужное для жизни дается нам, как правило, по праву рождения и бесплатно. А мы все усложняем, покупаем, продаем, маемся. Потом болеем и все проклинаем. Эта беспросветная маета – одна из самых опасных и распространенных болезней нашего времени.
Посмотри на людей вокруг. Они досконально знают, чем живут их любимые герои из многочисленных телесериалов, при этом практически ничего не хотят знать о собственных детях, родителях, соседях, наконец.
Одна мать, например, здорово удивилась, когда услышала от знакомой, что ее родная дочь мечтает поступить в военное училище. Только через неделю или две разговорилась с ней и выяснилось, что та уже полгода читает соответствующую литературу, а воинский устав знает весь чуть ли не наизусть. Полгода, представляешь, ребенок жил в мире, неведомом матери? А если бы дочка изучала не военное дело, а скажем, основные положения какой-нибудь секты? Кто бы ее вовремя остановил, вразумил? Никто!
Вся страна давно и послушно сидит у телевизора, где уже давно ничего полезного нет…
Еще, пожалуйста, пример: жена узнает, что у мужа язва желудка и тут же просит доктора выписать самые лучшие и быстродействующие лекарства. Казалось бы, прекрасно. Но доктор говорит супруге, что лекарство будет особо эффективным, когда муж перестанет питаться в заводской столовой и полностью перейдет на домашнюю пищу. О нет, качает головой жена, давайте лучше лекарство – мне готовить каждый день несколько блюд некогда!
Ну, скажи, принцесса, разве так можно? Ведь обещала же когда-то любить от венца и до конца. В войну, например, ночами стирали и готовили, а днем шли на работу и вкалывали в две смены. Что случилось с людьми, ты случайно не знаешь? Почему семьи разрушаются?
Я начала вслух рассуждать:
– Совместная жизнь, Гриша, странная штука. Тут какую-либо закономерность найти чрезвычайно сложно. Одни живут вместе по сто лет душа в душу, при том что совершенно разные и по духовному опыту, и по интеллекту, и по отношению к самой жизни. Другие же бывают счастливым дополнением друг к другу – и тоже живут вместе долго и почти всегда исключительно счастливо. Но самое интересное, пожалуй, что схожие по всем общепринятым нормам пары тоже порой проживают совместную длинную и нескучную жизнь.
Надо ли говорить, что расходятся люди по этим же причинам. Такая вот несуразица под небом происходит. Постоянно. Уже много веков подряд. Парадоксально, мне кажется, другое: чем проще стало встретить и полюбить человека, тем больше появилось в мире одиноких людей. Во всем виноваты наши высокоразвитые суперсовременные технологии. Утром познакомился с человеком, к обеду узнал все сокровенное его души, а вечером снова знакомишься… с другим. Потом с третьим, четвертым… Поэтому и не осталось ничего настоящего в людях, почти. – Вдруг я резко замолчала, а потом надломленным голосом произнесла: – Гриша, – сказала я почти шепотом, – мне плохо, очень плохо сейчас. Неужели ты не заметил? Почему? – В моем голосе прозвучала не то жалость, не то упрек.
Бомж перестал строгать, повернулся ко мне и долго молча смотрел на огромное ромашковое поле. Там летали и почти в такт гудели две стрекозы.
– Понимаешь, принцесса, – очень тихо произнес Гриша, – этот мир все равно не спасешь. Современные люди в борьбе за удобные теплые туалеты часто перестают быть людьми в полном смысле этого слова.
Иногда, чтобы уйти от всего мира, достаточно уйти в себя. Закрой свою душу на замок, пусть успокоится. Ты молодец, веришь в человечность и, кто знает, может быть, она когда-нибудь победит.
Но запомни, пожалуйста, мои слова: никогда не борись с глупостью. Глупость – она, как и талант, многогранна и распространяется на все, а потому, прошу, не перевоспитывай ее, не пытайся изменить. Не по силам это человеку.
Береги свой маленький уютный мирок, прошу тебя, хотя знаю, как это нелегко! Так и подмывает подчиниться общему ритму суеты, потребительства и безответственности. Найди в себе силы устоять…
Вдруг раздался еле слышный шелест или даже шорох. Мы одновременно повернулись. Рядом со мной оказался сияющий, как Солнце, Саэль.
– А-а, вот вы где, дорогие мои родственные души, – весело засмеялся он. – У меня для вас есть сюрприз.
Саэль достал откуда-то корзину. В ней оказалась парочка прелестных котят, у которых только-только начали прорезаться глазки. Мы с Гришей взяли по котенку, я тут же назвала своего Мусиком.
Гриша нежно прижал котенка к груди и, внимательно глядя на Саэля, а потом на меня, спросил:
– Интересно, есть ли на Земле действенный способ обличить шарлатанство?
– Нет, Гриша, – уверенно ответила я. – Как-то я обращалась к разным колдуньям, магам, экстрасенсам с просьбой найти мою дочь или хотя бы сказать, где она находится. Они мне говорили что угодно, называли адреса, национальности, имена людей, у которых она якобы находится. Но никто из них, абсолютно никто, ни белый маг, ни черный, ни зеленый, не узрел, что дочери у меня нет и никогда не было. Более того! Когда я об этом честно написала в статье, люди все также продолжали и продолжают к ним обращаться.
– Ну, ну, не преуменьшай своих заслуг, – обратился ко мне Саэль. – Некоторые все же сделали выводы. Ты не представляешь, сколько людей мысленно тебя возблагодарили за помощь. Кстати, давно хочу пообщаться с твоим сыном. Интересно, какой он, Лука?
Тут мужчины переглянулись и… появился Лука. Он дома, по всей видимости, что-то увлеченно рисовал, в руке он держал кисточку в красной краске, а ладошки были заляпаны акварелью.
Ребенок, удивленно оглянувшись, спросил:
– Мама, скажи, где это я?
– Это ты себе нафантазировал, – сказала я серьезно. – На самом деле ты дома и рисуешь, а чтобы ты не забыл вымыть руки и убрать за собой, я появилась в твоей фантазии.
– Мама, ты можешь появляться в фантазии?.. Тогда купи мне велосипед, раз ты уже все равно здесь. Знаешь, такой – зеленого цвета, с фарой и с банановым сиденьем. Пожалуйста, мамочка, я тебя буду слушать всегда-превсегда, – горячо сказал малыш и прижался ко мне запачканным личиком.
– Послушай, Лука, – вступил вдруг в разговор Гриша, – мама обязательно купит тебе зеленый велосипед с банановым сиденьем, если ты будешь хорошо учиться.
– Ага, – сказал ребенок, – я учу таблицу умножения, учу, а все равно не запоминаю.
– А ты знаешь, что делали раньше с детьми твоего возраста, которые не запоминали таблицу умножения? – спросил Гриша.
– И что же делали? – недоверчиво переспросил Лука.
Бомж хитро прищурил глаза и сказал:
– Им в уши пускали тараканов. Тараканы бегали по извилинам головы, щекотали их, и тогда они начинали все запоминать. Хочешь, я тебе тоже запущу одного небольшого тараканчика для начала…
– Фу, какая гадость! – возмутился ребенок. – Я и так могу хорошо учиться без всяких тараканов в голове!
– Обещаешь? – с улыбкой спросил Саэль.
– Обещаю, честное слово. – Лука внимательно разглядывал Саэля и повторил: – Честное слово…
– Ну тогда иди домой рисовать!
И Лука очутился дома как ни в чем не бывало. Ребенок здорово удивился. Кошка все так же лежала на диване, как и до его исчезновения, только краска на альбомном листе успела немного подсохнуть. Малыш осторожно коснулся рукой рисунка, чтобы убедиться в этом, и решил, что сразу после того, как закончит рисовать, будет учить таблицу умножения.
Саэль внезапно исчез, а мы с Гришей решили в костре испечь картошку.
Уже ближе к вечеру мы смотрели на медленно тлеющие угли, ели печеную картошку, и я читала свои стихи.
Некоторые Гриша просил повторить. Особенно ему нравились грустные, как, например, этот:
Зачем срубили старенький каштан?
Его душа была с моею схожа.
И я теперь в снах шепчу:
«О Боже, прими его достойно там».
Или:
Эту ночь вовек я не забуду,
Я случайно встретила Иуду.
Он тщетно искал то, что свято.
У нас давно брат на брата…
Внезапно я замолчала. На этот раз надолго.
В области затылка появилась острая боль, она стала удивительно быстро расти и распространяться по всей голове, сконцентрировалась какое-то время на переносице, а затем молниеносно разошлась по всему телу.
Я прикусила нижнюю губу до крови, чтобы не застонать – не хотелось пугать беспечно сидящего бомжа. Перед глазами все поплыло. Куда-то стало убегать от меня небо, потом вслед за ним – ромашковое поле, огромная мусорная свалка, деревянная дверь с почти живой буквой «Ж».
Что-то начало происходить внутри меня, но что, я не знаю. Стало трудно, почти невозможно дышать.
Гриша, увидев мое состояние, тут же принялся меня утешать:
– Принцесса, думай о хорошем, принцесса, слышишь? Прошу тебя, пока ты еще здесь, в сознании, в этом мире! Думай о том, что болезни очищают душу! Теперь я знаю точно, что каждый, кто на земле вот так корчится от мук боли, непременно попадет в рай, хотя бы ненадолго! Но обязательно попадет. Это важно. Пока в сознании, думай, что все вокруг будет хорошо!
Молись, если только можешь! Не обязательно слова выговаривать, они могут идти от самого сердца, для мира – беззвучно. Зачем тебе сейчас мир? Ведь правда? И помни – все, что случалось в жизни с тобой плохого, что ты говорила или делала не так, – все сейчас забывается. Все прощается, раз и навсегда.
Сначала стирается с твоей памяти, потом с памяти других людей, которых ты умышленно или неосторожно обидела. Ты это своей нечеловеческой болью искупишь, если только не сойдешь с ума… Крепись! Твоя каторга стирает из прошлой жизни все плохое о тебе – запомни это и будь мужественной! Ну прошу тебя, пожалуйста…
Я ненадолго приоткрыла глаза и попыталась улыбнуться переживающему за меня Грише, но невидимые оковы начали меня намертво скручивать. Горячее железо разлилось по всем внутренностям, и я вдруг стала подчиняться новому ритму ощущений. Все вдруг сделалось далеким и безразличным. Стал очень важен внутренний мир – мой мир.
Я так много училась, знаю достаточно о природе людей, зверей, растений, о том, как нужно жить… Есть много жизненных правил, но я совсем не знаю себя, природу своей боли. А ведь она, как растение, наверное, сначала была маленькой семечкой. Но я ее тогда не заметила. Затем она постепенно росла, но мне снова было не до нее, я занималась другим, а ведь могла тогда вырвать боль с корнем, раз и навсегда! И вот теперь она, как громадный цветок, распускается все чаще и чаще во всю мощь, а я не знаю, что мне с ней делать.
Я даже плакать не могу в минуты приступов, которые мне кажутся вечностью. Слезы могли бы быть таким облегчением…
Гриша, видя мои страдания, таинственно произнес:
– Это он, он, Бог сейчас тебя посещает. Следи, внимательно следи за своими мыслями. Ну скажи, что ты теперь подумала, именно в эту минуту? Скажи…
Я закричала от нестерпимого болезненного жара, который теперь разлился в самом сердце. Эхо пронеслось над ромашковым полем и мусорной свалкой и куда-то исчезло. Потом я потеряла сознание.
…Я – большой серебряный цветок невиданной красоты в таком же серебряном саду. На мне висят прозрачно-зеркальные капли росы. Я аккуратно выпрямляю лепестки, и капли медленно стекают к основанию стебля.
Это хорошо придумано. Теперь роса будет питать мой корень, и я смогу благоухать здесь дольше остальных цветов. Но одна огромная капля почему-то не хочет стекать вниз. Она упрямо висит на лепестке как приклеенная. Я снова и снова выпрямляю лепестки, но капля вдруг начинает быстро набухать и клонит меня к земле. Еще немного – и она либо повалит меня наземь, либо оторвет лепесток.
Нужно решаться. Я со всей силы, рискуя своей цветочной жизнью, быстро закрываю лепестки и сжимаюсь. Капля внезапно стекает в сердцевину и прохладной утренней росой освежает сухое ядро.
– Ну хорошо. Ну вот и чудесно, вот и славно, принцесса вернулась в мир. Пришла, снова пришла, принцесса к нам, – слышу я голос.
Открываю глаза, а это Гриша меня обливает водой, улыбается наполовину беззубым ртом и говорит:
– Знаешь, я так испугался за тебя. Ты вся резко посинела и, что особенно плохо, не реагировала даже на нашатырный спирт. Что творится с тобой? Боже, как я рад, что все закончилось. Все позади уже. Теперь ты стала выше, намного…
Я вопросительно смотрю на Гришу. Он, как бы между делом принимаясь за стружку ложки, уточняет.
– Ты, дорогая принцесса, стала духовно выше.
Я улыбаюсь.
Боль так же внезапно ушла, как и появилась. Стало легко. Я ощутила почти невесомость. Захотелось петь и смеяться. Еще через пару минут начало казаться, что приступа и в помине не было, а если и произошло что-то похожее, так это нужно было затем, чтобы отобрать у меня всю тяжесть жизни. И теперь я, как в далеком детстве, легко соскочила со стула, показала Грише язык и перепрыгнула на одной ноге через ящик.
Часть третья
Путь наверх
Глава первая
Послушник Виктор
В монастыре Леша Швабров познакомился с послушником Виктором, который охотно брался выполнять самые тяжелые и грязные работы, особенно любил уединение и много молился. А спустя некоторое время Швабров подружился с ним.
Виктор рос очень красивым и добрым мальчиком. После окончания школы сразу поступил в университет. На втором курсе его призвали в армию, отправили в десантные войска под Псков, затем – в Чечню. Вместе с Виктором все это время был его друг Сережа. С него, Сережи, все и началось…
Стояла красивая чеченская осень. Удивительно красочная и тихая, это теперь даже Игорь из разведроты по прозвищу Чингисхан может подтвердить. Деревья с разноцветными листьями и кое-где местами уцелевшая, довольно оригинальная архитектура создавали у солдат ощущение праздника. На крыше одного из домов ворковали белые голуби, а небо было тихое и голубое. Кругом не наблюдалось ни людей, ни техники. Служилось легко. Казалось, что все в дальнейшей жизни будет также – легко и картинно красочно.
И вдруг среди этой приятной и почти домашней картины раздается выстрел. Потом второй. Оба «адресованы» Сереже, причем оба в висок.
Шум. Тревога. Автоматные очереди. Виктор Сережу на руки и бегом в медпункт. Пока нес, рубашка полностью кровью пропиталась. Два дня после этого ничего не ел, не мог прийти в себя от шока.
Солдаты «прочистили» все окрестности, но стрелявшего так и не нашли. Да и нереально он выглядел бы на фоне нарядной осени. Если бы не выстрелы и ранение товарища, все бы приняли случившееся за фантом. Но факт, увы, имелся, и он свидетельствовал, что все солдаты как один перед жестокой смертью беззащитны.
Потом хирург через ребят Виктору передал, что чудес, конечно, на свете не бывает, но может случиться так, что Сережа будет жить. Пятьдесят на пятьдесят.
До самого виска, оказывается, полсантиметра не хватило.
Виктор, не помня себя от радости, три банки тушенки за один раз съел, а потом лег и прямо в блиндаже, на сырой земле, уснул как убитый, подложив руку под голову. Он твердо был уверен, что друг выживет, потому что по-другому и быть не могло.
Их связывало слишком многое. К тому же Виктор знал, что у Сережи есть девушка и она ждет его. И он, Виктор, а не кто-нибудь, будет свидетелем на свадьбе, это уже давно решено. Спокойным, безмятежным, здоровым сном солдат отмечал новость о выздоровлении друга.
Тот день запомнили оставшиеся в живых ребята еще тем, что Виктор во сне улыбался совсем как маленький ребенок. Они смеялись над ним, щекотали его подбородок травинкой, а он все равно спал и улыбался. Снова в сердцах поселилось чувство легкости и предвкушения чего-то хорошего.
Домой, на «гражданку» полетели письма, что один боец случайно получил ранение, но будет жить, кормят хорошо и погода замечательная, как на курорте.
Еще через два дня Сережа пришел в сознание, впрочем, лучше бы не приходил. Их месторасположение плотным кольцом окружили «чехи», и нужно было срочно скрываться в горах.
Приказано брать только оружие… кто сколько сможет.
– Товарищ командир, а можно я с собой Дробышева возьму? – спросил Виктор.
– Нет! – последовал резкий как удар ответ.
Виктор склонился над раненым другом.
– Ну давай, держись…
– Слышь, добей, а?.. Я прошу, как человека прошу, слышь?..
– Нет, ты это… совсем того, что ли? Мы же с детства с тобой.
– Ты что, Вить, хочешь, чтобы меня «чехи» поимели, что ли?.. Куда я потом, а? Ты, старик, не оставляй меня. Смотри, я как человека тебя прошу, слышь? Не оставляй! Я же мужик, мужиком родился и мужиком умереть хочу.
Возникла тяжелая тишина, оба понимали, как опасно их положение. И промедление. Изощренные пытки чеченских бандитов были известны исключительно всем солдатам, правда, сибирякам пока только понаслышке.
Но каждый думал про себя одно и то же: меня это не коснется никогда. Каждый втайне надеялся на удачу или… быструю, безболезненную смерть. А попасть в плен означало хуже даже самой долгой и мучительной смерти.
Виктор закурил. Курил долго. И когда уже прогремела команда «Уходим», срывающимся голосом, стараясь не глядеть в глаза, прошептал:
– Ну, Серый, пока, что ли… – Взял нож и аккуратно перерезал горло Сереже.
Резня в ту осень была большая. Цинковых гробов на всех убитых не хватало, потому многих пришлось хоронить прямо на местах боев. Из двадцати одного солдата-срочника, приехавших из-за Урала, осталось в живых лишь семь.
Бандиты старались стрелять русским прямо в пах. А те, все как один, после такого ранения добивали себя сами как могли, ни на секунду не задумываясь, что родственникам они нужны живыми, – пусть и покалеченными, но обязательно живыми. Но так уж, видимо, устроен этот мир, что для большинства мужчин позор хуже смерти. Потому на смерть шли без страха, осознанно, а иногда даже с улыбкой.
Марш-бросок, который совершала группа Виктора сразу после случившегося, оказался затяжным. И хотя боевое задание хранилось в строжайшей тайне, ребят на пути уже поджидали две засады. В предательство тогда никто из солдат не верил, думали о случайных совпадениях.
Виктор вырвался из ада только с двумя бойцами, остальные погибли быстро и нелепо, часть попала в плен. Еще неделю выжившие очумело петляли по незнакомым чеченским болотам, прячась в кустах от каждого шороха и питаясь сырыми лягушками: спички промокли, зажигалки быстро кончились. Начался сезон дождей, и сухая твердая местность стала слякотно-холодной. В то, что солдаты вернутся живыми, не верил, похоже, никто. И когда они пришли в свою часть, комдив здорово удивился:
– Вы выжили? И вышли? Но это же, елки-палки зеленые, нереально! Как?
А про засаду было сказано следующее:
– Не было там никакой засады, мы «чехам» специально коридор открыли, у нас же приказ из центра, все об этом знают…
Виктор тогда первый и последний раз в своей взрослой жизни заплакал. Плакал горько и долго, как плачет нищий, у которого отбирают самое ценное. А потом ушел за казарму и закурил. Курил тоже, как никогда, долго.
С этого дня, казалось, он перестал понимать смысл происходящего. Но если бы только он один. Бойцы были уверены, что их хотят убить только на том основании, что они русские солдаты. Причем, похоже, хотят убить свои. Спрашивается, зачем?
Ответы приходили самые разные, от чего настроение у служивых было подавленное: хотелось все происходящее вокруг забыть раз и навсегда. Кто-то из рязанских придумал в блиндаже гнать самогонку. Идея пошла на «ура». Но самогонка быстро закончилась, а выстоять положенное время другой порции браги бойцы не дали – пили так. От этого в казарме уже больше недели стоял сладковато-пряный запах, причину которого так и не смог выявить никто из комсостава. Солдаты не лыком шиты, они фляги с брагой закапывали в теплую землю до самого основания, а выкапывали, когда уже были уверены в ее готовности.
В столовой – в это трудно поверить – давали сырую нечищеную картошку.
Ситуация непростая. Повариха-чеченка состояла, как принято говорить на суконном армейском языке, в интимных отношениях с некоторыми офицерами, а следовательно, могла себе позволить многое. Попробовал бы кто-нибудь на нее пожаловаться! В армии действуют свои законы, не всегда соответствующие Конституции, как впрочем, и здравому смыслу.
Все разрешилось, когда за очередным трупом приехали убитые горем родители. Мама, души не чаявшая в старшем сыне, зашла в солдатскую столовую посмотреть, чем питался ее ребенок, перед тем как уйти из жизни, попробовала картошку и… бросила ее прямо в лицо поварихе. Та вспыхнула от возмущения, но женщина, которая на чеченской земле лишилась счастья, решила идти до конца. И пошла с сырой картошкой… к комбату.
В общем, он и сам догадывался, что между офицерской и солдатской столовой существует большая разница, но чтобы давать молодым людям сырую картошку?.. Такое ему и в голову не могло прийти.
Зато потом ужин в солдатской столовой оказался вполне съедобным. Солдаты, соскучившиеся по горячей еде, были невероятно счастливы, наворачивая хорошо проваренную гречневую кашу с маслом. Много ли военному люду надо?
Узнав о случившемся, односельчане поварихи запретили ей под страхом смерти работать в столовой. Конфликты с русскими военными, которые рисковали ради них своей жизнью, им были ни к чему.
С тех пор солдаты сами стали готовить себе еду. На полевой кухне дежурили охотно по очереди.
На станции в Тюмени Виктора встречали мама, сестра и соседи – Сережины родители.
Им пришла похоронка, мол, пропал без вести. А их, как это бывает, интересовало очень многое: если погиб сыночек, то как? Можно ли по-христиански похоронить? Что он говорил, когда видел последний раз Виктора и случайно не предчувствовал ли неладное? Ведь у Сережи очень хорошо была развита интуиция. А может, зря они так переживают, вдруг он в чеченском плену томится, а родителей волновать не хочет? Где им, простым людям, выкуп взять в случае чего? (Если бы они только знали, что хуже чеченского плена ничего не бывает…)
Виктор обнял Сережиных родителей и сухо срывающимся голосом сказал, что ничего об их сыне не знает, может, он и в плену, но не исключена также и смерть. На войне ведь все возможно.
Если бы эта встреча была единственной! Папа и мама убитого друга помогали семье Виктора во всем.
Отец Сережи частенько стал заходить к Виктору вроде как по делу, а сам садился за стол, доставал сигареты, курил и подолгу молчал. Мама хлопотала над ним – то чашку чаю подаст, то варенье, то свежеиспеченные пирожки. Но мужчину эта суета не интересовала. Он смотрел на Виктора так, будто о чем-то догадывался или хотел что-то важное спросить, но по деревенской скромности не знал, с чего начать.
Виктор тоже молчал, он после Чечни стал на редкость молчаливым и задумчивым. Ни с кем из бывших одноклассников, которые их с Сережей провожали в армию, поддерживать отношения не захотел. Проигнорировал также школьный вечер встречи выпускников. После пережитого любые встречи, дни рождения и свадьбы стали казаться пустым времяпровождением.
Ему часто снился Сережа со своей страшной просьбой. Они во сне долго разговаривали. Виктор не раз просил прощения у друга, на что тот обычно улыбался и говорил, что, наоборот, это он, Сережа, в этой истории чувствует себя виноватым. Руки ведь были свободны, мог бы и сам…
И когда Виктору стало казаться, что еще немного, еще один такой сон, и он сойдет с ума, пошел на исповедь к священнику. Не пойти он не мог. Потому что не было желания жить дальше. С ума тоже боялся сойти, вдруг в бреду все расскажет, что станет тогда с Сережиными родителями? А с его матерью и сестрой?
Только после того, как он исповедался, ему сделалось немного получше и возникло желание уехать куда подальше от людей и жить где-нибудь в глухом непролазном лесу.
Однажды отец Сережи все-таки прервал молчание. Давно уже перевалило заполночь, домашние спали, будильник стоял на кухне, что означало – завтра выходной, а потому идти никуда не надо и утром можно подольше поспать.
– Понимаешь, Вить, – начал медленно мужчина, глядя в пол, – я, когда в молодости после армии пришел домой, почти сразу в город подался, денег подзаработать, ну и с Людой, матерью Сереги, подружил маленько. Так, думал, не серьезно. Не нравилась она мне…
Потом уехал, устроился на завод, думаю, дай денег скоплю, а уж потом семьей обзаведусь – ну, чтобы не с нуля-то начинать, сам ведь в нищете вырос. На двоих с брательником одни штаны, не поверишь, носили. Мечта тогда у меня была, как сейчас помню, иметь три костюма разного цвета. И три рубашки к ним, чтобы, значит, в тон. Уж больно охота мне было прибарахлиться, фрайерком таким по деревне пройти. Ох, как охота, не передать! Я же в нищете-то вырос.
А тут, представляешь, получаю письмо от Люды: приезжай, родной, мол, я беременна!
Сначала такое зло взяло! Бабы ведь дуры, какие еще дуры – сначала дают, потом думают. Но поостыл, поговорил с мужиками со своей бригады, взял расчет и поехал в свое село. Хреново так на душе было от всего этого, веришь?
В районе на автостанции встречаю зареванную Люду! «Куда ты?» – спрашиваю. А она мне отвечает, что идет аборт делать: с родственниками посоветовалась, вот и решили, значит, дитенка порешить, едрена мать! Представляешь, какая случайность – если бы я не успел, приехал не утренним автобусом, а вечерним, – все, получается, не было бы Сереги!
Мне после этих Людиных слов как будто по мозгам чем-то тяжелым дали, развернул ее на девяносто градусов, хлопнул по заднице и повел корову на автобусную остановку…
По первости, по самой-самой первости, у меня, скажу честно, были разные подозрения, что пацан не мой и все такое. В наших краях, знаешь, какие языки имеются, ими в самый раз улицу подметать. Но потом Серега стал подрастать, драться. Ты же помнишь, какой он у меня драчун был? Потом с русским языком в школе нелады пошли, он, как и я, глаголы всякие до смерти ненавидел, а самое главное – у нас же родинки в одних и тех же местах. Так вот, все сомнения у меня враз улетучились.
Я завсегда о таком сыне, если хочешь знать, мечтал. Он же, помнишь, наверное, за мной как хвост везде ходил. Я в гараж, он в гараж, я в баню, и он в баню. Мне мужики говорили: «Чо это ты за собой пацана везде таскаешь, думаешь, ему интересно твои матерки слушать?» А Серега обычно за меня отвечал: «Интересно, дяденьки, еще как»… Еще как…
Отец Сергея закурил, помолчал, потом, глядя на Виктора, спросил:
– Ну что, парень, скажешь? Не знаю, поймешь или нет? Ты же у нас без отца вырос. А мне без Сереги сложновато сейчас. Бывало, мать водку спрячет, так Серега в два счета найдет. А на проводах с ним так хорошо посидели. Сказал мне на прощание, что, когда вернется с армии, сделает себе охотничий билет, купит мотоцикл и ружье. Я ему еще взялся маленько деньжатами подсобить. Думал, мать уговорю нетель по весне сразу же продать и Сереге отложить, зачем ему одному корячиться, чай родители у него имеются. Такие вот, парень, у нас планы семейные были.
– Видите ли, – начал несмело Виктор, – не могу я об этом… сейчас… Еще мало времени прошло, всего-то ничего. Иногда кажется, что Сережка живой и никакой войны в помине не было, ведь здесь все так же, как два, полтора года назад: так же колодец скрипит, мамка варенье облепиховое все так же варит в старом тазике, и вы все на том же мотоцикле ездите, где мы с Сергеем в седьмом классе на сиденье написали неприличное слово…
Отец горько улыбнулся и сказал:
– Не знаю, чем вы там написали, но оно не стирается. Я чем только не пробовал отмыть.
Виктор грустно улыбнулся и начал рассказывать о лягушках и сырой картошке, а также о выстрелах в пах и их обычных последствиях.
У Сережиного отца выступили на глазах крупные слезы. Он посмотрел куда-то вдаль, как будто теперь там можно было увидеть сына, и слезы уже не смахивал. Казалось, он перестал стесняться, вдруг осунулся, похудел, стал будто намного меньше обычного.
– Знаешь, Вить, – сказал он после некоторого раздумья, – я до этого времени был уверен, что обниму Серегу когда-нибудь. Скажу: здорово, сын, знал бы ты, как мы тут с мамкой по тебе соскучились, забегались. Чего же ты, подлец, весточки-то никакой долгое время не подавал?..
А может, он тот их… ислам принял, хотя мне кажется Сереге это как-то «по барабану». Он не то чтобы атеист, он пофигист, как и все ваше поколение. Ну да Бог с этим, главное бы живой. Посидели бы с ним, выпили, мать бы хоть маленько поревела от радости, а то все уже, кажется, выплакала. Даже не воет, а так… скулит ночью. Я ее успокаиваю, а она на меня кидается: «Это ты во всем виноват. Мозги пудрил ребенку, что армия – мужское дело, а у него больше половины одноклассников не служили, кого отмазали, кто откосил. Ты вообще, старый дурак, видел когда-нибудь, чтобы у приличных людей дети служили в армии? Возьми хоть нашего мэра, хоть губернатора или депутатов. Они только чужих с удовольствием провожают на смерть, а своих на учебу в соседний город не всегда отпускают. Боятся за них». И знаешь, Вить, я не знаю, что ей после этих слов сказать. Дура дурой, а ведь правду говорит, может, это нас, простых работяг, хотят уничтожить за просто так? Ну чтобы не создавать рабочие места, платить пенсию, льготы там какие-то давать. Тогда бы сказали по-человечески, так, мол, и так. Мы бы сами прокормились. Земли вон сколько вокруг Тюмени, тут на всех хватит, а если с умом, то и с иностранцами даже можно поделиться! Живи – не хочу!