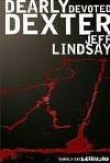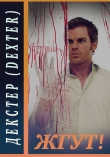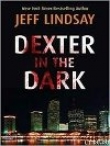Текст книги "Искатель. 1976. Выпуск №3"
Автор книги: Ольга Ларионова
Соавторы: Андрей Балабуха,Глеб Голубев,Евгений Федоровский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– Рей, деточка моя, дай мне эту книжку. Мы не будем сегодня дальше читать. Лучше я… Норман? Что случилось, Норман?!
Только сейчас, увидев Нормана на пороге детской, она поняла, что, в сущности, ни разу не сталкивалась с ним в минуты гнева. С ней он всегда был безупречно ровен, очень редко суров; но взбешенным она видела его впервые.
– Выйди, Алин.
– Норман, что ты? Что ты хочешь делать?
– Выйди, Алин. У нас с Реем будет серьезный разговор.
– Я не могу, Норман, я боюсь, он еще совсем крошка, а ты не владеешь собой…
– Алин!!!
Она выбежала и затворила за собой дверь. В детской молчали – вероятно, Норман ждал, когда удалятся ее шаги. Она, нарочито топая, пробежала по коридору, так что по всему их дому разнеслось цоканье ее острых каблучков, а потом скинула туфельки и в одних чулках прокралась обратно к дверям детской.
К ее удивлению, голос Нормана звучал совершенно спокойно, и с тем же недетским спокойствием отвечал ее сын.

«Ты заключал пари?» – «Нет, отец». – «Ах да, пари заключал твой не по годам деловитый компаньон – Фрэнк, если я не ошибаюсь? И сколько же он давал тебе?» – «Дети не должны иметь своих денег». – «Однако! Это твое собственное убеждение?» – «Не знаю, как не знаю и многого другого. А там я бывал не из-за денег, отец» – «Тебя привлекало общество этого пройдохи, этого подонка, этого…» – «Он мой друг. Он получил худшее воспитание, но в нравственном отношении он лучше меня. Честнее». – «В нравственном отношении… Нет, это уж чересчур! Мало того, что ты участвовал в мелких, грязненьких махинациях – это я еще мог бы понять, мальчишки в твоем возрасте… или немного постарше пытаются проявить деловую самостоятельность, и не всегда удачно. Но зачем тебе, моему сыну, понадобилось влезать в эту пакость, устраивать вокруг себя и своего, с позволения сказать, предприятия такую рекламу, что о тебе уже говорит полгорода, а скоро заговорит и полстраны?» – «Я ни о чем никому не рассказывал, отец». – «А вот этот снимок в «Ньюсуик» и дурацкая надпись – «Будущий чемпион детских гонок в Акроне», а?» – «Я поздно догадался о том, что это репортеры. Я ведь встретился с ними впервые в жизни». – «А эти шведы, которые раззвонили на весь штат, что какой-то грудной младенец в нашем городе берет табличные интегралы по двадцати центов за штуку?» – «Я повторяю, отец, что деньги меня не интересовали. Мне нравилось бывать у Кучирчуков, и я делал все, чтобы Фрэнк возил меня к себе на станцию». – «Ну так это было сегодня в последний раз!» – «Нет, отец». – «То есть как это нет? С завтрашнего дня к тебе будет приходить мисс Партридж и обучать тебя чистописанию. Остальными предметами я займусь с тобой сам. Ты ведь не раз уже лазал по всевозможным учебникам, не так ли? И запоминал все с первого же раза… Я знаю это. Но во всем требуется система, и не следует читать курс высшей математики прежде таблицы умножения. Так что мы теперь будем заниматься ежедневно, и на всяких Фрэнков с их вонючими бензоколонками у тебя просто не останется времени. Ты понял?» – «Понял, отец. Но я все равно наймусь на АЗС. Фрэнк меня возьмет, как только подрастет и отец сделает его своим компаньоном». – «Выкинь из головы этот бред! Ты будешь заниматься тем, чем я тебе прикажу!» – «Я буду заниматься машинами, отец». – «А я тебе сказал!..» – «Оставим этот разговор, отец. Я люблю машины. Когда я слышу их шум, когда я дотрагиваюсь до них руками… я не могу сказать, что со мной происходит. Да ты и не поймешь, если я буду объяснять это простыми человеческими словами. А вот Фрэнк меня понимает. Он знает это ощущение, он говорит – это все равно что нести на белом полотенце волшебное кольцо…» – «Что ты сказал? Повтори, что ты сказал?!» – «Я уже говорил тебе, что ты меня не поймешь, отец. Кольцо – это счастье. Счастье вообще. Фрэнк видел это во сне, а вот я просто знаю. Знаю, какое это счастье и могущество – владеть кольцом…» – «Что ты наболтал своему Фрэнку о кольце, негодяй? Что именно ты ему рассказал? Да отвечай же!» – «Я? Ничего, отец». – «Что ты говорил этому ублюдку, повтори мне слово в слово, я требую, я приказываю тебе!» – «Я не помню…» – «Я те-бе при-к-азы-ва-ю!!!»
В комнате что-то упало, покатилось, задребезжало – Алин схватилась за дверную ручку, но в этот миг дверь распахнулась, отбросив Алин к стене и заслонив ее, так что Нормен, вырвавшийся из детской с яростью белого яванского носорога, даже не заметил жены.
– Мисс Актон! – загремел его голос где-то в холле. – Мы уезжаем, мисс Актон! Собирайте вещи!
Вот и все. Вот и кончился этот игрушечный Сент-Уан с его только что открывшимся кегельбаном, с его рыжей пожарной машиной, катающей детей в День Независимости; с его новым магазином, выглядевшим несколько чужеродно среди двухэтажных домиков, которые, казалось, были сложены не из кирпича, а из сливочной и шоколадной пастилки, с этим чудо-магазином, где можно купить все, от теплого «гамбургера» до пары безопасных рогов из стекловолокна за тридцать долларов, которые теперь прикрепляют бычкам во время родео; кончился Сент-Уан с его выставками детских рисунков, прикрепленных зажимами прямо к веревке, натянутой напротив «Ротари-клуба»; Сент-Уан с его стриженным наголо мулатом, чистившим ботинки всего за двадцать центов и неизменно наклеивавшим на коробки гуталина вырезанные из журнала цветные головки Зоры Ламперт и Барбары Харрис; Сент-Уан с его порядком-таки запущенным парком, куда валом валят во время гуляний, но в другие дни редко услышишь звон подковы, удачно заброшенной на колышек, или склеротический скрип шестнадцатиместной карусели; Сент-Уан с его буками, и платанами, и тюльпановыми деревьями, и кремовыми крупными соцветиями фальшивого индиго…
– Мы уезжаем. Разве ты не слыхала?
Алин вздрогнула и оглянулась по сторонам – так она была уверена, что это голос Нормана. Но это был Рей. Он смотрел на нее, прижавшуюся к стене, в одних чулках, с детской книжкой про белого крольчонка, смотрел так, как, наверное, смотрят на священника, по долгу своего сана присутствующего на казни: ты здесь, но ведь ты даже ничего не пытаешься сделать.
– Не вели брать моих игрушек. Пусть остаются.
– Я поговорю с папой, Рей…
– Нет. Не надо.
Почему он никогда не скажет – «не надо, мама»?
Она побрела к себе в комнату, где уже стояли внесенные всеуспевающей мисс Актон чемоданы. Открыла один из них и положила туда первое, что попалось под руку, – книжку в переплете, вырезанном по форме крольчонка. И вдруг заплакала, горько и по-детски, как уже давно не плакал ее сын.
– Ты отпустил мальчика на весь вечер?
– Да, Алин, и привыкай к тому, что он уже не мальчик, для своих тринадцати лет он необыкновенно серьезен. Пусть развлечется немного.
– Но эти студенческие вечеринки, джаз, распущенные девицы…
– Главное, что в нашем университете пока нет студенческих демонстраций и беспорядков, а что касается распущенных девиц, то и в более зрелом возрасте я не обращал на них ни какого внимания.
– Но ведь ты и он – разные люди, Норман.
– Не совсем и не во всем, Алин. Во всяком случае, мне кажется, что Рей принадлежит к тому типу мужчин, для которых в жизни существует только одна женщина. Как моя мать для моего отца. Как ты для меня. Вероятно, это у Фэрнсуортов в крови. Но я не хочу, чтобы он рос полным затворником, а то ведь он и не посмеет подойти к этой своей единственной женщине, когда она наконец попадется ему на пути.
– До сих пор мне казалось, что ты намеренно растишь его таким нелюдимым.
– Не говори глупости, Алин. Ты знаешь, что я оберегал ребенка только от нездоровых сенсаций и дурных влияний. Ты ведь читала, какую шумиху подымают время от времени вокруг какого-нибудь вундеркинда? А ведь кончать университет в тринадцать лет – весьма соблазнительная наживка для журналистов. С каждым годом я прикладываю все больше и больше усилий, чтобы припрятать от них Рея…
– Поэтому я и хотела бы, чтобы сегодня за столом мы сидели втроем.
– Ну, сегодня все-таки не рождество.
Она пожала плечами. Да, сегодня всего лишь День благодарения, и мальчик может провести его в кругу друзей. Хотя какие там друзья? Все его однокурсники старше его примерно на десять лет и пригласили его, по-видимому, только ради забавы. Через полчаса эта забава всем надоест, о нем забудут, он потихоньку выберется из-за стола и будет бродить по городку, чтобы скоротать несколько часов и не являться ей на глаза постыдно рано. Городок этот чем-то напоминает Анн-Арбор – может быть, своим университетским парком, а может быть, старыми кирпичными корпусами, возведенными в конце прошлого века. Но этот Атенс чем-то неприветливее. А может быть, просто тем, что она сама стала на полтора десятка лет старше, а вокруг шумит никогда не стареющая студенческая орава?
Алин зажгла свечу в массивном дедовском подсвечнике, неизменно украшавшем их праздничные столы. Подошла к зеркалу. Падающий сзади неяркий свет превратил прядки ее тонких волос в серебряный парик, которого только и недоставало для полного сходства с фарфоровой пастушкой. Нет, она не постарела. Просто до изумления не постарела. Трудно даже представить, что она мать Рея. Рядом они кажутся братом и сестрой. Может быть, именно поэтому мальчик держится с нею так неловко? Собственно говоря, она никогда не была умелой, чуткой матерью, во всем руководящей своим сыном, но ведь в том, что так получилось, были виноваты все трое – и она, и Рей, и больше всего Норман.
В их благополучном, респектабельном доме каждый живет в одиночку. Мальчику, конечно, труднее всех, но он унаследовал от отца гордую замкнутость и не жалуется даже матери. Ни разу за всю свою тринадцатилетнюю жизнь. Хотя, может быть, он просто не знает, на что пожаловаться… Смертная тоска – состояние неопределенное, это не зубная боль, которая если не слева, так справа, и не сверху, так снизу. Но он смотрит на мир так, словно с самого раннего детства отбывает пожизненное принудительное присутствие в нем. Она давно угадала это состояние, но ничего не могла сделать, даже пожалеть – их семейная жизнь сложилась так, что не в ее власти было совершать хоть мало-мальски значительные поступки. И потом – Рей не позволил бы ей жалеть себя.
Стенные часы пробили половину пятого. Из кухни едва уловимо потянуло имбирем и сельдереем – вероятно, мисс Актон в последний раз открыла духовку, проверяя, хорошо ли подрумянилась индейка. Норман старомоден и в этом: он не признает белых «белтсвиллских малюток» и каждый год выписывает бронзового тридцатифунтового великана-петуха, большую часть которого забирает потом мисс Актон, когда едет в Ду-Бойс навестить свою дальнюю родственницу, которую она для простоты именует племянницей. Но сегодня она просила у Нормана разрешения уехать не в субботу утром, как обычно, а на целых три с половиной дня. Всегда такой педантичный, Норман в последние дни находился в каком-то приподнятом настроении и поэтому с легкостью отпустил мисс Актон, забыв даже спросить формальное согласие Алин. Впрочем, не посоветовался с нею он и тогда, когда предоставил свободу сыну на весь вечер. Если бы муж не выглядел так солидно, то Алин, пожалуй, сравнила бы его сейчас со школьником, дождавшимся каникул…
– Вы не опоздаете на пятичасовой автобус, Дора?
– Успею. Значит, индюшка в духовке, выключить ее надо через двадцать минут. Тыквенный пирог вот здесь, под салфеткой, а картофельную запеканку надо не забыть полить брусничным вареньем – мистер Фэрнсуорт ее почти не ест, но любит, чтобы подавали именно так. Да, ананасное желе в холодильнике. Не перепутаешь, девочка моя? Тебе редко приходится оставаться за хозяйку.
Для мисс Актон она безнадежная девочка, и, когда нет поблизости Нормана, можно подумать, что они разговаривают в доме деда два десятка лет тому назад.
– Соус светловат… Шалфей нынче уже не тот, да и индюшки припахивают рыбой, Ну, счастливо провести праздники, мэм!
– И вам счастливо, Дора. Кстати, с вашей племянницей ничего серьезного не случилось?
– Отказали ей от места, только и всего. Ее хозяин перебирается куда-то за океан, и вот теперь вместо экономки хочет взять себе секретаршу, да чтоб говорила на всех языках и держалась, как леди. Держать себя, коли голова есть на плечах, по моему разумению, дело нехитрое, но вот языки…
– Может быть, вы передадите ей небольшую сумму, Дора, пока она не найдет себе новой работы?
– У нас у всех отложено на черный день. А тебе всегда надо иметь под рукой наличные, девочка. Жизнь иногда так повернется… Ох, я уж и впрямь опаздываю!
Вот они и вдвоем с Норманом. Открыть рояль? Обязательно. Ведь он попросит ее сыграть. Сначала Бах, потом немного негритянских спиричуэл. «О Майкл, греби к берегу, аллилуйя, молоко и мед на другом берегу, аллилуйя…» Почему на другом берегу всегда чудятся молоко и мед? Может быть, оттого, что их так не хватает на этом?
Она оглядела свою гостиную. Да, у нее и на этом берегу всегда хватало и молока, и меда. Поэтому о других берегах ей и в голову не приходило мечтать. Все есть, и ничего лишнего, Впрочем, какой-то мелочи не хватает… Может быть, света? Действительно, старинных дедовских подсвечников когда-то было два. Один ей попался на глаза, когда она распаковывала вещи после переезда в Атенс, а второй, вероятно, остался на дне какого-нибудь баула. Поискать его, пока дожаривается индейка?
Подсвечник нашелся – черный, чуть ли не замшелый. Она и позабыла, что серебро от времени темнеет. Вот так хозяйка! И мисс Актон уже уехала, а чистить самой – это перепачкать руки и платье. Как все нескладно сегодня!
Она снова завернула подсвечник в папиросную бумагу и опустила его на дно баула. При этом пальцы ее нащупали что-то глянцевитое и совершенно плоское. Белый картонный кролик? Но откуда?
Ах да, ведь это «книжка-зверюшка», картонного кролика нужно раскрыть, и внутри окажется смешная сказочка. Хотя нет, не очень смешная. Даже страшная. Тогда, в Сент-Уане, Алин не дочитала ее до конца. Рей сказал, что маму-крольчиху продали трактирщику, и тот, естественно, ее зажарил… Алин наклонила голову и как-то помимо воли пробежала глазами по крупным строчкам: «На следующий день посетители снова потребовали жаркое, и трактирщик выбрал самого крупного крольчонка, ободрал его и насадил тушку на вертел. И тут крольчонок Ролли вспомнил, как его мама-крольчиха выступала в цирке, хотя сам ни разу этого не видел. Он подбежал к огню, сел на задние лапки и, быстро-быстро перебирая передними, начал крутить ручку вертела. «Смотрите, смотрите, – закричали посетители трактира, – один кролик поджаривает другого!» И верно, тут было на что посмотреть. Поэтому на другой день в трактире собралось множество народа, а крольчонок Ролли снова крутил вертел.
С тех пор трактирщик зажил припеваючи. Со всех сторон приходили люди посмотреть на его удивительного крольчонка, и скоро он так разбогател, что продал трактир, поселился в собственном домике, а крольчонку Ролли купил самую большую клетку и кормил его только самой сладкой морковкой. Одного не мог понять трактирщик до самой смерти: как же крольчонок Ролли научился обращаться с вертелом и не бояться огня, если он ни разу в жизни не видел маму-крольчиху в цирке, когда она все это проделывала?»
Да, нечего сказать, книжонка написана вполне современно – и бойко, и сентиментально, и тошнотворно одновременно. Непостижимо другое: как можно было напечатать книжку про зверька, который поджаривает своего собственного брата? Впрочем, и это в духе времени. Но как могла такое написать женщина?.. Алин еще раз взглянула на обложку – да, Фэрни С. Уорт. Какое-то страшно знакомое сочетание… Фэрни С. Уорт. Фэрнсуорт.
– Разреши пригласить тебя к столу, дорогая?
С годами Норман стал еще старомоднее, нежнее и предупредительнее. Он уже включил бутафорский камин и зажег настоящие свечи. Полотняная клетчатая скатерть – в традициях подражания Массачусетсом первопоселенцам. Старинное дедовское серебро. Смешанный запах поджаренного сельдерея и патоки – запах последних дней осени. И в центре всего этого венчающая стол праздничная индейка… нет, тушка кролика, зажаренная собственным братцем.
– Что с тобой, Алин? Тебе дурно?
…Пепельно-багровые огни, мигающие, шепчущиеся между собой. Как хорошо, что Норман перенес ее в это кресло – спиной к столу.
– Выпей вина, дорогая, это «божоле», твое любимое. Выпей, и все пройдет. Ты ведь просто устала, не правда ли, Алин? Ты просто устала. Сейчас я принесу тебе подушку под ноги и плед. Теперь хорошо? Я совершенно напрасно отпустил сегодня мисс Актон, но я сейчас дам телеграмму, чтобы она вернулась первым же автобусом. У тебя ведь есть адрес ее родственницы, не так ли? А сегодня ты проведешь весь вечер здесь, у камина, и я все буду делать сам, вот только не смогу вместо тебя сесть за рояль. Но ведь можно включить магнитофон, я вчера достал превосходную запись «Глории»…
Почему он так суетится? Испугался? За кого испугался?
Игрушечный домик. В любом месте, в каждом городке он умел создавать вот такой крошечный экспериментальный мирок. Вольер? Приличнее назвать: кукольный домик для кукольной жены. Ну а что делать, если любимая кукла вдруг ломается?
– Ты просто устала, Алин, маленькая моя, но нужно потерпеть еще немного…
Почему ее так коробит от этого ласкового «маленькая моя»? Не оттого ли, что так обращаются к женщинам, которые не стоят своего особенного, ни к кому на свете более не обращенного нежного слова?
– Потерпеть надо совсем немного, Алин. Потерпеть до той поры, пока Рей окончательно не станет взрослым.
Забавно, правда? Рыцарь говорит своей возлюбленной: погоди, пока мы станем дедушкой и бабушкой, и тогда и к нам придет пора ничем не затененной любви… Но не улыбайся, Алин. Ты живешь легко и беззаботно, даже не подозревая, что вся наша с тобой жизнь подчинена исполнению великого предначертания… Он сегодня не просто старомоден, он высокопарен. Но ей совсем не смешно, и где уж тут до улыбки! Жила ли она легко и беззаботно, как считает Норман? Жила… бы.
Если бы повседневно, повсечасно не ощущала над головой каменного жернова вот этого проклятого «великого предначертания».
– Я никогда не говорил с тобой об этом, и не потому, что боялся, как бы ты случайно не открыла кому-нибудь хотя бы мизерную частицу моей тайны. Нет, Алин. Просто я намного старше тебя, и ты казалась мне всегда слишком юной и беззаботной, чтобы говорить с тобой, хотя бы в общих чертах, о моем открытии. Биологической сущности его ты не сможешь понять и сейчас, суть же остального… Тринадцать лет назад я решил, что расскажу тебе об этом тогда, когда наш мальчик станет взрослым. И вот сегодня я вдруг увидел, что это время настало.
Кто-то заметил, что дети становятся взрослыми, когда родители чувствуют, что они уже совершенно чужие друг другу… Если это так, то Рей был взрослым еще в пеленках.
– Но сейчас, когда подошло время поделиться с тобой самым сокровенным моей – нет, нашей – жизни, я вдруг по думал: а хочешь ли ты этого, Алин? Хочешь ли ты знать, для чего живем мы: я – Фэрнсуорт Первый, и Рей – Фэрнсуорт Второй, и его сын, который должен стать Фэрнсуортом Третьим?
Ей надо решать? Нет, правда, ей надо решать? Он доверяет ей что-то решить впервые за полтора десятилетия их совместной жизни?..
– Норман, зачем ты написал эту книжку про крольчонка Ролли?
– Это была глупая, неуместная выходка. Когда я сделал свое открытие, завершил работу, на которую мой отец угробил понапрасну всю свою жизнь, а я, по его милости, проскучал половину своей, у меня появилось детское желание проболтаться хоть кому-нибудь об этом. Несерьезно, ведь так? Непохоже на меня. Но я действительно не утерпел. Помнишь притчу о брадобрее царя Мидаса? Я поступил точно так же. Я написал детскую сказочку, где рассказал о сути, но не открыл ни одной детали. Только сам факт. Непростительное мальчишество, о котором я вдобавок еще и совершенно забыл, потому что встретил тебя. Крольчонок Ролли, который от рождения помнил все, что знала его мама… Глупо и несерьезно. Но сказочку почему-то напечатали, и я получил ее как раз накануне того дня, когда мне сообщили, что наш мальчик связался с этим пройдохой Фрэнком и около них уже начали увиваться какие-то дошлые репортеры… И я вдруг панически испугался, что Рей им все разболтал, нечаянно, не отдавая себе отчета в том, что говорит. А ведь смысл нашей жизни именно в том, чтобы он был единственным, слышишь – одним-единственным на всей земле.
– Но я не понимаю, Норман, как мог он, малыш, разбираться в деталях твоего открытия?
– Да оттого, Алин, что сам он ни в чем не разбирался, это уже было заложено у него в мозгу, он родился с этим запасом знаний, понимаешь? Ведь суть моего открытия и заключается в том, что я научился передавать по наследству весь комплекс отцовской памяти. Абсолютно все, даже то, что я сам сейчас не мог бы припомнить, Рей получил в готовом виде. В школе ему ничего не нужно было учить – он только вспоминал, и достаточно было небольшого повода, чтобы одно за другим потянулись воспоминания, часто неосознанные, как стихотворение, заученное на незнакомом языке. Можно не понимать ни слова, но отбарабанить его целиком. Вот так Рей мог проговориться о моем открытии – ведь он до самых ничтожных деталей знал, как оно реализуется. Вот почему я так перепугался, когда Рей заговорил о каком-то кольце. Нелепое совпадение, мальчишеская болтовня, но совпадения всегда ошеломляют, и вместе со всеми остальными подробностями Рей знал, что кодовое название моей работы – «кольцо Фэрнсуорта»…
– Это звучит почти как «Кольцо Нибелунга»!
– Почти? Да какое здесь может быть сравнение! Что давало Кольцо этому золотушному Альбериху? Власть над золотом, и только. Но еще во времена Эдды было известно, что без головы на плечах и со всем золотом мира ничего не добьешься, разве что станешь цепным драконом при собственном сокровище – незавидная судьба Фафнера. Нет, мой талисман, мое Кольцо дает другую, высшую власть над миром – это власть сконцентрированной в одном мозгу информации… Информация! От этого слова на первый взгляд несет канцелярией или редакцией вечерней газетенки, оно взращено на тощей ниве дешевой бумаги и вспоено типографской краской; оно звучит не слишком респектабельно в высшем обществе, а в мире богемы оно просто воняет низменным практицизмом. И в то же время информация – это единственное сокровище, накапливаемое человечеством, это истинное золото обитаемой вселенной. Когда-нибудь в ее честь будут сложены гимны – «Правь, Информация, мирами» или «Информация, Информация превыше всего, превыше всего во всем мире…» Но много ли этого сокровища способен накопить человек? Жизнь его коротка, и большую, да к тому же и лучшую ее половину он тратит на усвоение азбучных истин, этой информационной мякины! Это же смертный грех – убиение времени…
Смертный грех. Смертный грех. Смертный грех… Словно перестук колес. Неотступный и неотвязный. Туки-тук. Туки-тук. Смертный грех. Смертный грех.
– …но вот в этот мир пришел новый человек – Фэрнсуорт Второй, сын Фэрнсуорта Первого. Всю информацию, накопленную мной почти за сорок лет, он получил даром, как принц Уэлльский – корону. Свои лучшие годы, годы самой активной деятельности он посвятит накоплению новой информации, которую, в свою очередь, передаст Фэрнсуорту Третьему. И это неизбежно, Алин: в одном из последующих поколений вновь родившийся Фэрнсуорт будет располагать уже таким запасом информации, что она позволит ему стать властелином мира. Ты спросишь – как, каким образом? Он сам выберет путь и средства, ибо будет мудрейшим из людей, а стремление к богатству и власти всегда останется в крови Фэрнсуортов, ибо это передам им я, со всеми своими знаниями и опытом, со всеми мечтами и надеждами, со всей своей ненавистью и любовью. Со всей ненавистью… и всей любовью. И это даром. Как корона – для принца Уэлльского. Любовь по наследству.
– …когда-нибудь мое открытие будет повторено – это неизбежно, ибо такова судьба всех открытий. Появятся другие люди, унаследовавшие память отцов и, может быть, матерей. Но это уже будет неважно: Фэрнсуорты всегда будут выше остальных, ибо их объем наследственной памяти будет превосходить всех других на несколько поколений, и они неизбежно будут главенствовать даже над себе подобными. Фэрнсуорты, Фзрнсуорты превыше всего!.. Ты меня слушаешь, Алин? Алин, ты спишь? Правьте, Фэрнсуорты, всем миром… Спи, Алин. Спи, маленькая супруга Фэрнсуорта Первого. Когда-нибудь в музеях Чикаго и Нагасаки, Москвы и Мельбурна будут висеть твои портреты, и каждая мелочь твоей жизни станет достоянием биографов – и безымянная вереница твоих учителей рисования, и львиный рык Леона-Баттиста Эскарпи, и тюльпановое дерево, под которым ты любила сидеть с маленьким Реем в нашем саду… Но все это будет позже, а сейчас – сейчас я напрасно рассказывал тебе о своей тайне. Ты ничегошеньки не поняла, маленькая моя…
Господи, как он устал! Он устал от вечного страха – от того страха, которым он пытался поделиться с Алин: только бы никто другой не поторопился, не пошел по его пути, не повторил его великого и неведомого пока никому открытия, потому что тогда все напрасно: и прозябание в провинциальном городишке, и возня с частными учителями для Рея, и это лихорадочное копание в груде научных журналов и бюллетеней, и недолгое облегчение: нет, никто даже отдаленно не занимается этой проблемой…
А Рей задерживается. Вот бы не подумал, что ему может понравиться на заурядной студенческой вечеринке! Ложиться не стоит, разве что подремать в кресле, как Алин. Странно, что она так спокойно уснула – раньше ведь она так волновалась за Рея, когда он уходил из дому. Что делает сейчас мальчик? Танцует? Пытается подражать своим более опытным сокурсникам? Вряд ли – Рей не склонен к подражанию. Но одно непреложно: Рей унаследовал старомодные вкусы отца, и теперь ему нелегко будет найти себе такую же подругу, хрупкую до прозрачности, похожую на саксонскую фарфоровую пастушку… Скорее бы, в самом деле. А то этот нескончаемый страх – только бы ничего не случилось, только бы не начинать все сначала. Конечно, Алин еще молода, да и он не чувствует себя стариком, так что второй ребенок не стал бы для них неразрешимой проблемой, но – потерянные годы, все упирается в потерянные годы. Скорей бы, скорей. Фэрнсуорт Третий – и можно вздохнуть спокойно, и можно принадлежать только себе… и Алин.
…Где Алин? Я тебя спрашиваю, где Алин?! Фу, Рей, как ты меня напугал… А я и не заметил, что задремал. Но в каком ты виде?
– Где Алин?
– Во-первых, я неоднократно запрещал тебе называть маму по имени. Во-вторых, она спит в кресле у камина.
– Там ее нет. Зато есть записка… на твое имя.
– Ты осмелился прочесть?
– А почему бы нет? Разве я не должен знать все, что знаешь ты? Разве я не рожден именно для этого?
Норман никогда не заговаривал с сыном о тайне его превосходства над остальными, и Рей не касался этой темы. Сегодня впервые. И вообще мальчик основательно пьян.
– Прими душ, Рей, если ты в состоянии, и немедленно ложись спать. Завтра я поговорю с тобой.
Что еще за послание в праздничную ночь? Может быть, Рею просто померещилось?
В столовой по-прежнему ритмично мерцал камин. Алин, конечно, ушла к себе. Но записка… записка была.
«Я ухожу из твоего дома, Норман, чтобы никогда больше не встречаться с Реем. Бедный мой мальчик! Лучше бы ему родиться слепым, глухим, парализованным, лучше бы ему совсем не родиться – чем быть таким, каким сделал его ты. Прощай».
Ну вот, только этого ему и не хватало – этой нелепейшей выходки со стороны всегда такой покорной, ни над чем не задумывавшейся Алин. Она, разумеется, никуда не денется – надо только часов в шесть утра, когда рассветет, взять машину и съездить за ней в Ду-Бойс. Правда, мальчик в таком состоянии останется дома один…
– Ты прочел?
– Почему ты не в постели. Рей? Разве я не велел тебе…
Рей оттолкнулся плечом от дверного косяка, медленно пошел к камину, обходя кресла, и Норман невольно отметил, что, несмотря на природную хрупкость и непомерно высокий рост, сын уже утратил мальчишескую угловатость, и движения его плавны и исполнены бесконечного достоинства, как… как поступь Логе, явившегося, чтобы привести в исполнение приговор над утратившими бессмертие властителями рейнского Кольца… И этот черный тонкий свитер, плотно охватывающий гибкую фигуру, и волосы до плеч, в багровых отсветах камина кажущиеся огненно-каштановыми…
– Я-а тебе-е приказа-ал!..
Крик Нормана захлебнулся и затих в ночном неподвижном сумраке маленького дома.
– Сядь, – тихо велел сын. – Сядь, Фэрнсуорт Первый. Сегодня приказываю я.
– Мальчишка! Да как ты…
– Сегодня приказываю я, Фэрнсуорт Второй, и, следовательно, старший по рангу. Ведь старшинство определяется количеством накопленной информации, этого золота вселенной, не так ли?
– Ты пьян!
– Ровно настолько, чтобы позволить себе разговаривать с тобой. Раньше у меня такого желания не возникало. Раньше, когда я, с твоего благословения, собирался на эту жеребячью попойку и почти не надеялся на то, что смогу рассчитаться с тобой так скоро.
– Рассчитаться? Мой бог, какая вульгарщина… Но что ты хочешь этим сказать?
– Вульгарщина? Да ну? А мне-то всегда казалось, что ты и затевал-то все это только ради окончательного расчета. Столбик поколений, черта – и под ней итог: бессмертная слава основателю династии Фэрнсуортов, властелинов мира! Разве нет? Что ты молчишь, основатель династии… монстров, бесплатно одаренных всеми сокровищами твоей памяти. А ты подумал о том, хочу ли я обладать ими, этими сокровищами? И что мне сделать теперь, чтобы избавиться от них?
– Мы оба чересчур горячимся, Рей. Когда ты выспишься и мы сможем обсуждать этот вопрос спокойно, ты будешь вынужден признать, что те неоспоримые преимущества, которые ты обрел вместе с наследственной памятью, стоят хотя бы благодарности.
– Благодарности? Тебе? Да с того самого момента, как только я научился различать человеческие лица, я чувствовал к тебе лишь ненависть. Вполне волен в своих чувствах я никогда не был – ведь большинство из них я получил даром, как уменье дышать, как способность различать запахи; но вот ненависть к тебе – это мое, понимаешь, МОЕ, ибо это родилось во мне и от меня самого. Тебя это удивляет? Странно. А ты ведь немало потрудился, чтобы заслужить эту ненависть. Ведь стоило в моей жизни появиться хоть чему-то новому, как сразу же возникал ты… Помнишь, в парке стоял зеленый столб с указателями: «Площадка для лаун-тенниса – налево», «Туалеты – направо»? Так вот, ты для меня всегда был этим зеленым столбом. Это – любить, это – уважать, вот это – почитать, а того – боже праведный, сторониться, как чумы, и вообще – туалеты направо, леди и джентльмены!