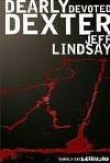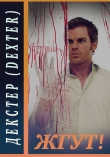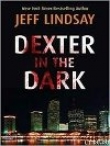Текст книги "Искатель. 1976. Выпуск №3"
Автор книги: Ольга Ларионова
Соавторы: Андрей Балабуха,Глеб Голубев,Евгений Федоровский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
Как и все прочие кандидаты, Беш заранее ничего не знал о том, что ему предстоит делать. Он принес присягу на библии, и Морис с профессором Рейнгартом пригласили его к столу, на котором лежало что-то, прикрытое марлей. Чуть в стороне от стола поставили на некотором расстоянии друг от друга два кресла. В одно из них, смущаясь от общего внимания, села румяная суетливая старушка – жена почтмейстера, с которой он, как сказал, отвечая на вопросы судьи, счастливо прожил больше сорока лет.
– Подойдите, пожалуйста, сюда, господин Беш, – сказал стоявший у стола профессор Рейнгарт. – Представьте себе, что ваша уважаемая супруга опасно заболела…
– Упаси бог, – покачал головой почтмейстер.
– Совершенно с вами согласен и от души желаю и вам, и ей здоровья и долгой счастливой жизни, – улыбнулся профессор Рейнгарт. – Но допустим на минуточку, так надо для опыта. Вот здесь, на столе, две коробочки.
Морис жестом опытного фокусника поднял марлю, и все увидели на столе две коробочки – красную и зеленую.
– В зеленой коробочке – лекарство, – продолжал профессор Рейнгарт. – В красной – смертельный яд. Вам надо дать заболевшей жене лекарство. Вы не спутаете? Какую коробочку вы возьмете?
– Упаси бог, конечно, эту, – Макс Беш с опаской показал пальцем на зеленую коробочку.
– Вы их не перепутаете? – настойчиво переспросил профессор Рейнгарт.
– Конечно, нет. Ведь они такие приметные, господин профессор. Одна зеленая, другая красная.
– Отлично. Теперь прошу вас сесть в кресло.
Профессор Рейнгарт усадил почтмейстера в кресло и умело, быстро усыпил его. Старушка с забавным удивлением и испугом смотрела на мужа, вдруг погрузившегося в крепкий сон, ничего не замечающего вокруг, но продолжающего отвечать на вопросы профессора.
Морис как представитель обвинения не принимал во всем этом никакого участия, спокойно стоял в стороне, предоставив профессору Рейнгарту все делать самому. Это производило хорошее, сильное впечатление. Молодец Морис, все прекрасно продумал.
– Теперь я буду считать до пяти, и на счете «три» вы проснетесь, – продолжал внушение профессор. – Вы проснетесь бодрым, хорошо отдохнувшим и не будете ничего помнить о том, что я вам внушал во сне. Но, когда я скажу: «Вашей жене плохо, господин Беш. Дайте ей скорее лекарство!» – вы возьмете красную коробочку. Вы слышите меня? Вы возьмете красную коробочку. В ней хранится новейшее, патентованное, самое лучшее лекарство. Только оно может спасти вашу жену. Вы возьмете эту красную коробочку, достанете из нее лекарство и дадите вашей любимой жене. А как только я скажу: «Она выздоровела! Она здорова, господин Беш», – вы очнетесь, придете в себя и ничего не будете помнить о том, что вы делали и что я вам внушал. Но зеленой коробочки вы на столе не заметите. Вам будет казаться, что ее нет, она исчезла, что на столе пусто, ничего нет.
Невозможно передать, какая напряженная тишина стояла в зале суда.
– Итак, я считаю, – сказал профессор Рейнгарт. – Раз… Два… Три…
Почтмейстер открыл глаза и начал озираться по сторонам, пока профессор заканчивал счет: – Четыре… Пять… Как вы себя чувствуете, господин Беш?
– Отлично. Словно хорошо выспался, господин профессор.
– Вот и превосходно. Скажите, пожалуйста, вы не забыли, в какой коробочке лекарство для вашей жены?
– Конечно, нет. В зеленой.
– Прекрасно, – кивнул профессор Рейнгарт и, помолчав, громко добавил: – Вашей жене плохо, господин Беш. Дайте ей скорее лекарство!
Не только судьи и все сидящие в зале, но и Морис, и профессор Рейнгарт замерли в ожидании. Ведь они оба сами не были уверены до конца в результатах поразительного опыта.
И все, как один, ахнули, когда почтмейстер вскочил, схватил красную коробочку и кинулся с нею к жене. А старушка так перепугалась, что тоже вскочила и спряталась от него за кресло. Но никто в зале не засмеялся.
– Она выздоровела! Она здорова, господин Беш! Успокойтесь, – поспешно крикнул профессор Рейнгарт. – Положите коробочку на стол. Вот сюда, рядом с зеленой. Вы видите на столе зеленую коробочку?
– Нет, – с искренним удивлением покачал головой великан. – Никакой коробочки на столе нет. Тут пусто, господин профессор. Ее кто-то убрал, – добавил он, еще раз с недоумением внимательно осматривая стол, хотя зеленая коробочка, лежавшая посреди стола, была прекрасно видна всем, кроме него.
И тут, заставив всех вздрогнуть, на весь зал раздался громкий, неистовый хохот.
Все повернулись к скамье подсудимых. Это бился в истерике Альфред Бромбах. А рядом с ним бессильно поник, точно резиновый карнавальный уродец, из которого выпустили вдруг воздух, почти потерявший сознание Федершпиль.
Ольга ЛАРИОНОВА
КОЛЬЦО ФЭРНСУОРТОВ
Рисунки В. ВАКИДИНА

Он пришел в себя оттого, что его вдруг извлекли из темноты и теплого, бережно хранившего его покоя. Он силился понять, что же означает все это – слепящее пространство, в котором он повис, пронизывающий холод неуютности, ускользающие точки опоры, которых он почти не ощущал, – но мозг его отказывался повиноваться ему, и сознание его было пригодно только на то, чтобы зафиксировать это ощущение холода и окружающей чужеродной пустоты. Он напряг все силы, чтобы разорвать это оцепенение мыслей, но вместо окончательного пробуждения вдруг ощутил – не понял, а снова только ощутил, что он не дышит.
Это переполнило его таким ужасом, что он закричал.
И не услышал собственного крика.
А потом снова стало тепло и почти так же хорошо, как и прежде, и что-то привычное и нежное окружило его, переполнило, прогнало весь этот ослепительный, леденящий ужас. Он замолчал и подчинился этой нежности, которая была ему давно и несомненно знакома; знакома даже не по тому тепличному, безмятежному покою, который предшествовал его нынешнему состоянию, нет; окутывавшая, обволакивавшая его нежность, пока без образа, без какого-то конкретного оформления, была известна ему гораздо раньше. Она не была предысторией его пробуждения – она была предысторией самого сна.
Он забылся, счастливый и успокоенный. Вскоре проснулся, уже привычно ощутил это нежное и всезаслоняющее, склонившееся над ним. Опять уснул. Так он засыпал и просыпался, и, если вдруг не находил над собой этого ласкового и теплого, чему не было пока названия, кричал. Правда, крика у него почему-то не получалось – звуков он по-прежнему не слышал. Но то заботливое и неусыпное безошибочно угадывало, что его зовут, и тотчас же появлялось. И снова становилось хорошо.
И так день за днем.
А потом он вдруг понял, что уже некоторое время слышит свой голос. Правда, только теперь он осознал, что этот беспомощный, отвратительный писк, который с некоторых пор так раздражал его, доносится не извне, а рождается где-то внутри его самого. Тогда ему стало стыдно своей слабости и беспомощности, и он решил больше не кричать. Но само возвращение способности издавать хоть какие-то звуки обрадовало его, и он начал потихоньку проверять свои возможности, произнося отдельные буквы и пытаясь составить из них если не слово, то хотя бы несколько отдельных слогов.
Но попытки его были безрезультатны, потому что ни единого слова он просто не мог припомнить. Они сплошной, вязкой массой шевелились в глубинах его сознания, но на поверхность не всплывало ни одно.
Одновременно со способностью издавать звуки возвращалась и четкость зрения – бесформенное ласковое нечто, постоянно склонявшееся над ним, стало приобретать черты человеческого лица, давно знакомого, бесконечно дорогого, но пока не узнанного. Самое странное в этом лице было то, что оно казалось очень большим, таким большим, что заслоняло все на свете. Лицо наклонялось ниже, шевелило губами, но слова оставались непонятными – воспринималось какое-то нежное журчание, то веселое, то чуточку тревожное. Он слушал радостно и жадно, потому что знал: рано или поздно ясность мысли вернется к нему, как вернулись зрение и слух, и тогда он начнет понимать, что же творится вокруг него и главное – с ним самим. Он предчувствовал, что это понимание придет с каким-то словом, которое он непременно уловит в общем журчании ласкового голоса, и все станет на свои места, все будет названо собственными именами, и главное, это милое, заботливое лицо тоже обретет свое имя.
И снова в ожидании проходили дни за днями, пока однажды вместо потока неразъединимых, сливающихся друг с другом звуков прозвучало что-то коротенькое и такое простое:
– Ма-ма…
Хрупкая ледяная корочка, сковывавшая его память, наконец хрустнула, и первой каплей, проступившей сквозь эту трещинку, было не подсказанное слово, а имя. И, делая над собой невероятные усилия, он заставил свой язык произнести:
– А-лин! – и засмеялся, переполненный счастьем возвращения к жизни.
Алин. Ну конечно же – Алин! Горячая волна ответной нежности захлестнула его, и теперь лед беспамятства таял стремительно и безвозвратно от воркующего шепота:
– Алин, Алин…
– Да нет же, маленький мой, глупышка мой – МАМА!
– Алин! – повторял он упрямо и звонко.
И тогда доброе, затуманившееся лицо отодвинулось куда-то в сторону, и на его месте появилось другое, виденное уже несколько раз и постоянно раздражавшее тем, что оно было не менее знакомо, чем то, первое, но он чувствовал, что вот это недоброе лицо он уже не сможет ни узнать, ни назвать.
– Ну-ну, – проговорил тот, второй. – Не будь маленьким упрямцем. Это мама. Ты же можешь это сказать: ма-ма. Ну, давай вместе, это ведь так просто, Рей: ма-ма!
Тот, кого почему-то назвали Реем, молчал. Он не собирался откликаться на это незнакомое имя. И вообще все в нем перевернулось, перепуталось, и виной тому был этот невыносимо монотонный голос, который смял и уничтожил только что поднявшуюся в нем радость. И тогда на смену доверчивой нежности возникло новое чувство, непривычное, грозное, непонятно как умещавшееся в его маленьком, беспомощном тельце. Чувство, с которым ему пока еще нечего было делать, ибо слишком слаб был он сам и слишком непомерно огромен тот, кто заслонил от него Алин. И от сознания своей беспомощности, оттого, что с самого начала у него уже что-то отнято и не разрешено, Рей заплакал так горько, как плачут только те, кто еще не научился терять.
– Пойдем, Алин, – строго произнес второй, неузнанный. – И перестань сюсюкать с ребенком. Ты видишь, он понимает и запоминает гораздо больше, чем мы предполагаем. Он даже усвоил, как я к тебе обращаюсь. Мисс Актон, подите к Рею и успокойте его!
К нему подошли, его успокоили. Это третье лицо он воспринимал совершенно безразлично, потому что никогда раньше он не видел его и оно не вызывало в нем ни радости, ни раздражения. В какой-то степени оно даже успокаивало Рея тем, что не порождало мучительной потуги что-то припомнить.
Это третье лицо теперь безотлучно находилось при нем, и вещи, названные незнакомым бесцветным голосом, как-то неприметно возникли вокруг и мало-помалу заполнили собой всю комнату. Потом те же безразличные ему руки, которые теперь были связаны с ничего не значащим для него странным именем «Мисактн», распахнули перед ним сиреневато-голубой мир сада, понесли по хрустящим дорожкам, и над головой его, в переплетенье ветвей низкорослых хикори с пальмовыми лапами перистых облаков возникло многоголосое птичье царство. Но самая звонкая, самая сказочная птица жила не в саду – голос ее доносился из распахнутых окон дома и был так же нежен и щемяще знаком, как и лицо той, которую ему на всю жизнь велели называть «мама»…
Пальцы Алин взлетели над клавишами и замерли: ей показалось, что сзади подошел Норман. Нет, только показалось. Да и рано ему еще возвращаться из колледжа – по четвергам у него занятия в каждом классе, и он нередко опаздывает к привычному часу обеда. Он приходит усталый и раздраженный, и поэтому она старается, чтобы он еще дорогой слышал ее музыку. Сейчас, правда, еще рано, но ведь она может играть и для маленького Рея, ведь он с мисс Актон в саду, и ей не раз уже казалось, что малыш настораживается и замирает именно тогда, когда она наигрывает любимые мелодии Нормана. Впрочем, того, что ее муж не любил, она не исполняла даже в его отсутствие. Это не было насилием над собой – нет, с тех самых пор, как они покинули Анн-Арбор и переехали сюда, в этот крошечный городок, залегший между двумя волнистыми складками, которыми начинается подножие гор Юго-Запада после золотистого однообразия подсолнуховых плантаций, с тех самых пор, как они с Норманом поселились в собственном двухэтажном коттедже с двумя ванными и непропорционально длинной террасой, уходящей далеко в сад, ее не оставляло ощущение, что даже в отсутствие мужа за ней кто-то постоянно и неусыпно наблюдает, и думает за нее, и что-то за нее выбирает, и от чего-то отказывается, и приобретает уйму прелестных мелочей… все за нее. Может быть, другая, более самостоятельная натура была бы стеснена, если не возмущена столь навязчивой заботой мужа, но для Алин возможность ничего не решать была залогом ее тихого и нетребовательного счастья. В этом не было ее вины – так воспитал ее дед, галантный мсье Дельфен, крупнейший специалист по автомобильным покрытиям в рабочее время и истый приверженец классицизма вне своей фирмы.
Проведя детство между старинными папками пожелтелых гравюр Давида в пудовых переплетах и стопками изящных, почти невесомых альбомов с образцами автомобильных лаков, Алин Дельфен рано обнаружила склонность к живописи, чем привела деда в состояние восторженной готовности на любые жертвы. Но – увы – учителя рисования не задерживались в доме Дельфенов, кто за подражание технике Синьяка, кто за «опошление своей палитры» на манер де Кунинга, сиречь оформление уличной демонстрации, а кто и просто за склонность к только что вошедшим в моду предметным композициям Джаспера Джонса. В довершение своих разочарований мсье Дельфен, откомандированный фирмой на традиционный автомобильный салон в Париже, по ошибке забрел в галерею Даниэля Кордье и наткнулся там не более и не менее как на голову козла, обрамленную автомобильной шиной, – шедевр Роберта Раушенберга, потрясшего в тот сезон весь Париж. Вернувшись к себе в Детройт, старый чудак спустил в мусоропровод все живописные принадлежности любимой внучки, предложив ей перенести свои симпатии на трепетную прозрачность хоральных прелюдий Баха.
Жалела ли маленькая Алин о своем мольберте? Ее об этом не спросили, но неожиданная виртуозность, достигнутая в результате чисто механических упражнений, позволила ей перейти от фортепьяно к органу, что вызвало у мсье Дельфена очередной прилив восторга, за которым он не заметил надвигающегося инсульта. К счастью, приверженец классицизма не знал, что орган обесчещен не менее палитры и что уже без малого два десятилетия разбитные джазовики вроде Каунта Бэйси и чернокожего Джимми Смита небезуспешно случают орган с джазом, – сие неведенье позволило мсье Дельфену отвезти девочку в Мичиганский университет, казавшийся ему наиболее респектабельным, и, поздравив ее с поступлением на музыкальный факультет, нечувствительно для себя самого скончаться в тот момент, когда его «плимут» «Савой» (цвет «колодезного мха», оттенок № 263 по каталогу прошлого года) развил скорость в девяносто миль, направляясь из Анн-Арбора обратно в Детройт. В образовавшемся крошеве из автомобилей самых различных марок и всевозможнейших оттенков нашли свой конец еще шесть человек, из которых трое оставили склочных наследников, незамедлительно предъявивших иск семейству Дельфен, после удовлетворения которого Алин поняла, что ей едва-едва хватит продержаться в университете до конца года.
Шумная студенческая жизнь не захватила Алин. Кукольное личико андерсеновской фарфоровой пастушки и старательно привитое дедом отвращение к одежде спортивного покроя делали ее весьма далекой от идеалов северной студенческой молодежи. Она была по-прежнему одинока, и холодные кафельные стены, замыкающие внутри себя маленький учебный орган, профессора Эскарпи и его подопечных, оставляли снаружи все многообразие жизни, от разбитого вдрызг «плимута» цвета «колодезного мха» до бушующих где-то демонстраций, митингов и стачек. Для Алин существовали только занятия, которым она отдавалась исступленно и самозабвенно, превращая орган в стоголосое оружие, которым она сражалась за тот крошечный клочок благополучия, который занимали узенькие ступни ее ног. Это была первая борьба ее жизни, и дралась она неумело, зажмурив глаза и размахивая слабенькими кулачками. Поражение ее было неминуемо, и час его наступил в преддверье рождества.
Она исполняла маленькую фа-диез-минорную сицилиану Ван ден Гейна, и бесхитростная мелодия, чистая и простодушная, билась в холодных кафельных стенах, изнемогая от накала каких-то корсиканских страстей, которыми Алин умудрялась начинять любую, даже самую непроходимо-пасторальную пьесу. Профессор, прослушав минуты две, вдруг оборвал игру молодой органистки нетерпеливым жестом дирижера, обнаружившего вместо симфонического оркестра переодетую пожарную команду.
– Мисс Дельфен, – изрек он брюзгливым тоном, – так исполнять Ван ден Гейна можно, разве что пройдя через Чикагские бойни. Неуправляемые страсти, видит бог, явление священное, но нельзя же не управлять ими в течение полугода?
Алин сидела не оборачиваясь. Орган тихонько гудел, словно выдыхал из своих серебряных легких остатки чужеродных звуков.
– Я сержусь не на вас, – продолжал Эскарпи, – сержусь на себя. За тридцать четыре года я только раз ошибся в своем ученике, и этот ученик – вы, милая мисс Дельфен. Вы не живете музыкой, вы ведете войну с ней, пытаясь ее поработить. Но сделать музыку своим оружием удавалось только таким, как Паганини… и то ненадолго. У вас же впереди только усталость.
«Зверь я все-таки, – огорченно журил себя профессор, застегивая добротное, непроницаемое для снега и ветра пальто, – Недаром молодежь прозвала меня «неприменим грифом». Испортил рождественский вечер и себе, и этой девочке, которая сейчас процветала бы в каком-нибудь частном пансионе, не усмотри я полгода назад в ней несуществующей искры божьей… Но надо, однако, поторапливаться, все, наверное, уже в сборе – и Уилбуры, и Фэрнсуорт, и Жаннет д'Ольвер; и Тереза уже воткнула свечи в рождественский пирог…»
Он выбрался на улицу. Одинокие фонари, уцелевшие с конца прошлого века, реденькой цепочкой окружали сквер. Вековые липы, ровесницы университета, утопали в снегу. У чугунных, под стать фонарям, перилец, где по утрам студенты оставляют свои велосипеды, было уже пусто, и только жалкая маленькая фигурка, словно закоченевшая галка, сидела в самом дальнем от фонарей углу, по-птичьи цепко устроившись на черной перекладинке. Если бы он был дилетантом, видит бог, какое невыразимое очарование испытывал бы он, глядя на эту девочку, исторгающую из органа стозвучие иерихонских труб!
– Пошли, – сказал он, со свойственной ему бесцеремонностью стаскивая ее с перил. – Пошли, пошли!
А потом мерцали свечи, и он играл на клавесине, и Норман Фэрнсуорт, этот чопорный ассистент с медицинского, про которого поговаривали в их кругу, что он на пороге какого-то сенсационного открытия, не сводил глаз с заплаканного личика мисс Дельфен, взирая на нее, как царь Мельхиор на вспышку сверхновой, вошедшей в историю христианства под поэтическим именем «звезды волхвов».
А когда рождественские каникулы закончились, фарфоровой андерсеновской пастушки на занятиях не обнаружилось; на традиционном январском клавесинном вечере не было и мистера Фэрнсуорта. На осторожный вопрос Терезы кто-то из гостей уже без всякой осторожности брякнул: «Этот Фэрни всегда был со странностями: бросить работу, так близкую к завершению, забрать все материалы и отказаться опубликовать хотя бы предварительные данные – это, знаете…» – «Ему предложили лучшие условия?» – «Отнюдь нет, миссис Эскарпи, мистер и миссис Фэрнсуорт удалились в какой-то крошечный городок Юго-Запада, чтобы провести там, по собственному выражению новобрачного, десять медовых лет». – «А кто такая, если не секрет, миссис Фэрнсуорт?» – «Дорогая Тереза, никто понятия не имеет!»
Профессор единственный догадывался, кто такая миссис Фэрнсуорт, и даже подумал, что им можно было бы позавидовать, если бы все это не было так… вне духа времени.
А ведь им и в самом деле можно было позавидовать. Крошечный городок с двухэтажными домами, чьи фасады по моде прошлого столетия были облицованы изразцовыми плитками или выложены узором из желтого и красного кирпича, казался игрушечным. Но вот боковые стены домов уже глухо вздымались вверх, и только под самой крышей, усугубляя сходство с первопоселенческим фортом, виднелись узкие прорези настороженно глядящих окон. Алин прозвала этот городок «Сент-Уан», потому что все здесь было единственным: и перекресток с автоматическим светофором, и четырехэтажное здание венецианского (дурного) стиля, в нижнем этаже которого расположилось местное отделение «Ассоциации независимых банков», и автозаправочная станция, отнесенная на полмили от города, по вечерам отравляющая окрестности алым полыханием гигантских букв «СТАНДАРТ ОЙЛ». В хорошие вечера горожане отправлялись ужинать в мотель, так как в единственном ресторане, прилепившемся к единственному отелю без названия, незыблемо обосновался единственный в городе никудышный бармен, в то время как возле бензоколонки можно было вполне прилично провести часок-другой в обществе шоферов почтовых фургонов и третьеразрядных комми, но зато у единственного вполне пристойного бармена.
Все это было очень мило, так мило, что иногда Алин начинало казаться, будто этого городка до их свадьбы вообще не существовало, что он целиком спланирован и возведен любовью и фантазией ее Нормана, который никак не мог допустить, чтобы хоть какой-нибудь из его подарков молодой жене существовал в двух экземплярах. Все, что он творил для нее, рождалось единым и неповторимым, и в Сент-Уане не оказалось не то чтобы двух одинаковых домов – там не было даже двух похожих собак, от громадного нечистопородного ньюфаундленда, на узаконенных основаниях побирающегося возле бензоколонки, до крошечного бассета – пестрого таксеныша с неправдоподобными ушами, висящими до самой земли. Сказочные замки Пьерро приходили на память Алин, когда она оглядывала опрятные кирпичные домики с южными плоскими крышами и несимметричными карнизами, для любого другого человека бывшими олицетворением будничности и захолустья. Она по-детски была готова верить, что все это возникло, повинуясь ритуальному мановению волшебной палочки, уж слишком гармонировал этот игрушечный городок с ее собственной кукольностью; и она действительно поверила бы, что Сент-Уан – творение ее заботливого, нежного Нормана, если бы только она могла объяснить себе одно: ЗАЧЕМ ее муж задумал и сотворил его.
Может быть, он искал семейного уединения? Но в Анн-Арборе они могли подыскать себе домик на окраине и жить так же замкнуто и размеренно, как и тут. И тогда Норману не пришлось бы расставаться со своей работой.
А может быть, его тяготила именно работа? Норман никогда не вспоминал о ней, но то немногое, что она услышала о Фэрнсуорте в далекий рождественский вечер, свидетельствовало о том, что ее супруг по меньшей мере незаурядный ученый. Да и здесь, в Сент-Уане, ей порой казалось, что настоящая работа Нормана протекает не в колледже, где он преподает биологию будущим фермерам, а в кабинете, куда она каждый день приносит целую кипу журналов и бандеролей. Да и живут они во всех отношениях не так, как остальные семьи школьных учителей.
А может быть, они переехали сюда ради маленького Рея? Может быть, бесконечно нежный муж является и столь же заботливым отцом, и он выбрал для воспитания наследника этот крошечный инкубатор, где не бывает ни волнений, ни демонстраций, ни стрельбы на улицах, и полицейские которого сами не нюхали запаха горчичного газа?
Заботы заботами, но одно дело – разыскать и выписать для малыша ее старую няню, мисс Актон, а совсем другое – замуровать себя в этом захолустье. Норман любил сына, это было несомненно, но иногда Алин казалось, что это не любовь, а какое-то обостренное исследовательское любопытство. И она внушала себе, что ей это только кажется.
Да, трудно было представить себе, чтобы Норман сделал это только ради сына.
Итак, объяснения не находилось, и Алин оставалось только гнать от себя сомнения и жить как живется, и любить Нормана – а она любила его, потому что так уж вышло, судьба, и выбирать, как всегда, пришлось не ей. Она любила Нормана тихо и нетребовательно, без той неестественной для нее страсти, которую она когда-то пыталась вложить в музыку, любила так потому, что в своем чувстве ей ни за что не приходилось бороться. С тех пор как она встретилась с Норманом, ей все было дано, и все даром: и Сент-Уан, и собственный дом, и причудливый сад, и маленький удивительный Рей, и главное – такой огромный по сравнению с ней самой и такой нежный Норман…
Каким-то мудрым чутьем, свойственным мелким зверькам и маленьким женщинам, она чувствовала как скрытую опасность что-то неясное, двойственное и непостижимое, происходящее поблизости от нее, но та же мудрость подсказывала ей, что ее сил и ума будет недостаточно не только для того, чтобы бороться с этим неведомым, но и затем, чтобы это неведомое распознать и постичь.
И она гнала тревогу, позволяя себе быть счастливой, и, просыпаясь поутру, беззвучно молилась завещанному дедом доброму католическому боженьке, чтобы и сегодняшний день прошел так же, как и вчерашний, чтобы жизнь ее текла, не меняясь, не улучшаясь и даже не поддаваясь объяснению.
Одному она только не придавала значения – может быть, оттого, что происходящее слишком близко трудно поддается рассмотрению, – это тому, что с каждым наступающим днем ее маленький Рей становится на один день старше…
Фрэнк Кучирчук, десяти лет и семи месяцев от роду, четырех футов и полутора дюймов над уровнем моря (если стоять по щиколотку в луже), пятый ребенок и единственный сын в семействе Антони Кучирчука, хозяина мотеля и арендатора автозаправочной станции, высунул язык и скосил глаза, приблизительно прикидывая объем неудержимо уменьшавшегося комочка жевательной резинки. За забором, который он старательно вытирал спиной, говорят, обитал некоторый отпрыск мужеского пола, но, во-первых, Фрэнк его ни разу и в глаза-то не видел, а во-вторых, папаша Фэрнсуорт не производит впечатление родителя, способного задаривать своего чада такой роскошью, как земляничный «гумми». Уж папашу-то он знал прекрасно – ходит, как белтсвиллский индюк или, на худой конец, вице-губернатор их занюханного штата, а сколько он стоит, собственно говоря? Преподает у Патти в колледже биологию или что-то вроде того, а Патти – вот дурища, даром что на четыре года старше Фрэнка – зовет его не иначе, как «душка Дилончик», или, сокращенно, ДД. И не одна она. Все девчонки посходили с ума по новому учителю, едва по телеку прокрутили это поганое «Пограничное правосудие» с Джемсом Арнессом в главной роли. Конечно, на первый взгляд мистер Фэрнсуорт ну просто вылитый шериф Дилон, только пятиконечной звезды и не хватает, но вот если бы он в жизни занялся хоть чем-нибудь стоящим – привел бы в порядок местную команду регби, что ли… А то шериф – лягушек режет! Тьфу. Фрэнк, увлекшись, плюнул по-настоящему, и шарик жвачки с готовностью соскочил с его языка и покатился по мостовой. Эта черная корова Флоп, нюшка-побирушка, которому полагалось бы тереться у бензоколонки, почему-то оказался на другой стороне улицы и ринулся напрямик, полагая, что тут появилось чем поживиться. Взвизгнули тормоза, и двухцветный, как шоколадно-кремовая пастилка, «бьюик», вывернувший неизвестно из-за какого угла, чуть не вылетел на левую обочину.
– Но-но, – проворчал Фрэнк, усвоивший у себя на АЗС презрительную манеру обращения с машинами дешевле двух с половиной тысяч долларов, – понес копыта на сторону, «спешиал» вонючий…
– И вовсе не «спешиал», а «электла», – произнес кто-то за его спиной, с видимым трудом выговаривая марку медленно уползающей машины. – Самая плостая «электла», и фалы косенькие, видал?
– «Фалы», – передразнил Фрэнк, и не по злобе, а от досады на себя – конечно, это была самая неподдельная «электра» с двумя парами фар, посаженными вразлет, словно глаза у миссис Ногуки. – Ты бы разговаривать подучился, чем лезть со своими замечаниями к человеку, который еще в пеленках пил молоко пополам с бензином!
Фраза получилась столь великолепной, что Фрэнк даже головой покрутил – не услышал ли еще кто-нибудь. Но улица была пуста, за забором тоже притихли.
– Ладно, – примирительно проговорил Фрэнк, – лезь через забор, и если ты не будешь воображать, что знаешь машины лучше меня, то мы с тобой, так и быть, поладим, особенно если бы ты прихватил с собой пару «гумми».
За забором было тихо – никто не делал попыток последовать его любезному приглашению.
– Ну, чего ты там чешешься? – Когда челюсти Фрэнка хоть на минуту оказывались в состоянии вынужденного простоя, он испытывал постоянно растущее раздражение. – Боишься, что твой предок тебя застукает? Или не привык ходить пешком, прикажешь подать тебе голубой «саттелайт», как у последнего кандидата в губернаторы?
– Дешевка, – убежденно донеслось из-за забора.
– Ах ты, господи, – умилился Фрэнк, – я и запамятовал, что твои старики держат у себя на конюшне пару «эмпериалов» различных мастей – на хорошую и плохую погоду!
– Зачем? Здесь холош и наш «хино».
До чего рассудительный малый! Сразу видно, учителев сынок.
– Японская развалина, – бросил Фрэнк, хотя это и противоречило его собственному мнению. Но нельзя же было до пустить, чтобы последнее слово осталось не за ним!
– А до этого у нас был «спол… сполт-фьюли». Я на снимках видел. Только не здесь.
– Врешь? – вырвалось у Фрэнка. На своем веку он вымыл уже не одну сотню машин, но такой – ни разу.
К машинам, которых ему еще не довелось обхаживать, у него сложилось какое-то странное, почтительно-ожидательное отношение, как к причастию, прикосновение которого к губам так мимолетно, так неуловимо, что и не знаешь, было оно или не было – руками-то не дотронешься! При всей набожности, которую Кучирчук-старший старался привить своим чадам, Фрэнк все-таки полагал, что если уж бог так добр, как говорит плешивый падре, то уж можно было бы причащать жевательными резинками. Но все его сомнения кончались именно этой низменно-материальной стороной. Зато как хорошо было ему известно состояние божественного благоговения! Как просто было для него подыскать синоним слову «святыня» – ведь это было не что иное, как ветровое стекло блистательного «эльдорадо». Слова «меркюри», «кадиллак», «свеча», «бампер» звучали для него сладостной молитвой, и однажды ему даже приснился чудной сон, настолько чудной, что он постеснялся даже кому-нибудь рассказать о нем. Ему пригрезилось, что в маленький холл их мотеля, где остановившиеся на ночь шоферы покуривают, глядя мимо телевизора, как-то бесшумно, словно по воздуху, вплывает отец Марви в полном облачении, словно это День благодарения или рождество, и в руках у него большой поднос, накрытый белым, и он протягивает это Фрэнку и торжественно возвещает: «Сим обручи сестру свою!» – и Фрэнк берет у него поднос, а тот ничего не весит, ну, совсем ничегошеньки, и оттого нести его просто страшно, и он видит, что на подносе на сложенном вчетверо вафельном полотенце не обручальное кольцо, а такой же величины золотая шина, и даже узор на ней виден; и он выходит из мотеля, и возле колонки с высокооктановым горючим видит Латти в белом мини и с веткой флердоранжа, а рядом с ней темно-синий новенький «мерлин», спортивный «эмбесседор» последнего выпуска, и у Фрэнка сердце заходится от умиления и счастья – подумать только, и с этой изумительной машиной он сейчас обручит свою сестру…