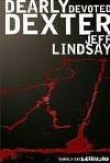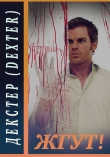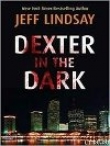Текст книги "Искатель. 1976. Выпуск №3"
Автор книги: Ольга Ларионова
Соавторы: Андрей Балабуха,Глеб Голубев,Евгений Федоровский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
В своей коротенькой десятилетней жизни он никогда не испытывал такого возвышенного восторга, и только временами, когда в минуты затяжного безделья он представлял себе, что к отцовской станции сворачивает наконец сверкающий никелем «флитвуд» или «де Билль», он вдруг непрошенно припоминал свой сон, и даже не весь сон, а именно ощущение священнодействия, которое охватило его, когда он нес обручальное кольцо в виде золотой автомобильной шины, и он предчувствовал, что будет протирать ветровые стекла грядущего автомобильного чуда с не меньшим трепетом и благоговением.
Но пока – не судьба! – через его руки не прошло даже порядочного «крайслера», и он только завистливо и недоверчиво причмокивал, когда кто-то упоминал о вожделенной машине. А сколько он их, наверное, пропустил, теряя драгоценные часы в этой проклятущей школе, из которой его сегодня в очередной раз и так некстати выставили! Слоняйся теперь по задворкам и думать не смей затянуть в лавочку, потому что кого-нибудь обязательно понесет мимо на заправку, и «папаша Кучирчук, мне что-то показалось, что ваш малыш вместо уроков тоже решил подзаправиться…». И тут он вспомнил о том, за забором.
– Эй, как там тебя, вылезай-ка побыстрее и дуй в лавочку, что на автобусной остановке. У меня как раз двадцать центов, возьмешь «гумми» на все. Четвертая доля твоя.
– Чего? – безмятежно спросили из-за стены.
– Не чего, а половина. Видишь со своей стороны куст жимолости? Ныряй под него – там должна быть дырка.
– Мне нельзя. Не велят.
– Маменькин сынок! (За стеной обиженно засопели.) Да ты погоди, не дуйся. Вот сбегаешь за резинкой, а потом мы за ляжем в саду у сивого Крозиера, часик поболтаем, а потом я сведу тебя к своему старику. Ты ведь ни разу не был у нас на станции? Нет? А еще думаешь, что разбираешься в машинах! Сейчас подойдет почтовый фургон из Атчисона, и Старик Шершел скажет, что в следующий раз обязательно надо будет сменить аккумулятор, это он каждый раз говорит, но, в сущности, ему все равно, даже если фургон развалится по винтикам, он вообще стопроцентный флегматик, это у него от прабабки, она была самая настоящая чикасоу, и он вместе с правами держит какую-то засохшую пакость, говорит – белая примула, что первой расцветает в пустыне, и, кроме памяти о прабабке, ему вообще на весь свет наплевать; а еще попозже гуськом потянутся те, что приезжали в Независимый банк, это по большей части занюханные «корвэры», а часам к пяти потрюхает эта желтозубая старуха Ногуки на своем шестицилиндровом «пикапчике» за кормом для бройлеров, у нее ферме в восьми милях отсюда, но земли маловато, вот она и берет дохлятину на откорм, только долго ей не продержаться, это я тебе точно говорю; а еще, если повезет, может заглянуть наш дилер, что меняет машины; тут только держись, он и на «комет циклон» прикатить может…
Тут Фрэнк поперхнулся и замолк, и вовсе не оттого, что поток информации, который он наугад переправлял через забор, иссяк естественным образом, – ничего подобного: уж если Фрэнк заводился, то он мог говорить вот так, ни о чем, часа три без перерыва. Нет, младшего Кучирчука поразило то обстоятельство, что перед ним неизвестно откуда вдруг появился весьма ухоженный карапуз лет трех, не более, в вельветовом чистоплюйском костюмчике – и даже с кружевами! – и белых мокасинчиках за двенадцать долларов.

– Тебе чего? – осведомился без особого дружелюбия Фрэнк.
Карапуз продолжал безмолвно и благоговейно глядеть ему в рот.
– Да ты откуда взялся?
– Ты же сказал – дылка за кустом.
– «Дылка»… А я-то тут перед тобой распинаюсь! – Фрэнк безнадежно махнул рукой, намереваясь направиться на по иски более подходящего собеседника, как вдруг странная мысль остановила его. – Постой, а кто говорил про «электру»?
– Я. – Карапуз покраснел, словно его уличили в чем-то неблаговидном, и было видно, что он готов задать реву.
– Ты-и? – протянул Фрэнк. – А откуда такая информация – ты ж все время за забором!
– Не знаю…
– Ну а что вон там, возле угла?
– Мучной такой? «Фордик». Шестицилид… линд… линдро-вый.
– Ну ты даешь! – искренне восхитился Фрэнк. – И ты так любую машину можешь – с одного взгляда?
– Не знаю.
– Во заладил – «не знаю»! А ты, видно, и взаправду вундеркинд, недаром все в городе говорят, что у одного папаши тут неподалеку сынок со странностями. Только что мы стоим? Айда к моему старику, да не худо завернуть все-таки и к Крозиеру, велосипед одолжить. А там… Кажется, у меня шевельнулась гениальная мысль. Пошли. Вообще-то у меня все мысли гениальные, ты к этому притерпишься, если продержишься возле меня подольше. Но эта…
Они свернули за угол. Фрэнк болтал без умолку и вместе с тем не спускал глаз со своего не совсем обыкновенного спутника. Чудной карапуз, ей-ей! От горшка два вершка, семенит ножонками, как месячная такса, а вид совершенно независимый, словно весь город – его собственность вдоль и поперек. Правда, он иногда вдруг уставится на что-нибудь, как баран на Эмпайр Стэйт Билдинг – ну просто умора…
– Ну чего ты, в самом деле? Автобусная остановка, только и всего. Раньше она была у больницы святой Агаты, да вот уже два года, как ее перенесли. Да, так о чем же я? А, вот: мы приходим на станцию. И ты до поры до времени помалкиваешь. Я подхожу так, между прочим, к старику Шершелу, и он мне капает на свой паскудный аккумулятор, и я так небрежно ему кидаю: «К слову говоря, мы тут с моим новым другом поимели пятьдесят центов ни за что ни про что». А ты все молчишь – и в сторонке. Шершелу вроде бы на все плевать, кроме его покойной прабабки, но ведь человека кровно оскорбляет, что кто-то другой имеет полдоллара ни за что ни про что. Всем хочется. Но Шершел промолчит, а я опять так, невзначай: «Мы тут поспорили…» Ну что ты опять пялишься? Это вывеска «Ротари-клуба». Читать умеешь? Ах да, где тебе… Так вот, я и говорю Шеошелу: «Мы тут поспорили с одним типом, что мой новый друг назовет марку первой же встречной машины». Этого Шершел не потерпит, потому что вообще ни кому на свете не верит, и тогда мы с ним заложимся на пятьдесят центов. Вот тут уж твой черед – напрягись малость и не осрами меня. Я ведь вкладываю свой капитал… Господи, да куда же ты? Это просто машина для сбора касторовых бобов. А ты думал – передвижная клетка для обезьян?
– Пожалуй, мне лучше вернуться, – неожиданно изрек карапуз.
– Ну знаешь, – возмутился Фрэнк, – это все равно, что взять мои пятьдесят центов и швырнуть их в реку. Да что тем – пятьдесят центов! Мы и пять долларов заработаем не моргнув глазом. Половина чистой прибыли – твоя. По рукам?
– Алин будет волноваться… – проговорил малыш.
– Нянька, что ли? Не повезло тебе, братец, у меня вот отродясь нянек не водилось. Ну да ничего, справимся. Чем раньше начинаешь воспитывать своих предков, тем самому легче. Да ты идешь или нет? Между прочим, на прошлой неделе к нам завернул синий «торонадо» – ну, не этого года, разумеется, у нас последних выпусков вообще не встретишь, но все-таки люкс, скажу я тебе: передние колеса ведущие, фары прикрываются щитками, под задним сиденьем – вентиляция, и карданный вал не торчит, пол гладенький, хоть спи на нем…
Фрэнк, разумеется, бессовестно врал – никакого «торонадо» он и в глаза не видел, просто подслушал восторженный щебет в каком-то трайлере, но в свои десять с небольшим лет он уже был неплохим психологом и сразу учуял, на какую приманку этот вундеркинд клюнет безотказно и пойдет за ним хоть до самого Канзас-Сити.
– Да, парень, а зовут-то тебя как?..
…Алин обогнула площадку для лаун-тенниса и вышла к новенькому, еще пахнущему свежей доской балагану, в котором вскоре должен был открыться кегельбан – дешевенький, без всякой там новомодной электроники и автоматического кеглеустанавливателя. У входа, постелив на траву газету и прислонившись друг к другу спиной, сидели двое – мальчик и пожилой мужчина. У них были одинаковые лиловые бумажные штаны, башмаки одинакового размера, и оба с одинаковой степенью унылости жевали бутерброды.
«Пришли наниматься, и им отказали», – подумала Алин. Каждый раз, проходя мимо чьей-то нищеты и неустроенности, она словно принимала сигнал тревоги – крошечный невидимый будильник будоражил санную заводь ее идиллического мирка, напоминая о том, что и в этом уютном, благоустроенном доме, где жили они с Норманом, тоже не все благополучно! Что-то в нем НЕ ТАК.
Она опустила голову, заставляя себя не оборачиваться на бродяг, и быстро перешла на другую сторону улиць. Кто-то затормозил прямо перед ней и, опустив стекло, вежливо поздоровался – она ответила смущенно и виновато. Ах, как прав Норман, что не позволял ей водить машину! Ведь для этого надо как минимум уметь зорко глядеть по сторонам, а она, вот как сейчас, например, чуть расстроилась – и сразу же голову под крыло. Норман, как всегда, бесконечно заботлив, Норман, как всегда, бесконечно прав. Если он что-нибудь и отнимает у нее, то ведь это, как правило, такая малость, которая не может ее по-настоящему огорчить. Водить машину? Но это ей не только не нравилось, даже пугало. Заниматься хозяйством? Но ее больше устраивало, если это брала на себя мисс Актон. Путешествия, которые ей обещал Норман еще в Анн-Арборе? Ну что же, это действительно было заманчиво – пролететь над красно-бурой преисподней Большого Каньона, оставить четки у подножия потрескавшегося деревянного распятья, раскрашенного в неистовые цвета мексиканского пончо; бродить по заповедным зарослям настоящего типчака и сухой бизоньей травы, из которых подымается белоснежная ограда церкви Ксаверия Бакского, такой крошечной на фоне дымчатых гор, что издали она может показаться проста белым камешком, который бросил, убегая от людоеда, Мальчик с пальчик… Норман пообещал ей все это – и Норман не разрешил ей этого, когда узнал, что она должна стать матерью. Наверное, он любил бы ее еще сильнее, если бы она была ростом с Дюймовочку и он мог бы поселить ее в домике-шкатулке и, уходя в колледж, запирать в свой сейф…
Алин старательно проверила, защелкнулся ли за ней автоматический замок садовой калитки (опять же категорическое требование Нормана), и, не поднимаясь к себе, прошла на половину Рея. В спаленке его не было, в учебной комнате, в холле, а ванной тоже.
– Мисс Актон, где мальчик?
– В саду. До обеда еще пятнадцать минут.
Она подошла к окну, вернее, к застекленной стене, выходящей в сад. Рей где-то там, скорее всего на своем излюбленном месте под тюльпановым деревом, где в самодельном многоэтажном гараже обитает целый сонм игрушечных машин всех марок и калибров. Как это ни было печально для Алин, никаких иных игрушек Рей не признавал.
Но ведь Норман хотел другого. Вот «Смоки, или История ковбойской лошадки», вот прелестный «Орленок» Марджори Роулингс, вот пересказ одного из чосеровских рассказов «Шантеклер и лиса»…
Все это купил и выписал Норман, полагавший, что привязанность к животным – самый прямой путь в большую биологию, которую он хотел, как царство, завещать своему наследнику. Но, может быть, надо было начинать не с книжек, а с живого щенка?
Алин сдвинула в сторону легко подавшуюся раму, позвала негромко; «Рей!» В саду затрещало. Легкие шаги по ступеням веранды и хлопок двери.
– Рей?.. Господи, что с тобой произошло, мальчик мой, золотко мое, солнышко…
Ее поразил не костюмчик сына, выглядевший так, словно Рею вздумалось проползти милю на животе, изображая индейского разведчика. И даже не слабый запах бензина, который она уловила сразу же, так несовместим он был с кондиционированным воздухом детской.
С чуткостью, которую она сама старалась в себе подавить, Алин разом поняла, с какой тоской и безнадежным смирением переступил ее сын порог детской. Так возвращаются откуда-то издалека, из края запретной, неприкасаемой радости, в дом, который давит тоской, накопленной десятилетиями.
– Где ты был, маленький мой?..
…весь мир поделен на две четкие половины, как крутое яйцо – на белок и желток. Одна половина холодна, безразлична ему и незнакома – это половина, вершиной и главой которой является бесцветная и пресная, как куриное филе, Мисактн.
Другая половина трепетная, призывно ожидающая его узнавания, и достаточно слова, жеста, мимолетного запаха, и он чувствует, что уже когда-то он владел всем этим; это он любил или ненавидел, и мир, уже когда-то принадлежавший его сердцу, был миром Алин…
– Рей, изволь ответить, где ты гулял?
– Там, Мисактн.
…огромные четырехосные прицепы с продольными белыми и серебряными полосами и фантастическими эмблемами; пыльные облупившиеся подножки как раз на уровне его плеча; тупорылые кабины, где на тисненом, всегда теплом сиденье – занюханные журнальчики, жестянка с бутербродами и пестрая россыпь «холлмарк карде», а сзади – таящаяся в полумраке пластикового полога подвесная койка, на которой должны сниться сны, пропахшие бензином. Как это странно: ни одно воспоминание не волнует так сильно, как знакомый запах; ни вид этих неуклюжих гигантов, плавно и нехотя трогающих с места, ни шум моторов, монотонный и пофыркивающий, отдающий звериным дружелюбием… От всего этого хочется только счастливо и глупо смеяться. Но вот когда вдыхаешь давно позабытый запах да еще прикрываешь глаза, тут вдруг земля под ногами начинает качаться туда-сюда, и щиплет в горле, и от сладкой щемящей духоты в груди так и тянет постыдно и беспричинно зареветь…
– Я тебя спрашиваю в десятый раз: что ты делал?
– Гулял, Мисактн.
…этот фургонщик Шершел да и сам Фрэнк были из холодной половины, ранее ему незнакомые, и он не слушал, о чем они лениво и словно нехотя переругивались; он только смотрел вокруг себя, и, когда Фрэнк наконец обратился к нему: «Ну скажи, Ренни, ну скажи ему, заскорузлому пню, что это сейчас отваливает от колонки!» – он коротко бросил им: «Десото», и тут же испугался, что его роль, собственно говоря, сыграна, и сейчас Фрэнк погонит его домой; но Шершел к ним привязался, и его опять спросили, и на этот раз к ним подрулил не какой-нибудь обшарпанный «фордик», а самый настоящий «бельведер» – шикарный, чуть поношенный «плимут» цвета индюшиного гребешка, и Рей взахлеб выложил все, что он знал по этому поводу: и про два четырехкамерных карбюратора, и про двигатель «стрит хэми», который, несомненно, мощнее «хэми чарджера», и про двери, автоматически запирающиеся, как только начинает работать мотор, и Шершел слушал, раскрыв непомерный рот с лиловыми сухими губами, а потом он что-то увидел из своей высокой кабины и закричал как сумасшедший: «Пять долларов! Идешь на пять долларов?» – и швырнул вниз шляпу, так что лента на ней лопнула и старой змеиной шкуркой осталась на бетоне подъездной дорожки, и Фрэнк, по причине неимения собственной, поднял Шершелову шляпу и тоже швырнул ее оземь и крикнул: «На пять так на пять!» – да так отчаянно, что сразу стало ясно, что никаких пяти долларов у него сейчас нет, хотя он и плел всю дорогу до станции, что помогает отцу по вечерам мыть машины, за что отец исправно платит ему три с половиной доллара в неделю. Но все это было не важно, и Рей этого по-настоящему уже и не слышал, потому что к масляному насосу, немилосердно визжа тормозами, ползло настоящее чудо, и Фрэнк в сердцах закричал: «А, так и так тебя и твою вонючую почту, и твою вонючую бабку, и твое вонючее сено, я же должен был знать, что по двадцатым числам сюда является такой-растакой ниггер, чтоб его…» Но все это проходило уже мимо Рея, потому что он увидел СВОЮ МАШИНУ, первую свою машину…
– Ты ответишь мне или нет, где ты гулял, в конце концов?
– Там, Мисактн.
…это же был его собственный «хорвестер», только крытый новеньким брезентом, – шестицилиндровая армейская коняга, едва-едва выжимавшая жалких пятьдесят миль в час, эдакий паноптикум на трех ведущих осях. Он узнал его с первого взгляда, эти торчащие сквозь брезент ребра, словно у больной лошади, которая сделала непомерно глубокий выдох; этот нелепо выдвинутый вперед бампер, невольно воскрешающий в памяти пресловутую нижнюю губу царственных дегенератов габсбургской династии; запасное колесо, притулившееся где-то на загривке между кузовом и кабиной… Вот только не было нафарных сеток, и это заставило его вздрогнуть и поморщиться, словно он встретился взглядом с альбиносом, у которого нет или не видно ресниц. Эта развалина была его первой машиной, а потом был еще «додж», юркий телефонопроводчик с лесенкой с левого борта, а потом был и еще один «додж», который все в его заводе звали «заячья губа», потому что радиатор у него выглядел так, словно по нему со всей силы дали ребром ладони, но все это было уже не в счет, ведь и после демобилизации у него были машины, и притом собственные, но «хорвестер» был первой…
– Ты будешь отвечать, негодный мальчик?
– Мисактн, – проговорил мальчик с ангельским смирением, – вы помните портрет генерала Лафайета на вздыбленной лошади?
Мисс Актон оторопело и польщенно замолкла.
– Вы сейчас удивительно похожи… на эту лошадь.
– Я заставила его извиниться, Норман, но…
– Прекрасно! Я сам чертовски не любил извиняться, но это необходимо для привития манер. А что же «но»?
– Я не могу понять, где мальчик видел этот портрет. У тебя в кабинете висит только эта жуткая «Слепая птица» Грейвза, а в холле не менее неприятный Шагал.
– Глупости, Алин. Ты же знаешь, что наш сын необыкновенно восприимчив. Достаточно реплики по радио или забытого журнала… А копию Шагала, если он так тебе неприятен, я сегодня же сниму. Я как-то не подумал о том, что сочетание красного с зеленым редко употребляется в автомобильной окраске…
Это было их маленькой семейной игрой: Норман подтрунивал над Алин, представляя дело в таком свете, словно все ее восприятие искусства преломляется исключительно через призму дедовских каталогов автомобильных лаков; по традиции, ей полагалось отшутиться, напомнив ему о предпочтении, которое он последнее время оказывал транзисторному приемнику перед настоящим органом; но сегодня – виноваты ли были одинаковые башмаки на бродягах или вызывающее упрямство сына – традиционная шутка Нормана вдруг показалась ей такой неуклюжей и неуместной.
– Почему ты не можешь изжить свою неприязнь к профессии моего деда? – как можно мягче проговорила Алин. – Или тебя шокирует, что наш мальчик так много возится с игрушечными машинами, вместо того чтобы читать про козлят и орлят?
Озадаченность мужа была самой неподдельной:
– Неприязнь? Тебе так кажется, дорогая? Вот тебе и на… Да я обожаю автомобили с детства, как это делает каждый второй мальчишка. Разве я никогда не рассказывал тебе об этом? Странно. Ты знаешь, до войны мы с матерью жили очень туго, о таких самоходных моделях, какими набита комната Рея, мне и мечтать не приходилось. Да и о собственной машине даже в самом отдаленном будущем тоже. А потом война, меня призвали. Мое счастье, что у нас в средней школе были инспекторские курсы, на которых я, разумеется, всегда был первым. И надо же – на своего инспектора я и налетел в распределительном пункте. У него, по-видимому, были весьма обширные связи, которыми он пошаливал, потому что он просто так, без всякой моей просьбы, направил меня во вспомогательную роту, которая околачивалась на западном побережье, и вот тогда я и получил свою первую машину. Я не буду тебе рассказывать о ней – тебе она показалась бы просто допотопным монстром. Но, как ни странно, ее я запомнил гораздо лучше, чем ту девушку, которую впервые в жизни поцеловал. Вероятно, машина была для меня счастьем, а девушка нет. К тому же машины я любил все без исключения, а женщина, как выяснилось впоследствии, была нужна мне одна-единственная, и притом на всю жизнь.
– Бедный мой рыцарь Тогенбург, – сказала Алин, – не хочешь ли ты признаться, что твой монотеизм начал тебя не сколько тяготить?
– Однако сколько за один вечер каверзных вопросов! Моя маленькая жена, кажется, решила сыграть в старинную игру, которая называется «правда и только правда»… Меня только что нарекли рыцарем, и я просто вынужден принять вызов. Итак, в своей низменной страсти к автомобилям я уже признался. Что касается первой девушки – разве я мог за помнить ее, Алин, если это была не ты?
– Значит, если бы не я, твоя память была бы совершенно чиста от женских образов?
– Как плащ крестоносца. Ты знаешь, меня от всех наших женщин всегда отталкивала их непременная деловитость. Говорят, в Японии и в России еще можно встретить воплощенную женственность, но здесь, да еще в послевоенные годы – бр-р-р… До чего же все они были деловиты!
– Я никогда не замечала у тебя антипатии к энергичным женщинам.
– Потому что они для меня просто не существовали. Энергичная женщина – это все равно что женщина с бородой. Для меня, разумеется.
Алин негромко рассмеялась. И маленький Рей с его отчужденным, недетским взглядом, и неприкаянные бродяги а лиловых сиротских штанах – все они очутились в недосягаемом далеке, отнесенные туда одной улыбкой Нормана.
– Только такая, как ты, только хрупкая, как ты, только беззащитная, как ты, только целиком, от ресниц до кончиков туфель, моя, как ты.
И тогда вдруг из зачарованного далека возвратился черноглазый мальчик с упрямым очерком отцовского рта.
– Разве я принадлежу только тебе? – невольно вырвалось у Алин. – А Рей?
– Рей – это тоже я, – как-то быстро и чуть-чуть досадливо проговорил Норман, как будто напоминал ей азбучную истину, и Алин пожалела о своем вопросе, потому что минуту назад перед нею был Норман, встретивший ее на вечере у профессора Эскарпи, и вот она сама отодвинула этот медовый рождественский вечер, озаренный шестью свечами на клавесине, в далекое прошлое – на целых пять супружеских лет.
– Моя маленькая жена и повелительница желает продолжить игру? – спросил Норман, уже основательно женатый, солидный, галантно развлекающийся Норман.
– С меня довольно, – кротко вздохнула она. – За четверть часа я узнала все мечты твоей воинственной и романтической юности.
– Как же, – отозвался он в тон ей, – все! Ты еще не слыхала о самой заветной, самой романтической… Пять лет скрывал.
У нее вдруг дрогнуло сердце: она испугалась, что этот шутливый разговор вдруг приоткроет завесу их несомненно существующей тайны, и она, все так же заставляя себя кротко и лукаво улыбаться, спросила:
– А это правда? Не хочешь ли ты просто позабавить меня очередной шуткой, дорогой?
Или у него сегодня появилось странное желание высказаться до конца, или он просто не заметил испуганных глаз жены и ее неловкой попытки обратить все в шутку. Тон его был безмятежен, и он продолжал как ни в чем не бывало:
– Все это правда и только правда… Но не всякая правда совместима с достоинством магистра биологии.
– А, – подхватила она, – так ты мечтал приобрести яхту и заняться контрабандой черных рабынь… или нет. Наркотиков – ведь это современнее, не так ли?
– Фи, Алин, – поморщился Норман. – Тебя прощает только то, что моя мечта и в самом деле кажется мне сейчас несколько… как бы определить…
– Преступной?
– Хуже.
– Противоречащей твоей респектабельности?
– Еще хуже – просто убогой. Потому-то я и не делился ею с тобой. Видишь ли, всю свою юность я сладко грезил о том, чтобы иметь свою собственную… бензоколонку.
– Боже праведный!
И снова он не обратил внимания, сколько облегчения было в этом невольном возгласе.
– Что делать, Алин. Это действительно было для меня недостижимой мечтой. Моя мать умерла в год окончания войны, и после армии мне и вовсе было податься некуда. И тут вдруг объявился отец. Мать однажды проговорилась мне, что он не может простить ей какого-то греха, не измены, нет, она… в чем-то она ему отказала, не помогла ему, не поняла. Я помню ее слова: «Я не могла слепо повиноваться ему в том единственном случае, когда требовалась бесконечная вера и отречение от самого дорогого…» Я не совсем понимаю, о чем она говорила, но предполагаю, что это как-то было связано с моим рождением, вероятно, отец хотел иметь ребенка гораздо позже, ведь они с матерью и обвенчаны-то не были. Так или иначе, но мать предупредила меня, что он и палец о палец не ударит, чтобы помочь мне, фактически он не имел ко мне ни малейшего отношения, даже не видел ни разу в жизни. Я думал, он и вообще-то не знает о моем существовании, как вдруг в сорок седьмом он является ко мне. Следил, оказывается, издали. Растроганно признал свою вину перед матерью, но опять так туманно, неопределенно… Предложил мне переехать к нему, но на таких жестких условиях… Впрочем, дорогая, это уже не имеет никакого отношения к мечтам о бензоколонке.
– Норман, – проговорила она просительно, – Норман, ты же никогда не рассказывал мне о своей молодости!
– Малышка моя, грустно рассказывать о том, как кончается твоя свободная жизнь. Так вот, с тех пор я уже не принадлежал самому себе. Видишь ли, отец так и не сколотил себе прочного гнезда – какие-то случайные женщины, да и то так, в перерывах между работой, а работал он адски. Наследников у него не было, друзей и подавно. И вот он предложил мне переехать к нему в Анн-Арбор с категорическим условием: закончить университет и работать в ЕГО лаборатории над ЕГО темой. Если же я не закончу университет или сменю лабораторию, то наследство поступает в распоряжение ученого совета факультета.
– Но ведь мы же оставили Анн-Арбор?..
– Завещание сохраняло силу в течение пяти лет после смерти отца, и, когда я встретил тебя, эти пять лет уже истекли. По всей вероятности, он знал по себе, что, втянувшись а эту работу, оставить ее по доброй воле уже невозможно. Невозможно даже отказаться от разработки его идеи, узнав, в чем состоит ее суть…
– Это так интересно?
– Интересно? Не то слово. Абсолютно не то. Это… это все равно, что получить кольцо Нибелунга и не воспользоваться его волшебной силой. Отказаться от такого искушения невозможно. И я не отказался. Я унаследовал лабораторию отца и работал над его темой, тем более что он пошел по неправильному пути и уже считал, что добился положительного результата, в то время как мне еще пришлось долгие годы биться, пока…
– Пока?..
– Пока я не встретил тебя, мое маленькое сокровище, которое мне дороже всего золота мира.
Она подняла на него глаза. Вот когда пришел миг потребовать: «Правду и только правду!» – но что последует за этой правдой?
Алин подошла к мужу, положила ему руки на плечи. И приподнялась на носки, как девочка, заглядывающая в глаза отцу или брату, простодушная, доверчивая:
– А хочешь, дорогой, мы сейчас купим тебе бензоколонку? Ведь у нас хватит на это денег, не так ли?
– Ох, Алин, малышка моя глупенькая! Разве ты не знаешь, что в каждой мечте самое страшное то, что рано или поздно сна исполняется! Так что убережем мою наивную мечту от посрамления реальностью…
Алин механически перелистывала глянцевитые, богато иллюстрированные страницы. Вот уже сколько дней, недель, месяцев прошло с того странного, опасного разговора, когда они так близко подошли к потаенной дверце и все-таки не произнесли «сезам, откройся!»…
Прошла целая весна, и лето, и осень, а Рей все дальше уходил в какой-то свой, особенный мир, – словно и у него была тайна, которую он свято оберегал от посторонних. Алин жадно всматривалась в его худенькое лицо – галчонок, превращенный в человечка неумелым волшебником. Глаза, и волосы, и ресницы, и все черты лица – это от Нормана; от нее только хрупкость, кукольная прозрачность кожи. Но вот от кого этот взгляд: терпеливо-страдальческий – на мисс Актон, непримиримый – на отца, затаенно-обиженный – на нее?..
– Рей, мальчик мой, посиди спокойно хотя бы минутку, мамочка просит тебя. Посиди и послушай, я ведь все лето пытаюсь прочесть тебе эту книжку. Разве тебе не нравится, когда мамочка читает?
Она давно заметила, что звук ее голоса привораживает его. Он смотрит на нее зачарованно, но временами ей начинает казаться, что его совершенно не интересует смысл ее слов, а воспринимает он только музыку звуков. И она, не прерывая монотонного журчания своего голоса, чтобы не разрушить эту едва осязаемую ниточку между нею и сыном, торопливо открывает «Шантеклера»:
– Ты будешь сидеть тихо-тихо, как мышка, как вечерняя голубая стрекоза на стебельке осоки. Хорошо? А мамочка тебе почитает. Ну вот: «Другого такого певца не сыскать было по всей стране. Гребень у него зубчатый, как стены замка, был краснее самого яркого коралла. Блестящий клюв был черен как смоль, лапы и шпоры голубые, коготки белее снега, а гладкие перья отливали золотом…» Рей, мальчик мой, ты услышал хоть что-нибудь из того, что я сейчас тебе прочитала?
Задумчивый взгляд куда-то вдаль, за окно. За деревьями и забором не видно улицы, но отчетливо слышен гул мощного мотора удаляющейся машины.
– Рей, мне придется пожаловаться папе. Он выписывает тебе столько книг, а ты даже не заглядываешь в них. Папа в твоем возрасте так любил животных, а ты даже не хочешь о них слушать! Вот последняя из серии «книжек-зверюшек» – ну разве не прелесть? Такой белоснежный крольчонок, и ты узнаешь о нем столько интересного! Ну обрадуем же папочку, хорошо, Рей? Слушай же меня: «История крольчонка Ролли, который очень хорошо помнил все, чему училась его мама…»
Вообще-то странно, что Норман купил сыну такую книжку. Мальчик явно вырос из этих складных зверюшек, начиненных примитивно-назидательным текстом. Рожица у крольчонка уморительная, но вот заглавие на редкость растянуто, и есть в нем что-то неправильное. «Училась его мама». Наверное, опечатка – надо читать: «учила». Но все равно, все равно – раз уж Норман выписал эту книжку, надо, чтобы малыш прослушал историю уморительного крольчонка с начала и до конца.
«Жил да был крольчонок Ролли со своими пятью братьями и сестрами, которые весь день прыгали и играли, в то время как он послушно сидел возле своей мамы. И надо вам сказать, что мама у него была не простая, а дрессированная крольчиха, раньше на нее надевали красный фартучек, и она выступала в бродячем цирке – быстро-быстро перебирала лапками и крутила пестрый барабан, насаженный на спицу». Ты опять не слушаешь, Рей?
– Я знаю, что там дальше. Неинтересно.
– Деточка моя, не нужно говорить неправду. Я только что распечатала бандероль с книгами, так что никто не мог тебе этого прочитать раньше меня.
– Сейчас припомню… Потом эту крольчиху продали трактирщику… Это такой джентльмен, который жарит кроликов. Ну он ее и зажарил. Неинтересно. Да и потом… вот сейчас я вспомню…
Боже мой, какие жуткие истории попадаются, и нередко, в этих симпатичных книжонках с ангельскими иллюстрациями! Дед никогда не давал ей подобных вещей. Кто это написал? Женщина? Похоже, Фэрни С. Уорт. Ох уж эти новомодные течения в детской литературе!