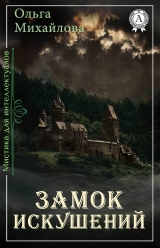
Текст книги "Замок искушений"
Автор книги: Ольга Михайлова
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 8,
в которой описывается весьма двусмысленный эпизод, свидетелем которому пришлось стать мсье де Клермону, а также повествуется о странном интересе, возникшем у его сиятельства Виларсо де Торана к замкнутому книжнику и библиофилу
В то утро Клермон проснулся на рассвете и решил прогуляться к пруду. Пруд его светлости был рукотворным, но, за годы обросший по берегам камышом, он выглядел живописно и вполне естественно. Вода была холодна, Арман не решился купаться, но направился обследовать ближайший горный кряж и неглубокое ущелье, по дну которого струился впадавший в пруд ручей. Около часа он бродил по расселинам, любовался живописными нагромождениями каменных уступов, вслушивался в мелодию звенящего по камням ручейка. Вышел он к замку, когда солнце уже взошло и золотило воды пруда игривыми бликами. Арман издалека заметил на озере Этьена. Тот купался в любую погоду и сейчас, переплыв пруд, вернулся к берегу.
Этьен вышел из воды обнажённым, подобный молодому богу, отряхивая намокшие на концах волосы, неспешно вытирая плечи и спину полотенцем, потом разлёгся на берегу, точно был один во Вселенной. Клермон не знал, стоит ли ему поприветствовать графа, но тут ситуация осложнилась появлением мадемуазель Лоретт.
Клермон почувствовал тройную неловкость. Он не мог выйти к замку иначе, чем миновав пруд, но ему казалось бестактностью подходить к его сиятельству, пока тот не одет, но в ещё худшем положении, по его мнению, оказалась мадемуазель д’Эрсенвиль – каково ей застать графа нагим? Его же собственное положение свидетеля подобной сцены – тоже было до крайности неловким. Но он ещё больше смутился, когда понял, что неловкость в этой ситуации испытывает только он один.
Этьен стыда не ведал. Он разлёгся на прибрежном песке, закинув руки за голову, и, хотя не мог не увидеть идущую к нему девицу, не шевельнул и мускулом, не сводя ленивого и жестокого взгляда с мадемуазель Лоретт. Клермон почувствовал, как загорается румянец на его щеках и прижал ладонь к лицу. Он не знал, что делать. Вскоре понял, что навязчивость мадемуазель, которую он подмечал в эти дни неоднократно, изуверски наказывается графом. Смутись граф хоть на мгновение – он проиграл бы, но Этьен спокойно поджидал излишне настойчивую девицу, и на лице его играла саркастическая улыбка. Он намеренно ставил Лоретт в смешное и унизительное положение и получал от этого немалое удовольствие, понял Клермон.
Самому Арману казалось, что поведение мадемуазель д’Эрсенвиль выходит за границы приличий. Он, скромный и не склонный к нарушению предписанных норм, полагал, что столь явно домогаться мужчины предосудительно и даже непристойно. В этом смысле Клермон понимал его сиятельство, дававшего навязчивой девице понять, что он имеет право побыть в одиночестве. Однако понимал Арман и неловкость положения Лоретт. Ей следовало поспешно уйти, но она не сделала этого. С опрометчивым и неумным упрямством она подошла к его сиятельству и, присев рядом, стала разглядывать водную гладь пруда, давая ему возможность прикрыться.
Этьен не сделал этого.
Клермон, который уже устал от этой борьбы самолюбий и бесстыдства, решился было обнаружить своё присутствие, но тут у замковой стены раздался живой смех, и вскоре показались Сюзан и Габриэль. За ними шёл Рэнэ де Файоль. Теперь положение Лоретт стало просто неприличным – она не могла допустить, чтобы её застали рядом с голым мужчиной. Она торопливо поднялась, и пошла навстречу сестре и Сюзан. Воспользовавшись их приходом, вышел из-за скального уступа и Клермон. Приветствия заняли несколько минут, а когда компания появилась на берегу, сестру искренней улыбкой и нежным поцелуем встретил его сиятельство – в охотничьих штанах и белой шёлковой рубашке.
Клермон, обдумав на досуге увиденное, счёл равно предосудительными и поведение графа – оно граничило с неуважением к женщине и откровенной аморальностью, и поступок Лоретт, который был просто неумным. Сам он, однако, не очень-то осуждал Этьена. Сказывалось мужское братство и общая психология, однако чем дальше он наблюдал за отношениями этих двоих, тем больше недоумевал. Если его сиятельство Виларсо де Торан ничуть не влюблён, а именно так Клермону казалось, то почему не объяснится с мадемуазель Лоретт? Но может ли сама мадемуазель Лора не понимать, что мужчина, ведущий себя, подобно его сиятельству, недостоин любви? Любая уважающая себя женщина, на взгляд Клермона, должна была просто в гневе отвернуться от него! Но ничего подобного не происходило. Лоретт, как тень, бродила по замку за Этьеном, а тот норовил поставить её в смешное положение и немало этим развлекался.
Впрочем, Этьен не всегда был столь бестактен и демонстративно безжалостен. Чаще он держался вполне пристойно, не позволял себе ни грубостей, ни резких слов, был вежлив и сердечен, и бедная Лоретт всё время надеялась, что рано или поздно его сиятельство полюбит её.
Поведение Лоретт было замечено всеми, и, как легко можно было догадаться, вызвало тихие и язвительные перешёптывания. Особенно усердствовал Дювернуа. Он, как и Клермон, прекрасно понимал, что ставящая себя в столь двусмысленное положение девица отнюдь не пользуется симпатиями его сиятельства, и неоднократно позволял себе ядовитые насмешки над Лоретт. Их с улыбкой выслушивала Сюзан, которой не было до Лоретт никакого дела, их слушал и всегда обожавший сплетни Файоль. Габриэль при замечаниях в адрес сестры молчала, не протестуя и не возражая. Только Элоди, когда до неё порой доходили подобные перешёптывания, злилась и сильно нервничала.
Но увы, попытки Элоди поговорить с сестрой о недопустимости подобного поведения вызывали у Лоретт лишь неприязнь и раздражение. Тем более, что на досуге Габриэль рассказала ей, что за их сестрицей, этой глазастой лягушкой, пытался ухаживать мсье де Файоль, а та резко отшила его. Каково? При мысли, что ей не удаётся привлечь внимание Этьена, а за их сестрицей ухаживают мужчины, Лоретт побледнела. Она зло поведала Габриэль о сцене, которую наблюдала в коридоре у Бархатной гостиной. Представь, за ней волочился и Дювернуа, говорил, что едва увидел, покоя-де лишился! Что они все находят в ней, не понимаю!
Лоретт вовсе на хотела ранить Габриэль, понятия не имея об ухаживаниях Дювернуа: её любовь к молодому графу затмевала ей глаза на всё остальное, к тому же, будучи весьма эгоистичной, Лоретт вообще мало интересовалась чужими делами. Она не заметила, как побледнела Габриэль.
Та, хоть и пережила утрату невинности со слезами, успокоилась быстро, столь же быстро – даже с пугающей Дювернуа быстротой – Огюстену удалось выучить её тонкостям любви, и их ночи протекали весьма приятно. Публично они старались соблюдать видимость поверхностного знакомства, и Габриэль страшно забавляло обретение нового статуса, став женщиной, она ни о чём другом думать не могла. Сестры казались ей теперь совсем глупенькими малышками, не познавшими тайны жизни, а своего любовника она считала просто красавцем. И даже влюбилась в него. Огюстен же упивался обладанием юным и полным сил телом, стараясь извлечь из него максимум удовольствия. До этого ему неоднократно приходилось довольствоваться кое-чем и похуже. Кроме того, наивность девицы позволяла ему уверить Габриэль, что всё предлагаемое им – не мерзости разврата, но самые обычные шалости влюблённых, и Габриэль по неведению следовала за ним туда, куда только могла завести развращённого повесу его нездоровая фантазия.
Но теперь Габриэль сначала обмерла, а потом откровенно взбесилась. Так значит, он всё врал? У девицы не было ни большого ума, ни жизненного опыта, но их вполне заменяло проявившееся ныне чутье самки, позволявшее ей делать те же выводы, что сделал бы куда более разумный человек. Стало быть, этот повеса просто волочился за всеми подряд, а вовсе не был смертельно влюблён в неё, как утверждал! Теперь Габриэль куда явственнее, чем раньше, сопоставила слова и дела мсье Дювернуа и поняла, что он просто обманул, одурачил её. Она не получала от Огюстена того, чего уже желало её тело, но сама мысль, что она, как взрослая, занимается любовными забавами с тем, кто боготворит и обожает её, возвышала девицу в собственных глазах. Теперь случайно брошенные в раздражении слова Лоретт обозлили Габриэль и открыли ей глаза на любовника.
Но Лоретт, как уже было сказано, не заметила произведённого её рассказом на сестру впечатления, и ещё несколько минут продолжала недоумевать по поводу впечатления, которое Элоди производит на мужчин, высказывая догадку, не знает ли эта бестия какого-то колдовского секрета покорения мужчин? Наверняка знает, иначе как можно с таким лицом привлекать всех подряд?
* * *
Тем временем Этьен, хорошо зная Дювернуа и рассмотрев его друзей, был удивлён, встретив среди них Армана де Клермона, но, быстро разобравшись в отношениях приятелей, понял, что связывает их весьма мало. Файоль и Дювернуа посмеивались над тем, что Рэнэ звал «причудами невинности», втихомолку потешаясь над приятелем, Этьену же Клермон понравился. Причём, понравилось именно то, что вызывало насмешки Дювернуа и де Файоля.
Граф постарался сойтись с Арманом поближе, и был приятно удивлён оригинальностью и удивительным благородством его суждений. Сам же Клермон с некоторым удивлением заметил в мсье Виларсо де Торане глубокие знания истории и литературы, Этьен был начитан в вопросах юридических, легко мог поддержать любой разговор, высказывал суждения продуманные, обличающие умение извлекать следствия из причин. Правда, рассуждения его сиятельства местами были искажены, но глубина их поначалу искупала кривизну. Раньше Арману казалось, что этого красавца не интересует ничего, кроме любовных похождений, теперь он вынужден был отдать должное не только обаянию графа, но и его живому уму. Темы их разговоров вначале редко выходили за исторические и литературные рамки. Говорили об искусстве, совсем немного о политике, ибо Клермон находил политику делом суетным, а Виларсо де Торан – занятием плебеев.
Граф охотно слушал Клермона, и из его рассказов, оценок и мнений делал заключения о личности собеседника. При этом сам Этьен был достаточно умён, чтобы высказывать именно те мнения, которые, как он интуитивно понимал, не шокировали бы собеседника. Первые дни он подстраивался к взглядам Клермона, не желая спорить, а в последующем стал находить удовольствие в этих разговорах. Как-то его сиятельство поинтересовался:
– Чем вы намерены заниматься в будущем, Арман?
– Вы о профессии или о жизни, ваше сиятельство? – Клермон посмотрел на Этьена, – со временем хотел бы преподавать. Но время может быть самым отдалённым.
– А «в жизни», как вы выразились?
– Бытийно я должен выполнить обязанность каждого человека. Приобщиться святости.
Этьен оторопел и, несмотря на воспитание, не мог скрыть растерянности.
– Вы хотите… стать святым?
Клермон посмотрел на него спокойно и внимательно. За время, прошедшее с того памятного разговора с Фонтейном, он пусть не до конца осмыслил, но уловил мысль профессора. Если бы люди любили друг друга… прощали, смирялись и служили бы друг другу – не нужны были бы ни свобода, ни равенство, ни братство – жалкие суррогаты Любви Божьей. Быть святым – это любить Бога и любить людей. Это Арман понял. Но он понял и другое: его душа, омертвевшая на потерях и унижении, не может пока подлинно любить – ни Бога, ни людей. Понял он и последние слова профессора, и его обжигающий льдом поцелуй. Он должен научиться любить. Он будет святым Божьим, будет жить в любви к людям и Господу, он постарается жить так, чтобы придать смысл бытию мира. Его понимание простиралось и ещё дальше. Его цель была недостижима. Но он пойдёт к этой недостижимости. Стоицизм его натуры, пессимизм ума и благородство крови подлинно нашли себя на этом поприще.
Арман рассказал Этьену о своём учителе и о его словах. Объяснил те выводы, что сделал из них. Он уже не боялся профанации или непонимания, просто не думал об этом, скорее, проговаривая осмысленное, пытался ещё раз продумать всё для себя. Этьен выслушал молча и долго после сидел, глядя в каминное пламя.
В тот вечер он рано ушёл из библиотеки. Клермон подумал было, что его слова чем-то обидели или задели Этьена, но на следующий день тот снова пришёл, и всё было по-прежнему. Правда, гость Армана стал чуть мрачнее и задумчивее.
Им часто мешали. В библиотеку то и дело наведывалась мадемуазель Лоретт, прерывая беседы и интересуясь, не собирается ли его сиятельство Виларсо де Торан прогуляться? Клермон видел, что Этьену совершенно безразлична эта влюблённая в него милая девушка, сам он неизменно краснел при воспоминании сцены около пруда, но заметил, что граф не был обременён никакими воспоминаниями. Однако порой он соглашался сопровождать её на прогулке, замечая на прощание Клермону, что через полчаса вернётся, давая тем самым понять мадемуазель д’Эрсенвиль, что время, которое он намерен уделить ей, ограничено. Он возвращался и беседы возобновлялись, причём Клермон минутами задавался вопросом, не спасаясь ли от навязчивости Лоретт, проводит его сиятельство столько времени в библиотеке?
Но спросить об этом не решался и оставался в неведении.
На самом деле мсье Виларсо де Торан просто откровенно скучал с Лоретт, томился и почему-то странно тосковал, иногда – до того, что сводило скулы. Этьен поймал себя на странной мысли. Если раньше он просто забавлялся, то теперь, общаясь с Клермоном, неожиданно подумал, что его отказ соблазнить Лоретт – поступок… благородный и высокоморальный. Он не собирался жениться, и не хотел обесчестить девицу. Подумал – и тут же расхохотался, представив, что бы сказала по этому поводу Сюзан.
Этьен долго не мог решиться поинтересоваться тем, о чём со смехом говорили Файоль с Дювернуа. Но когда осторожно спросил о «les complexités pour hommes», и даже предложил помощь в их разрешении, снова был шокирован.
– Фонтейн вразумил меня, граф. Если Бог спас меня от растления – не следует предавать спасшего тебя. Ведь душа ощущала неладное, точно я переступал через запретную черту, совершал над своей душой и телом какое-то кощунство. Фонтейн сказал как-то, что если человек становится распутником, голос совести стихает, он погружается в некое упоение, от которого трудно отказаться, барьер совести преодолён, а страсть услаждает глубины естества наслаждением, перед которыми блекнут остальные утехи. Но проходит время, чувства приедаются, и плотская услада уже не насыщает, внутри обнаруживается пустота. Потеря чистоты в конечном итоге разочаровывает. Он советовал не дробить на осколки драгоценный сосуд.
Взгляд Этьена потемнел, но он промолчал.
На следующий вечер граф, избавившись от Лоретт, направился к Арману, но столкнулся в коридоре с Огюстеном. Тот был весьма озабочен своим заказом портному, который надлежало отправить сегодня: появилась возможность послать почту – по тросу, переброшенному мсье Бюффо на соседний берег, откуда письма обещали забрать егеря герцога.
– Умоляю вас, Этьен, посоветуйте! – было заметно, что возможность называть его сиятельство просто по имени страшно льстит Дювернуа.
Мсье Виларсо де Торан, мысленно посылая надоедливого глупца к черту, выразил полную готовность помочь приятелю. Мужская мода уже перешла от эксцентричности к простоте и единообразию, окончательно освободившись от влияния придворного церемониала. Исчезли парики и пудра, треугольные шляпы, кружевное жабо и манжеты. Универсальной одеждой стал фрак, который носили во всех случаях, к нему надевали длинные панталоны. Исчезли броские и роскошные материалы, бархат и узорчатые шелка. Мужская одежда шилась из простых шерстяных тканей, основное внимание уделялось совершенству покроя и обработке деталей – взял верх идеал неброской элегантности. Одновременно с упрощением костюма возросла роль галстука, ставшего единственным ярким дополнением одежды, но мало кто по-настоящему владел искусством завязывания галстука и, может быть, только сам основатель дендизма, лорд Браммел, умел это делать. Единственным украшением оставалась игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Создан был тип скромно, но идеально одетого мужчины.
Одежда денди, несмотря на простоту, была очень дорога. Покрой должен быть совершенным, поэтому стало модным шить у «своего» портного. Теперь Дювернуа пребывал в затруднении – послать ли заказ Жаку Ригу, у которого шил до сих пор, или сделать заказ у портного Этьена, чьи костюмы были просто великолепны? Он хотел выглядеть столь же мужественно, как и его сиятельство.
Мсье Виларсо де Торан похвалил мсье Луи Гореля, у которого шил сам. У него превосходный вкус, и Этьен вполне доверял ему в выборе расцветки жилета, покроя и сочетания частей его гардероба. Он предоставил в распоряжение приятеля всё своё понимание, но, так как был прекрасно воспитан и безупречно учтив, ни словом не обмолвился о том, что субтильный Дювернуа может претендовать разве что на изящество – но никак не на мужество, ибо узкие плечи и худоба Огюстена потребовали бы от портного – будь он даже Господь Бог – невозможного.
– Мы не в силах научить буржуа носить сапоги и панталоны так же безупречно, как это делаем мы, денди, – разглагольствовал между тем Огюстен, – и я решительно против того, чтобы двери в храм элегантности были открыты для толпы. Нет существа, менее похожего на человека, чем человек с улицы, не правда ли? Чтобы быть элегантным, надо, по меньшей мере, иметь вкус. Мелким торговцам, деловым людям и преподавателям богословия элегантность обрести не дано. Вы согласны, граф?
Граф не хотел спорить, про себя отметив, что выпады Дювернуа против Клермона становятся все более частыми. Ну, причём тут богословие, скажите на милость? Сам же Дювернуа теперь смешил и раздражал его. В Париже он как-то не обращал внимания, насколько тот пошл. Более близкое знакомство открыло только убожество интересов и пустоту. И этот глупец толкует об элегантности? Горе-модник, который приходит в ужас от малейшей морщинки на рубашке, трудится до седьмого пота, чтобы добиться никому не нужной безукоризненности, забывая, что вымученная элегантность – все равно что вчерашний обед…
– Умение одеваться – это плод привычки и чувства меры, Тентен, – заметил граф, несмотря на раздражение, спокойно и обходительно. – Сегодня простота роскоши сменилась роскошью простоты. Человек со вкусом должен быть скромен, всякая вещь должна быть тем, чем она является. Слишком дорогие украшения не производят впечатления, а пестрота отдаёт безвкусицей. Вот и всё.
Они все ещё обсуждали цвет заказываемого фрака, решая, выбрать ли модный зеленовато-болотный цвет «спинки полуобморочной лягушки» или не менее модный красновато-коричневый цвет «замышляющего убийство паука», когда к ним присоединился Файоль. Этьен внимательно рассматривал лицо Рэнэ. Да, что и говорить, сестричка постаралась. Больные и надломленные жесты Файоля, его измождённое бессонницей лицо вызвали сочувствие Этьена: развращённый и душевно, и телесно, он, вопреки всему, сохранил некую врождённую незлобивость, умение понимать людей, и даже благородство, постоянно искажаемое миазмами душевной помрачённости. Этьен и сейчас мысленно улыбался, представляя, что творится в штанах несчастного Рэнэ, но и вполне искренне сострадал ему, дав себе слово уговорить сестрицу Сюзан сожрать поклонника. Нельзя же так, в самом-то деле!
Файоль не проявил ни малейшего интереса к разговору, не до галстуков ему было. Он надеялся увидеть Сюзан, уже готов был на всё, – настолько непереносимым становилось его состояние. Она околдовала его, просто околдовала. Однако, сама Сюзан, встречаясь с ним на прогулках, в залах и коридорах – с подлинным мастерством, скопированным с его прежнего артистизма, талантливо играла неподдельное внимание, искреннюю заинтересованность и даже нежную влюблённость, – но немножко весьма искусно переигрывала. Ровно настолько, чтобы убедить Рэнэ, что ею движет лишь вежливость. Он настаивал на встрече наедине – она делала непонимающие глаза. Файоль делал предложение, кладя к её ногам душу, сердце, руку, состояние – Сюзан твердила, что он сошёл с ума.
Сейчас Рэнэ голосом глухим и словно простуженным спросил Этьена, не знает ли тот, где его сестра? Мсье Виларсо де Торан тотчас высказал предположение, что она либо с девицами д’Эрсенвиль, либо прогуливается с его светлостью по парку, и Файоль, кивнув и слегка пошатнувшись, направился в парк.
Он нашёл в парке двух сестёр д’Эрсенвиль – Элоди и Лоретт, но Сюзан с ними не было. Он поспешно устремился к пруду, рассчитывая найти её на берегу, но её не было и там, Рэнэ обошёл замок, и снова прошёл мимо сестёр. Лоретт просто не заметила его, а Элоди проводила насмешливым и высокомерным взглядом.
Этьен же, отделавшись от двух дураков, поспешил в библиотеку. Нет, не от Лоретт он скрывался. Он стал отдавать себе отчёт, что его странно влечёт к скованному и задумчивому книжнику Клермону. Скромность, строгий логический ум, интеллектуальная честность и вдумчивость Армана пленили Этьена, роднила и любовь к трудноразрешимым задачам. Стремление Клермона к моральному совершенству, абсолютно непостижимое, удивляло, но не отталкивало графа. Не смешила и абстиненция. Действительной или кажущейся была его холодность – Этьен не знал, но владение чувствами и эмоциями в Армане поражало. Этот человек мог принимать разумные решения, даже если они были неприемлемы для него или неприятны, и никогда не шёл на поводу у своих чувств или желаний. И это вдруг заворожило Этьена. Его – изгибало и перекашивало, а этот мальчик не гнётся?
Граф счёл себя обязанным понять причину.








