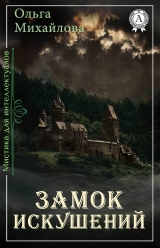
Текст книги "Замок искушений"
Автор книги: Ольга Михайлова
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 2,
просто пояснительная. В ней коротко рассказывается том, почему трое друзей, прибывших в Тентасэ, вовсе не были друзьями
Арман Клермон называл себя парижанином, хотя родиной его предков была старая Шампань. Его дед, граф Шарль-Патрик Амеди де Гэрин де Клермон в страшный год царствования кровавого Робеспьера лишился всех земель и родового замка и попал на гильотину. Во времена, последовавшие после ста наполеоновских дней, его сын кое-что – в состоянии удручающем – сумел получить обратно, кое-как продал, чтобы обеспечить будущее сына, и вскоре семья перебралась в Париж.
Юный Арман с детства понял, что их обстоятельства изменились, и ему придется пробиваться самому. Он сразу сделал то, что удивило и насторожило отца – решительно избавился от зримых признаков былого аристократизма, одевался подчеркнуто просто, впрочем, ничего иного позволить себе и не мог, и стал подписываться просто Клермоном. Отец заметил ему, что пренебрежение к собственному происхождению смешно в выскочке, но постыдно в дворянине, но Арман не внял ему.
Он был ребенком странного времени. Революция обрушила устои привычного порядка, но возникшая на его руинах кровавая вакханалия ужаснула, её исход вопиюще не совпадал с рассудительными предначертаниями мыслителей былого, и отдаленно не напоминая то царство свободы, равенства и братства, какое возвещали именем справедливого здравомыслия вчерашние властители дум, чьи наилогичнейшие поучения обернулись полуночным бредом. Подлинное развитие событий выглядело куда своенравнее благих ожиданий и изощрённых выкладок философического Разума.
Перед его отрезвляющим уроком рассудочность выглядела глупостью.
Клермон появился на свет три года спустя после того благословенного дня, когда в грязную корзину под гильотиной рухнула голова Робеспьера, чудовища, погрузившего страну в кровавое марево террора. Всё, случившееся в эти безумные годы Клермон знал по рассказам. Бабка хотела воспитать в нём мстителя за поругание, отец – человека, умеющего всё простить. У них ничего не получилось. Арман не хотел прощать, но не мог и мстить призракам, ушедшим в долину смерти, и потому просто пытался жить впечатлениями, будь то безудержная фантазия, россыпь рифм на лету, зыбкие грезы или вспышки душевных озарений. Но не всегда получалось. Он был умён и рассудителен, презирая и ум, и рассудительность.
Довольно внимательно, хотя и безучастно юный Арман наблюдал взлёт и падение Наполеона. Отроком он стал свидетелем омерзительно-забавной сцены в Люксембургском саду, где увидел брата императора Жерома, который, прогуливаясь с компанией молодых шутников, подошёл к старой даме в немодном платье и сказал:
– Мадам, я страстный любитель древностей и, глядя на ваше платье, я хотел бы запечатлеть на нём восхищенный и почтительный поцелуй. Вы мне разрешите?
Дама ответила ему очень ласково и любезно:
– Охотно, мсье. А если Вы не почтете за труд посетить меня нынешним вечером, то сможете поцеловать и мою задницу, которая является ещё большей древностью – она на сорок лет старше платья.
Эта была насмешливая и безжалостная оплеуха века минувшего, человеком которого от себя чувствовал – веку парвеню, времени тщеславных выскочек, крутящихся у новых тронов. При этом сам Арман не понимал, что наиболее болезненно для него: поруганная ли честь семьи, сокрушённая ли гордыня, сполна ли прочувствованное унижение нищеты?
Арман замкнулся, пытаясь продумать свой дальнейший путь, в котором, по здравом размышлении, ничего утешительного не видел. Вернуть величие роду? Жизнь, пожертвованная честолюбию? Но он не был честолюбив и не хотел заискивать перед новыми хозяевами жизни. Жизнь, отданная величию? Но он ощущал в себе то рыцарственное величие благородной крови, которой претит желание подняться над ничтожествами. Карабкаться вверх свойственно только плебеям. Арман же по-прежнему оставался патрицием. Жизнь, посвящённая накопительству? Он тихо вздыхал, морщась, словно от зубной боли. Любовь? Арман сжимал зубы ещё сильнее.
Когда ему исполнилось восемнадцать, отец заверил его, что они сумеют оплатить его обучение в Парижском университете, закрытом Чудовищем, но вновь открытом Наполеоном. Он согласился и, поступив туда, неожиданно обнаружил блестящие способности. Огромное серое здание в самом сердце Латинского квартала, выпускники которого веками составляли цвет французской образованности, стало для него родиной духа. Книги, старинные фолианты университетской библиотеки, огромные инкунабулы с пергаментными страницами, пахнущие затхлой замшей и немного – мёдом и плесенью, зачаровывали его. Он не чувствовал голода и зова плоти, погружаясь в таинство чуждых букв, разбирая полустёртые знаки на ветхих страницах. Здесь он обретал себя, расслаблялся, не чувствуя своей ущербности.
Вскоре Клермон обратил на себя внимание профессора Жофрейля де Фонтейна, кумира студентов, который отметил в Армане недюжинные дарования, невероятную усидчивость и почти монашескую серьёзность. Сблизившись со своим питомцем, обнаружил и роднящее их сходство судеб. Во время революции многих профессоров Сорбонны гильотинировали. По мнению Марата и Робеспьера, учёность вела к неравенству. Отец Фонтейна, профессор Сорбонны, погиб во время террора, семья была разорена.
Фонтейн смог добиться для Армана персональной стипендии, что вызвало у студента слезы благодарности. Сам профессор был одинок, и в ученике хотел найти если не сына, то наследника своей кафедры и, хотя до панибратских отношений никогда не снисходил, они порой болтали как приятели.
Однажды профессор поинтересовался у Армана, как тот решает проблемы плотских тягот? Имеет ли подружку? Клермон некоторое время молчал, потом заметил, что подружка ему не по карману. Он не лгал, но правда была несколько сложнее. Почти непреодолимая робость перед женщиной всегда мешала ему. Однажды Файоль затащил его в известный парижский квартал, где услуги жриц любви стоили мизерно мало, но его первый опыт закончился ничем. Он чувствовал необъяснимый ужас. Клермон рассказал это учителю. «Мне казалось, что я кощунствую или, точнее сказать, просто пытаюсь сотворить мерзость».
– Это пограничное состояние для людей… – тихо заметил Фонтейн, – вы – не от мира сего, мой мальчик.
Клермон не знал, что на это ответить. Книги поглощали его время и мысли, сердце же словно окаменело. Он не мог опуститься до плебейского ничтожества помыслов и поступков, обнаружил в душе ревностный стоицизм и христианское смирение, готовность перенести всё, но – зачем? Однако пересилить похоть ему помог не стоицизм натуры и не омерзение от блудных притонов. Толстая шлюха, подружка Файоля, тогда, посмеиваясь, спросила его, не хочет ли он сам, – ведь внешне-то совсем недурён – стать «юным другом» одного финансового воротилы? Тут напрягаться не придётся, деловито заметила она, и он сможет сменить свои лохмотья на что-то поприличней. Проститутка испуганно замолчала, заметив, как страшно потемнел его взгляд.
Больше Арман в упомянутый квартал не выбирался.
– Мне показалось, что у вас ещё чистое сердце, мой мальчик, – договорил тогда профессор. – Чистое для приобщения к святости и любви Божьей. Знаете, когда голова отца упала перед моими глазами в корзину, я понял, что мир потерял что-то самое главное. Мне было тогда столько же, сколько вам сейчас. Четверть века… да, почти четверть века я думал над этим. Искал. Я понял, что потерял мир. Он утратил Бога и Любовь. Понял я и ужас этой потери. Двойной ужас. Первый ужас – в лёгкости, невесомой лёгкости её потери и невероятной трудности её обретения. А второй, самый страшный, в том, что потеряв её навсегда, мир потеряет смысл. Человек, не обретший святость, проживает жизнь впустую, даже управляя Империей.
Арман внимательно слушал.
– Вы говорите о святости как о нравственности, профессор?
Фонтейн побледнел и резко поднялся. Голос его стал глух и размерен, совсем как на лекциях.
– Святость – это отражение в себе облика Господнего, мой мальчик. Нужно жить в милосердии и смирении, кротко снисходя друг к другу и прощая взаимно. Более же всего надо любить Господа и людей, любовь есть совокупность совершенства. Иначе остаётся лишь несостоявшееся существование человека, который стареет, как пустоцвет, и сгнивает в смраде.
Арман сумрачно выслушал учителя.
– Ваш отец и мой дед – погибли потому…
– …что люди перестали любить Бога, мой мальчик. Вы молоды – и мои слова вам непонятны. Пока – просто запомните их. Но я верю, что вы поймёте, – профессор подошёл к Клермону, – вы, мой мальчик, будете из тех, чьё существование придаёт миру смысл. Таких, как вы – единицы. Но мир живёт немногими.
Он нагнулся к Арману, и его ледяные губы обожгли горячий лоб Клермона.
* * *
На курсе Арману, студенту-богослову, симпатизировали молодые юристы Огюстен Дювернуа и Рэнэ де Файоль, жившие по соседству, но сам Арман относился к ним настороженно. Утончённость и прекрасное воспитание Дювернуа казались ему деланными, а милое остроумие и живой ум Файоля не вызывали доверия. Узнав их ближе, он утвердился в своём мнении, за свободой поведения заметив скрытую порочность обоих, а сквозь поверхностность суждений сокурсников скоро проступило отсутствие принципов.
Тем не менее, в университете их считали друзьями.
Рэнэ был сыном обедневшего и нетитулованного дворянина, который четырнадцатого июля штурмовал Бастилию, потом вошёл в Национальную гвардию и был делегатом Учредительного собрания вместе с Мирабо и Лафайетом. Однако в октябре оказался среди кордельеров, а после вареннского кризиса, в июле семьсот девяносто первого, стал членом Якобинского клуба. Когда год спустя было объявлено, что «отечество в опасности», он несколько отошёл от политики, наблюдая склоки между якобинцами-монтаньярами и жирондистами. Жирондисты – Бриссо, Верньо и Ролан – были ему симпатичны, а фанатичный Робеспьер, хилый Марат и тупой Дантон казались в некотором роде le bas-fonds – отребьем, но в день победы при Вальми, на первом публичном заседании Конвента он вместе с якобинцами настаивал на вынесении королю смертного приговора, потом праздновал поражение интервентов при Флёрюсе, но летом девяносто четвертого он примкнул к заговору против Робеспьера, и как участник переворота Девятого термидора пожинал его плоды. Преуспевал он и после, при Наполеоне, везде обнаруживая всё то же умение гениально чуять направление политического ветра, и сумел составить неплохое состояние. Он мог бы приобрести и графский титул, если бы не счёл, что в новое время он будет скорее помехой, чем подмогой.
Рэнэ был истинным сыном своего отца, и его противоречивый характер некоторые принимали за сложность натуры, безмозглые же резонёры и корчащие из себя святош клерикалы называли беспринципным.
Что до Огюстена, то он был сыном богатого человека, чьи плебейские замашки навсегда закрывали ему дорогу в приличное общество. Но можно быть плебеем, не будучи глупцом, и мсье Шарлю Дювернуа хватило ума купить дворянство и нанять для обучения и воспитания сына разорившегося графа из Анжу. Старику Анри де Сент-Верже не нравился его воспитанник: угнетали плебейская пошлость и низость суждений, трусость, лень и склонность к мелким пакостям. Но в мелких начальных распрях между учителем и учеником отец всегда брал сторону педагога, что являлось ещё одним свидетельством ума торговца. Огюстен, поняв, что бесполезно жаловаться отцу, ибо за любую жалобу он лишь получал дополнительную порцию розог, покорился, и эта слабость пошла щенку на пользу: Сент-Верже не сумел сделать из него благородного человека, ибо это было невозможно, но создал внешнее его подобие, и для тех, кто судит по первому впечатлению и внешнему виду, а таких большинство, Огюстен выглядел вполне пристойно. Это позволило ему войти в общество и завести там полезные знакомства. Если Огюстен становился собой, в нём снова проступали наглость взгляда, развязность речей и плотоядность улыбки, но собой он, по счастью, бывал теперь редко – лишь основательно напившись.
Когда Огюстен получил приглашение от одного из своих знатных друзей, графа Этьена Виларсо де Торана, провести каникулы в замке своего дальнего родственника неподалёку от Гренобля, при этом захватить с собой двух друзей, его выбор сразу пал на Рэнэ и Армана. Файоль был приятен в общении, они полностью понимали друг друга, но случись что – Клермон будет незаменим. Дювернуа, хоть и посмеивался над тем, что звал «les singularités du puceau», «причудами девственника», чувствовал исходящую от Армана странную силу, ту мощь, в которой ему самому, изнеженному и слабому, было отказано. Кроме того, Дювернуа, что делало честь его учителю, теперь старался чаще общаться с людьми благородными, учиться и манерам, и жестам, и речи, а в Клермоне, как бы тот ни пытался играть буржуа, аристократизм был врождённым.
Файоль, услышав о возможности отдохнуть в горах, тоже не возражал против Клермона, хотя по совсем иным причинам: тот всегда был замкнутым и сдержанным, и на его фоне обаяние и живость Рэнэ казались особенно выигрышными.
Но Клермона пришлось долго уговаривать – несмотря на полный пансион и самые заманчивые обещания, он не хотел ехать, стыдился своего полунищенского гардероба, чьё убожество становилось особенно заметным на фоне расфранчённых приятелей, и лишь понимание, что отцу будет легче без него кое на чём сэкономить, да обронённое Фонтейном замечание о редкостных списках поэм Гильома де Машо, Эсташа Дешана и Алена Шартье, которые, как тот слышал, хранились в замке Тентасэ, заставили всё-таки решиться на вояж.
Замок Тентасэ не разочаровал ни Файоля, ни Дювернуа, а стоило Арману бросить взгляд на полки старинной библиотеки замка – он тоже перестал сожалеть о приезде.
Глава 3,
в которой гости замка Тентасэ имеют возможность приглядеться друг к другу, обозначить собственные предпочтения и даже обменяться мнениями по этому поводу
Впервые общее знакомство состоялось в столовой, огромной ортогональной комнате, расположенной в одной из башен замка. Мадемуазель Элоди д’Эрсенвиль с тревогой ждала знакомства с человеком, от которого зависела судьба сестры, и когда у входа, чуть опередив её в коридоре, пред ней любезно распахнул дверь статный синеглазый красавец, она замерла.
– Вы… вы мсье Виларсо де Торан?
Красивый юноша, однако, застенчиво улыбнувшись, представился Арманом Клермоном, заметив, что его сиятельство – уже в столовой. Сам он проводил недоумённо-восторженным взглядом стройную девицу с глазами лесной лани, и лишь усилием воли прогнал странное онемение, охватившее вдруг всё тело.
Через минуту в столовой состоялось представление. Его сиятельство граф Этьен Виларсо де Торан с особой сердечностью поприветствовал сестёр д’Эрсенвиль, и Клермон заметил, как замерла, остановившись в немом изумлении перед ним та высокая тоненькая брюнетка, что приняла его самого за Этьена, как испуганно отступила на шаг и в молчании выслушала его любезные слова, ничего не сказав в ответ. Собравшимся её представили как мадемуазель Элоди д’Эрсенвиль. Её старшая сестра, милая бледная девушка с нежной улыбкой, обратилась к Этьену со словами ласковыми и кроткими, а та, что была моложе всех, бросила на молодого графа испуганно-восторженный взгляд.
Рэнэ и Огюстен старались угодить всем дамам, при этом Клермон отметил странное впечатление на мужчин, которое произвела мадемуазель Элоди: Рэнэ удивлённо замер, оглядывая её как диковинку, Дювернуа, казалось, несколько испугался и даже попятился, Этьен же, заметив как она разглядывает его, сначала улыбнулся, но потом улыбка быстро сползла с его лица, не встретив ответной улыбки. Глаза девицы, казалось, пронизывали его насквозь, и взгляд этот был неприятен. Граф отвёл глаза и поспешно обернулся к мадемуазель Лоре.
Все исподтишка продолжали разглядывать друг друга, не забывая вежливо отвечать на расспросы хозяина, интересовавшегося своими гостями. Теперь в его светлости в полной мере проступил некий высший такт вельможи – умение описать других так, как они видят себя сами. Клермон отметил, что герцог ни разу не задел ничье самолюбие, беседовал со всеми, и в то же время каждому из гостей казалось, что хозяин больше всего рад в собравшейся за столом компании именно ему.
Герцог уронил несколько изысканных комплиментов мсье Дювернуа. Подумать только, с каким вкусом подобран шейный платок! Просто бесподобно! Какое понимание моды и стиля! Не в каждом сегодня встретишь столь безупречный вкус! Мсье де Файолю был задан лестный вопрос о том, не он ли сын господина Эдмона де Файоля, известного политика, сподвижника Льва Неаполя и автора блестящих статей в «Le Figaro»?
С Арманом Клермоном герцог заговорил о своей библиотеке, обратил ли мсье Арман внимание на редчайший из его манускриптов – триста восемьдесят шестого года? Мсье де Клермон нашёл этот манускрипт? Ещё нет? Весьма рекомендую. Последняя, самая высокая полка на тринадцатом стеллаже. Это действительно редкость. А заметил ли он codex rescriptus, который ему удалось купить абсолютно случайно в одном итальянском монастыре – это собрание булл Иннокентия III, в миру – Лотарио ди Сеньи, умершего в Перудже в тысяча двести шестнадцатом году? Великий был человек. Сам он, Робер Персиваль, в родстве с графами ди Сеньи. Что? Поэмы Гильома де Машо, Алена Шартье и Эсташа Дешана? О, ну конечно, четвёртый стеллаж.
Сам мсье де Клермон, судя по выговору, из бывшей Шампани или все же из Оверни, Пюи-де-Дома? Верным оказалось первое предположение, и тогда его светлость галантно осведомился, здравствует ли его отец? Узнав, что да, заметил, что счастлив приветствовать у себя его милость виконта де Гэрина. Клермон смутился и поправил его. Вотчины де Гэрин в семье давно нет, пробормотал он чуть слышно, он – просто Арман Клермон.
– Вас зовут Арман Патрик де Гэрин де Клермон, юноша. Ваш дед был граф Шарль-Патрик Амеди де Гэрин де Клермон, ваш отец ныне – граф Эдмон Люсьен, и вы по его смерти унаследуете его титул. Разве вам не говорили, что пренебрежение к собственному роду смешно в парвеню, но низко в дворянине? Генеалогия дома Блуа-Шампань, графов Блуасских, Бульонских, Труа, Шатоден, Клермон, королей Наваррских, идущих от Тибо, виконта де Тур, – не та, которой надлежит пренебрегать. Наследник крови Вильгельма Завоевателя не должен становиться плебеем даже мысленно. Вашей далекой прабабке – Луизе, дочери Мадлен де Ромфорт и Жана де Конэ, сира дю Марто, вышедшей за Оливье де Гэрина, сира де ла Боссе, уверяю вас, было бы стыдно за праправнука.
Поймав на себе внимательный взгляд мадемуазель Элоди д’Эрсенвиль, Клермон, хоть и смутился, не мог не почувствовать себя польщённым. Арман не хотел упоминания о былом величии своего рода – именно потому, что не мог ему соответствовать, но в то же время при этой девушке Арману совсем не хотелось казаться парвеню.
Особое внимание герцог уделил сёстрам д’Эрсенвиль, почему-то обращаясь преимущественно к средней. У мадемуазель такое имя – это семейная традиция? Мадемуазель Элоди сдержанно ответила, что это имя она получила от матери в честь бабушки – та была кармелитской монахиней Компьеня, и стала мученицей.
Арман взглянул на неё с болезненной жалостью и пониманием: он при первом же взгляде на неё понял, что мадемуазель Элоди – иная, непохожая от остальных, отметил, что, в отличие от своих спутниц, она совершенно свободна от желания понравиться, несуетна и очень спокойна, а теперь понял и её затаённую скорбь – место родового перелома у него тоже болело.
– Ваша бабушка была монашкой? – В голосе Сюзан прозвучало недоумение. Она с изумлением рассматривала Элоди, будучи не в силах понять, как это в одной семье среди столь хорошеньких девчушек могло появиться на свет этакое страшилище. – А что за мучение она приняла?
– Её гильотинировали в девяносто четвёртом. Монахинь Компьеня, чей монастырь был уже конфискован, отправили тогда в Париж, бросили в камеру смертников. Трибунал уже издал «Закон о подозрениях», и для суда не нужны были ни доказательства, ни защитники, достаточно было простого подозрения, чтобы приговорить обвиняемого к смерти. Кармелитки прибыли тринадцатого июля, в воскресенье, четырнадцатого, заседания были прерваны по случаю празднования годовщины взятия Бастилии. Был праздник Мадонны Песнопений, вечером того же дня их предупредили, что завтра их ждёт трибунал. Обвинение утверждало, что они были «сборищем мятежниц и фанатичек, питающих в своих сердцах преступную жажду видеть французский народ в оковах тиранов, кровожадных и лицемерных священников: жажду видеть, как свобода будет потоплена в крови, которую они своими подлыми происками всегда проливали именем неба». Это был обычный стиль тогда. – Элоди рассказывала тихо и бесстрастно, ни на кого не глядя, – одна из сестёр, услышав от обвинителя слово «фанатички», спросила, что он подразумевает под этим словом? «Я понимаю под этим, – ответил Фуке Тэнвиль, – вашу преданность наивным верованиям, эти ваши глупые церковные обряды». Сестра поблагодарила его, а потом, обращаясь к сёстрам, сказала: «Вы слышали заявление обвинителя о том, что все это происходит из-за любви, которую мы питаем ко Христу. Возблагодарим же Того, Кто шёл впереди нас по пути к Голгофе! Какое счастье иметь возможность умереть за нашего Бога!» В шесть часов вечера того же самого дня, со связанными за руками их повезли к Венсенской заставе, к эшафоту на старую площадь Трона. Обычно конвоиры расчищали дорогу между двумя шеренгами пьяной и орущей толпы. Но говорили, что эти повозки проехали среди молчания толпы. Затем настоятельница встала в стороне перед эшафотом, держа на ладони руки маленькую глиняную статуэтку Святой Девы, которую ей удавалось прятать до этих пор. Все монахини целовали её и шли на смерть. Среди них была и мать моей матери – после смерти мужа она приняла постриг.
Сюзан прожевала спаржу и недоуменно вопросила:
– Разве они не могли сбежать?
– Смерть за Христа – высшая награда для христианина, зачем бегать от неё?
Сюзан рассмеялась.
– И вправду, фанатички. Но казнить женщин – это ужасно. Все эти кошмары революции просто жутки, дядя говорил, что чувствовался недостаток в топливе и освещении, и соседи поочередно приносили друг к другу вязанку хвороста, чтобы поболтать при огне. Согласись, Фанфан, ужасные были времена, – обернулась она к брату.
Этьен галантно согласился, хоть сам их, разумеется, не помнил. Но он имел на этот счёт своё мнение.
– Революция уничтожила все монастыри, потому что разнузданностью нравов эти святоши надоели всем. Это было неотвратимостью возмездия. Я уверен, стоит перерыть архивы религиозных орденов – раскрылись бы чудовищные злоупотребления, извращения и кощунства клерикалов. Кто знает, не совпадают ли сатанинские безумства вандейского палача Карье или Марата с духовной смертью аббатств? Революция лишь разрушила руины.
Герцог усмехнулся. Он обернулся к мадемуазель Элоди д’Эрсенвиль, которая хрустальными, остановившимися глазами смотрела на Этьена. Клермон никак не мог определить их цвет – в них мелькали то голубой, то серый, то зеленоватый оттенки, иногда глаза отдавали бирюзой, а иногда – лазуритом.
– Вы не согласны с утверждением моего племянника, мадемуазель?
Мадемуазель опустила ресницы и тихо произнесла, что она посоветовала бы мсье Виларсо де Торану перечитать Книгу Иова. Тон её голоса прозвучал на октаву ниже, был глух и сумрачен. Клермон бросил на Элоди взгляд, в котором мелькнули слёзы, ему на миг показалось, что она заметила их, и Арман поспешно отвёл глаза.
Кстати, наклонился тут его светлость к Этьену, он позабыл сказать. У него в библиотеке есть и один из первых списков Vita Stephani Grandimontensis, составленного в тысяча сто тридцать пятом году. Герцог полагал, что это будет интересно его племяннику, ведь это его небесный покровитель. Этьен с удивлением посмотрел на его светлость. Это вовсе не было ему интересно.
Между тем Рэнэ де Файоль, незаметно рассматривая девиц, сразу выделил теперь мадемуазель Элоди д’Эрсенвиль, поразившую его своей утончённой красотой. Чёрная жемчужина, серый опал и розовый перламутр! Он был покорён и взволнован. Девица была столь изысканно сложена и столь одухотворённо прелестна, что в первую минуту он даже обмер. Но нечего и думать заполучить такую куколку в постель – ничего не светит, это понятно. Фразы, уроненные красоткой, говорят о нраве ханжеском и суровом. Его самого – едва взглядом окинула. Нет, к черту – надо заниматься тем, что плывёт в руки. И всё же… Надо попробовать. Если же нет… Он оглядел Сюзан, тоже весьма привлекательную. Правда, теперь, в сравнении с необычной внешностью мадемуазель Элоди д’Эрсенвиль, её красота поблёкла и казалась несколько заурядной, но он все же улыбнулся и ей. Впрочем, недурна была и Лоретт. Да и младшая, Габи – тоже лакомый кусочек…
Дювернуа показалась привлекательной мягкая женственность мадемуазель Лоретт, но и Сюзан, бесспорно, была хороша. Впрочем, любая сойдёт. Он посмотрел на Элоди д’Эрсенвиль, и подумал, что с такой лучше не связываться: и вправду фанатичка, хотя грудь – просто божественна. Но, воля ваша, глаза – Немезида, ей-богу. Так и ждёшь, что метнёт молнию. Нет. Такая ему и даром не нужна. Уж больно много апломба да гонору. На него и взгляда-то не кинула.
Каждый мужчина интуитивно понимает уровень своих притязаний. Если он честен, то обозначает его прямо, если склонен к самообману, то выдаёт этот уровень за предел возможного. Дювернуа мог рассчитывать только на то, от чего откажутся другие, но никогда себе в этом не признался бы. И потому, уподобляясь лафотеновской лисице, Огюстен склонен был называть гнилым или кислым недоступный для него виноград.
Оставшуюся часть дня гости провели за осмотром замка. Мсье Бюрро взял на себя роль чичероне и проводил их по пиршественным залам, картинным галереям и жилым покоям, потом – по тяжёлым ступеням башенных лестниц привёл на смотровую площадку, откуда хорошо были видны живописные окрестности. Клермона немного пугал этот человек с пасмурными глазами, который, чем больше улыбался и шутил, тем сумрачнее казался, зато шутки его светлости были искромётны и остроумны, и гости то и дело покатывались со смеху.
Несмотря на лето, стемнело рано, солнце скрылось за горным уступом, когда не было ещё и восьми. В сгустившейся темноте Рэнэ де Файоль заметил светящиеся точки. Мадемуазель Сюзан предположила, что это светляки и захотела поймать нескольких. Его светлость, однако, отсоветовал своей очаровательной родственнице покидать пределы замковой ограды после наступления темноты. То, что ей показалось невинными светляками, вполне может оказаться глазами волка – несколько их бродит тут неподалёку. Бюффо, тунеядец, трутень, дармоед и бездельник, обещал отстрелять, да так и не взялся. Сюзан испуганно, но кокетливо вскрикнула, и больше вопрос ночных прогулок не поднимался.
* * *
Через час все девицы собрались в гостиной Сюзан. Кроме Лоретт, мадемуазель Виларсо де Торан никого из них не знала, и сейчас с любопытством присматривалась к девушкам. Правда, Элоди ей не понравилась – и лицо узкое, и глаза какие-то дикие, и ведёт себя странно и говорит какой-то вздор о каком-то Христе. Кто сегодня об этом вспоминает? Монашка, одним словом. Но мадемуазель Габриэль показалась ей очаровательной, живой и милой, и вскоре они уже свободно болтали.
Самой мадемуазель Элоди Сюзан Виларсо де Торан тоже не понравилась. Да, красавица, под стать брату, но её суждения несли печать пустоты и духовной помрачённости. Впрочем, что удивляться – каков братец, такова и сестрица. Выпускница католического пансиона в Шарлевиле, причём, как ядовито отмечали сестры, «лучшая из лучших», Элоди с чистым сердцем восприняла слова своих духовников. Разумеется, по возвращении из пансиона она не могла не заметить, насколько далека реальная жизнь от тех добродетелей, кои ей проповедовали. Это расхождение, однако, не вынудило её пересмотреть свои принципы, но заставило преисполниться презрением к царящим вокруг нравам. И сейчас Элоди подумала, что в лице сестры мсье Виларсо де Торана судьба столкнула её с особой безнравственной и пошлой.
Что до Лоретт, то она могла интересоваться только Этьеном, расспрашивала Сюзан о его вкусах, пристрастиях, любимых книгах. Сюзан охотно и любезно отвечала, и Элоди с удивлением подметила в её словах искреннюю гордость и горячее чувство. Сестра, бесспорно, обожала брата, и это в глазах Элоди делало ей честь.
Габриэль же восторженно болтала, восхищаясь замком, его светлостью, галантными молодыми людьми и очаровательным котёнком господина Бюрро – Валетом. Всё было просто прелестно! Особый восторг Габриэль вызвало чудесное платье мадемуазель Виларсо де Торан. Сестры д’Эрсенвиль были далеко не бедны, но таких изысканных столичных туалетов в их провинциальном обществе – удивительно чопорном! – никто не носил! Боже, до чего красива ткань, какой изящный крой, как прелестны эти фижмы на рукавах! Мадам Дюваль рассказывала им, как раньше носили высокие прически самых разных форм! Жаль, что эта мода навсегда ушла. Нынешний стиль, хоть и говорят, что близок к античности, но он слишком прост и безыскусен, да и надоел уж порядком.
Сюзан неожиданно, слегка задумавшись, спросила Габриэль, кто это – мадам Дюваль? Она где-то слышала это имя. Лоретт и Габриэль с восторгом рассказали о своей гувернантке, она настоящая аристократка, просто семья разорилась, и несчастная Люси вместе с сестрой Катрин вынуждены были идти в услужение. Ей удалось выйти замуж, но, к несчастью, муж скоро умер. Последние десять лет она жила в Эрсенвиле.
Сюзан отметила, что мадемуазель Элоди не только не присоединилась к восторгам сестёр, но, напротив, на лице её отразилось пренебрежительное презрение. Сюзан спросила сестёр, не Фоше ли девичья фамилия мадам Дюваль, и к их огромному изумлению, оказалась права. Мадемуазель Виларсо де Торан вспомнила, что и впрямь слышала от своей гувернантки Катрин Фоше, что у неё есть старшая сестра. Правда, та рекомендовала Люси как вздорную и наивную дуру, у которой и на пятом десятке в голове девичьи шалости да грубый вздор, и выражение на лице Катрин было такое же, как у этой Элоди.
Но как, однако, тесен мир!
* * *
Когда на башне пробило четверть десятого, Сюзан навестила Этьена. В роскошном шёлковом халате, сшитом не столько для удобства хозяина, сколько для того, чтобы остальным было проще постичь, какие услады может принести богатство, он, развалившись в кресле, что-то читал, но, увидев сестру, отложил книгу. Нежным жестом она взъерошила его густые шелковистые волосы.








