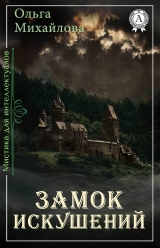
Текст книги "Замок искушений"
Автор книги: Ольга Михайлова
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Ну, малыш, каковы твои планы на эти дни? Лоретт и вправду влюблена в тебя до смешного.
Этьен забросил ноги на стоящий рядом столик и откинулся в кресле, закинув руки за голову. Сейчас, в свечном пламени от кенкета он был очень хорош собой. Магии его непонятного обаяния многие завидовали. Он был красив, не красота создала ему славу покорителя сердец. Мало ли красивых юношей в Париже! Но, раз взглянув на Этьена, женщине уже невозможно было отвести глаза в сторону. Впрочем, мистика потому и мистична, что необъяснима.
Сестру он выслушал лениво и задумчиво.
– Ты это мне говорила, Сюзан.
Сюзан разлеглась в соседнем кресле.
– А сам ты, хочешь сказать, ничего не заметил? Она же глаз с тебя не сводила!
– Я заметил. Ты ненавидишь её?
Вопрос вызвал странную оторопь у Сюзан, она с недоумением посмотрела на Этьена, потом весело расхохоталась. Она поняла. Десятки девиц обожглись об Этьена, как бабочки о свечное пламя, и пали с опалёнными крыльями. Конечно, если бы Сюзан имела зуб на подругу, проще простого было расправиться с ней, просто познакомив с братцем. Но это не соответствовало действительности.
– Нет. Я пригласила её с сёстрами, заметив, что она влюблена в тебя. Мне показалось, что это тебя позабавит. Только и всего. Мне безразлично, жива она или мертва, совращена или невинна. Можешь за всё лето вообще ни единым словом с ней не перемолвиться. Это будет даже забавно, мой дорогой. Можешь ей назло развлечься с крошкой Габриэль. Она ведь тоже очень мила и тоже, как я погляжу, глаз с тебя не сводит. Малютка очень шустренькая, не правда ли?
– Правда, – вяло и несколько рассеянно подтвердил Этьен.
– Или тебе приглянулась эта брюнеточка Элоди? Странное лицо, да? Она не чахоточная? В ней и в самом деле что-то монашеское, не так ли?
– Так. – Глаза Этьена были мечтательны и пусты. – Ну, а ты-то что будешь делать, моя дорогая? Кто станет жертвой роковых страстей? Бедный рыцарь Арман? Расфранчённый циник Дювернуа? Остроумный кривляка Файоль?
Сюзан развела руками и пожала плечами, давая понять, что ей неведомо, как стасуется колода, и куда лягут карты.
– Интересно, каково это, быть женщиной? Чувствовать власть над мужчиной… – Этьен задумчиво глядел на пламя свечи, – знать, что призыв плоти, исходящий от тебя, туманит голову, малейшее движение мраморного тела вызывает страсть, и достаточно взгляда, чтобы пробудить вожделение…
Сюзан с улыбкой посмотрела на Этьена.
– Ты сегодня романтичен, Фанфан. Так какая же из девиц навеяла тебе эти мысли?
Он пожал плечами. Потом неожиданно после недолгого молчания заговорил, серьёзно и как-то испуганно. Или ей показалось?
– Знаешь, Сюзи, мне уже трижды снился странный сон. Как будто я вижу женщину – холодную как мрамор, но облик её неявен – он словно тает. Темноволоса ли, блондинка? Не знаю. Она похожа на статую, её глаза – из камня. Не помню имени, но в нём что-то болезненное… Я помнил его. Но забыл.
Внимательный взгляд Сюзан тоже стал серьёзным. Если она в этой жизни кого-то любила – то только Этьена. Она всегда радовалась, что у неё есть такой близкий друг и конфидент. Родство усиливало доверие, позволяло ничего не скрывать друг от друга, и эти отношения – равные и доверительные – она ценила. Ей нравилось, что брат советуется с ней по поводу вещей весьма скользких, всегда была готова помочь и с удовольствием видела, что и он дорожит её дружбой и всегдашним пониманием.
Но в последнее время она то и дело подмечала в нём вялую отрешённость от столь занимавших его прежде affaire de coeur[1]1
Интрижек (фр.)
[Закрыть], безразличие и непонятную холодность. Сюзан была умна и видела, что не она тому причиной. Что-то угнетало Этьена. Иногда он снова становился собой, был обаятелен и неотразим, но всё чаще казался чем-то подавленным. Она не хотела ничего выпытывать, полагая, если он всё же найдёт нужным поделиться с кем-то – это будет она. Малышку Лоретт с сестрицами Сюзан пригласила, чтобы просто развлечь и встряхнуть брата.
Сейчас слова его озадачили. В них было что-то досадное и тягостное, чего ей вовсе не хотелось бы понимать, но она ничем не выдала своего раздражения.
– Ты просто переутомился, малыш. Здесь, в Тентасэ, вся твоя хандра пройдёт, поверь. Кстати, как тебе его светлость?
Этьен пожал плечами. Герцог де Тентасэ не занимал его. Кем там он им приходится? Когда Этьен получил от него письмо с приглашением, он думал было написать дяде Франсуа, спросить, в какой степени родства с ними его светлость Робер Персиваль де Тентасэ де Шатонуар, да как-то позабыл. Да и какая разница?
Сестра напрасно ждала от Этьена откровенности. Что бы ни понимать под откровенностью – бесстыдство или чистосердечие, – он не мог ничего объяснить, ибо не мог понять себя. Полусонные галлюцинации и любовные похождения, извращения и ненасытность, непристойности и экстаз разврата, изматывающие тяготы, порабощающие каверзы, оплёвывание священных истин и кощунства, свары и злые выходки, смертельные удары шпагой и роковые выстрелы, игра со смертью, надгробные речи, неврозы и путаница, доводящая рассудок до изнеможения, жабы и черви, все призрачное, чахоточное, похотливое, ублюдочное и порочное, – вспоминалось все чаще с непонятной тоской. Прежде любовные интриги были увлекательно таинственны, потом – постыдно скандальны, теперь же они стали откровенно скучны.
Этьен улыбнулся сестре.
– Ты права, малышка, мне нужно отдохнуть. Я просто не в духе.
Когда Сюзан ушла, Этьен почти сразу провалился в вязкий сон, липкий и призрачный. В нём снова маячила неведомая женщина и тягостное ощущение тяжёлого ярма, огромного непосильного бремени и томительной безысходности сжимало сердце. У женщины не было глаз – только мраморные глазницы, точно спаянные вечным сном. Но ему так нужно было заглянуть в эти глаза, так нужно было… пусть она откроет их, пусть только откроет – и все изменится. Мука кончится.
Прошло всё под утро, Этьен проснулся на рассвете и впрямь почувствовал, что хандра прошла. В самом деле, лето в Тентасэ сулило много приятного. Стало быть, малютка Лоретт? Или Габриэль?
А впрочем, какая разница?
* * *
В тот же вечер состоялся ещё один разговор – когда Файоль, Дювернуа и Клермон расходились по спальням. Рэнэ поинтересовался у Армана, какая из девиц ему приглянулась? Клермон пожал плечами и ответил, что жениться сможет не раньше, чем получит кафедру. Сам он запретил себе даже думать о мадемуазель Элоди. Файоль и Дювернуа молча переглянулись, и Огюстен подмигнул Рэнэ, приглашая зайти в его спальню. По дороге он поделился с другом кстати вспомнившимся анекдотом, и хохот Файоля был слышен даже на другом этаже.
Когда оба остались одни за закрытой дверью, их разговор коснулся перспектив пребывания в замке, которые оба оценивали одинаково блестяще. Безусловно, приоритет придётся уступить Этьену, считал Огюстен. Виларсо де Торан – родственник хозяина и ему нужно предоставить право первого выбора в отношении девиц д’Эрсенвиль, но ничто не помешает им пока попытаться занять внимание прелестной Сюзан, а потом, подхватить то, что перепадет от трапезы его сиятельства Виларсо де Торана.
– Я, откровенно сказать, Тентен, – задумчиво проронил Файоль, – слышал о нём пару мерзопакостных сплетен и десяток гадких историй, и даже не знал, верить или нет. Но сейчас, когда увидел его…
– Перестал верить?
– Напротив, – усмехнулся Рэнэ. – Уверен, что всё – правда. Ещё, надо полагать, и не договаривают. Будь у меня такое лицо…
Огюстен кивнул и понимающе улыбнулся. Да, многие изумлялись внешности брата даже больше, чем привлекательности сестры. Облик Этьена нёс печать такого благородства и красоты, что, будь у него сестра, он и на минуту побоялся оставить её в комнате с подобным Адонисом.
– Ну, а что ты скажешь о сестричках? – Файоль задал этот вопрос небрежно, но взгляд его выдал некоторое напряжение.
– Не знаю. Приударю за каждой – может, какая и поведётся. Но не сейчас: его сиятельство ещё никого не выбрал. Не хотелось бы быть его соперником. – В этих словах приятеля Рэнэ не заметил свойственного Дювернуа плебейского тщеславия. В них проступили лишь осмотрительность и заурядное буржуазное здравомыслие. К чести Дювернуа, он понимал, что быть соперником графу Этьену он просто не может. Кроме того, Огюстен прекрасно знал, что значит перейти дорогу его сиятельству Виларсо де Торану.
Следующий вопрос Рэнэ задал осторожно и ненавязчиво, расчёсывая перед зеркалом волосы.
– Как тебе средняя, брюнеточка?
Дювернуа поморщился, почесал пышную шевелюру и бросил быстрый взгляд на приятеля.
– Хочешь приволокнуться? – Огюстен пожал плечами, – по-моему, бесполезно. Но товар, конечно, штучный.
* * *
После полуночи в спальню Лоретт тихо постучали. Габриэль была рада поделиться с сестрой восторгом по поводу роскоши замка, чудесных качелей, уюта её спальни, но пуще всего – графа Этьена, о чём не могла говорить при Сюзан. Боже, как он прекрасен! Какие черты, какие белоснежные зубы! Какие бездонные глаза! Что за прелестная улыбка, а как роскошен его костюм! Просто сказочный принц! Мадам Дюваль была права, на свете нет ничего лучше мужчин! Какие они галантные, какие остроумные!
Лоретт с улыбкой приложила палец к губам.
– Тише, глупышка, а то Диди услышит и опять скажет тебе, что ты грешница.
Габи брезгливо поморщилась, словно раздавила жабу.
– Не поминай ты её, Бога ради, и без того надоела.
Обе засмеялись. Было очевидно, что сестра не пользуется ни их любовью, ни доверием.
Элоди, что скрывать, по возвращении из Шарлевильского пансиона и впрямь до крайности надоела сёстрам нелепыми поучениями. Если бы она не занималась полдня с управляющим дурацкими хлопотами по имению – от неё и вовсе бы житья не было!
У сестёр была ещё одна причина недолюбливать Элоди. Почему-то отец в завещании распорядился до крайности несправедливо. Приданое у всех троих было одинаковым, но отец особо оговорил, что именно Элоди, всегда бывшая его любимицей, получала лучшие драгоценности матери и дом в предместье Парижа. Разве это честно? А главное-то – зачем? Ведь эта монашка никогда не носила никаких украшений, кроме бабкиного креста! На что ей бриллианты?
Но подобное отцовское предпочтение они Элоди всё же простили бы, как прощали несносный характер и нелепое стремление навязывать всем свои монашеские предрассудки. Однако тут произошёл один странный случай, который и случаем-то не назовёшь, так, житейский эпизод, пустяк, который заставил, однако, сестёр уже ничего не прощать сестрице. Причём, надо заметить, спровоцирован он был совсем не Элоди.
Случилось это в мае, месяц назад. Лоретт и Габриэль, жалуясь на сестру мадам Дюваль, искренне недоумевали. «Она может иметь любые взгляды – но зачем навязывать их нам?» Гувернантка искренне сочувствовала бедняжкам. Сама она принадлежала к тому нередко встречающемуся типу «не стареющих душой» женщин, которые просто не чувствуют времени – ни вокруг себя, ни в себе. В сорок восемь лет она все ещё питала пристрастие к розовым девичьим платьям, упивалась романами о вечной любви, была удивительно мила с молодыми людьми, нежно привечая их и обласкивая.
А молодые люди в их имении появлялись в последние годы частенько. Это были их кузены Онорэ и Мишель де Кюртоны. Они неизменно встречали самый доброжелательный приём у мадам Дюваль, да и кузины, как замечали юноши, становились год от года всё привлекательнее. Восторги мадам Дюваль и её романы о великих страстях приводили к тому, что Мишелю дозволялось не только нежно гладить ручки Лоретт, но порой разрешать себе и куда более рискованные шалости, а малютка Габи неоднократно чувствовала в штанах кузена Онорэ, на колени которому то и дело влезала, заметное напряжение.
Многие чувства и склонности носят неопределённый характер, пока не осознают себя. Классическим примером служит смутное желание, пробуждающееся в юноше или девушке, когда они достигают возможности любви. Их томят неясные желания, но они потаённы и сдержанны. Но пусть хоть одно слово откроет чувству глаза, определит его, и из смутного стремления оно перейдёт в ясное осознание.
Однажды у запруды, уединившись с Габриэль в небольшой беседке, Онорэ показал ей то, что вызывало в ней такое любопытство, и нельзя сказать, чтобы сильно шокировал. Габриэль восторженно щупала напряжённую мужскую плоть, потом кузен научил её, как можно позабавиться с ней, доставив притом ему немалое удовольствие. Опасаясь возможного скандала, он не перешёл последних границ, но пошёл так далеко, как только мог. Временами он повторял эти забавы, потом к этому же приохотил Лоретт Мишель, который тоже по-братски не хотел сестрёнке неприятностей, и потому довольствовался тем, что мог себе позволить безнаказанно. Сестры не знали, что возбуждение от их юных прелестей оба брата гасили в алькове их наставницы, – к взаимному удовольствию сторон. Впрочем, обе сестры не были влюблены в кузенов, и даже узнай они правду – шокированы бы не были.
Но Элоди, по случайному стечению обстоятельств, правду узнала и была взбешена. Сразу по возвращении из пансиона ей пришла в голову мысль о расширении библиотеки, о чём неоднократно думал и отец, она обсудила эту идею с приглашённым декоратором, но потом подумала, не целесообразнее ли пристроить к библиотеке не комнату мсье Оливье, но комнату мадам Дюваль – в этом случае пришлось бы переносить только одну стену. Полагая, что гувернантка с Лоретт и Габриэль на поляне, она вошла в её спальню. Выскочила оттуда пулей и долго не могла унять яростную дрожь. По счастью, в любовных забавах ни Мишель, ни мадам Дюваль её не заметили. Желание вышвырнуть распутную тварь из дома душило Элоди, но она понимала, что Габи и Лора никогда не согласятся на это.
Приходилось терпеть шлюху и делать вид, что ничего не произошло.
Но вернёмся к нашему рассказу. Для Лоры и Габриэль весьма странным казалось то, что оба кузена никогда не подтверждали их мнение, что их сестрица Элоди – монастырская крыса, уродина и зануда. Мишель смотрел на среднюю сестру д’Эрсенвиль взглядом внимательным и сумрачным, переставал смеяться и умолкал, едва видел её, Онорэ же вообще старался на неё не смотреть – после того, как она в ярости огрела его кнутом, едва он попытался поухаживать за ней. Черты её страшно исказились, и Онорэ даже несколько испугался – и столь бурной реакции, и чего-то неуправляемого, промелькнувшего в ней. Но и после этого, когда заходила речь об Элоди, он молчал, ни словом, ни жестом не обнаруживая согласия с кузинами, неустанно твердившими, что она – просто невыносима. Масла в огонь подлила мадам Дюваль – причём, невольно, когда, хохоча, спросила однажды Мишеля, неужели он женился бы на подобной девице?
Молодой человек смущённо опустил глаза, сестры заулыбались и переглянулись, подмигнув мадам Дюваль, но тут Мишель неожиданно тихо проронил, «если мадемуазель Элоди удостоит его согласием, – он почтёт за величайшее счастье быть её супругом…». Улыбка медленно сбежала с губ Лоретт, Габриэль побледнела, мадам Люси Дюваль выглядела так, словно ей в лицо выплеснули ведро помоев.
Этот случай отозвался в душах Лоретт и Габриэль гораздо болезненнее того предпочтения, которое выказал Элоди отец. Он положил конец всякой душевной близости между сёстрами и, чтобы Элоди теперь не говорила, Лоретт и Габриэль просто не слушали, хотя воспитание и не позволяло им показывать это. Их души были закрыты для неё, они отторгали любые попытки сближения, оставались глухи к её заботам. Презрение сменилось раздражённой неприязнью, прикрываемой приличиями, но временами прорывающейся – неконтролируемо и зло.
Глава 4,
в которой Клермон, по просьбе Рэнэ де Файоля, читает последнему небольшую лекцию по богословию. Попутно в ней выясняется, что мадемуазель Элоди не нравится «необразованность, скрываемая под маской бравирующего всезнайства»
Почти сразу после приезда компании в Тентасэ отец Гюстав Лефевр, ветхий старик-священник, пригласил гостей замка на следующее утро в домовую церковь на воскресную службу. В храме, выложенном до самых сводов мраморными надписями, прославляющими счастье долетевших до небес молитв и обретённых милостей перед алтарём Пресвятой Девы, несколько тонких свечей пронизывали рассветный сумрак золотистыми остриями, словно наконечниками золотых копий. Священник перебирал на кафедре чётки, откуда-то доносились литургические песнопения: лился гимн неторопливый и жалобный, мелодия непорочная и нежная, её сменил антифон, умоляющий и скорбный, потом донёсся отрывок из литургии Фомы Аквинского, смиренный и задумчивый, медленный и благоговейный, который обожал Клермон.
В маленькой церкви никого, кроме него, не было: гости герцога не пожелали принять участие в утреннем богослужении.
Клермон молча слушал службу. Он погрузился в молитву, словно вошёл в прозрачные воды и потрясённо ощутил, что в этом древнем замке, в намоленных столетиями стенах, он словно зримо предстоял Всевышнему. У него никогда, несмотря на тяготы бытия, не было никаких просьб к Господу. Он искренне полагал, что его нужды – скромные и ограниченные – Господь знает, и просто благодарил Его за счастье бытия. Сейчас душа его неожиданно трепетно воспламенилась, застыв в неслыханном молчании, он причастился в тихом умилении и тут только заметил, что в церкви и Элоди. Она безмолвно сидела где-то за колонной и теперь тоже причастилась.
После службы они вышли из крохотного притвора поодиночке. Арман боялся подойти к ней, ибо её глаза, смиренные и целомудренные, увлажнённые слезами умиления, овевали неземным благочестием её прелестное лицо, и он, желая сохранить в себе то чувство приобщённости к Всевышнему, не хотел нарушать мирной растроганности и её, и своей души. Словно издалека до него донёсся слабый голос старика-священника, сетующего на безбожные времена. Господи, что же это? Только двое…
Клермон долго стоял в тёмном притворе. Странно, но у него вдруг возникло нелепое чувство, что за тяжелой дубовой дверью храма – кончается мир, там точно притаилось что-то тревожное, тягостное, страшное. Хотелось остаться здесь, никуда не уходить, но священник, извинившись, поторопил его: он сегодня уезжает в Гренобль, надо спешить.
Арман вздохнул и покинул притвор – и сразу увидел Элоди, укутанную в тёмную шаль, стоявшую в несколько вымученной позе перед его сиятельством Этьеном Виларсо де Тораном и Рэнэ де Файолем, вышедшими на раннюю прогулку. Клермон посочувствовал Элоди – он знал, сколь неприятно бывает умилённому службой слышать вульгарные пошлости светских людей – циничные и вздорные. Тихо подошёл и понял, что не ошибся.
Этьен рассказывал, сколь уродливых кармелитских монашек доводилось ему видеть в церквях.
– От их лиц меня охватило полное разочарование. Я представлял их бледными и строгими, но почти у всех были одутловатые лица в веснушках, руки с грубыми, корявыми пальцами. Более пошлой наружности и представить нельзя! Понятно, что такие жабы посвятили себя Богу! Кому они ещё нужны?
Элоди тяжело вздохнула, подняла глаза и тут перехватила сочувственный взгляд Клермона. Затем перевела взгляд на графа и тихо проговорила, причём Арману показалось, что она едва подавляет неприязнь.
– Среди кармелиток нередки красивые женщины, покинувшие свет, разочаровавшись в его тщете, но те простые девушки из бедных кварталов, которых вы видели, душой постигли истину, к которой другие доходят годами опыта. Подумайте, что сталось бы с ними, если бы их не принял Христос? Вышли бы замуж за нищих пьянчуг и изнемогали бы под бременем обид и побоев. Или поступили бы в услужение в гостиницы и рестораны, и там их насиловали бы хозяева и совращали постояльцы, над ними издевалась бы челядь, их ожидали бы растление, тайные роды, или просто панель, обрекающая их презрению улиц и опасностям дурных болезней. Но они, ничего не ведая, остались вдали от всей этой грязи.
Этьен, выслушав её, промолчал. Промолчал и Файоль. Элоди же, нисколько не задумываясь о том, как отзовутся на её слова навязавшиеся ей слушатели, пошла к себе.
…Священник ещё до полудня покинул замок.
Мсье де Файоль по уходе Элоди и после того, как их покинул Клермон, любезно осведомился у его сиятельства, как он находит эту девицу? Странна, не правда ли? Граф спокойно подтвердил это. Да, необычна. Видимо, воспитанница католического пансиона. Внешность девицы странно напоминала ему старинную икону Пречистой Девы в церкви Виларсо. Но, откровенно сказать, Этьен, отметив неотмирную внешность и необычное поведение сестры Лоретт, не имел ни времени, ни возможности присмотреться к ней: так досаждала ему своим вниманием старшая мадемуазель д’Эрсенвиль.
Граф встречал её всюду, куда бы ни направился, ищущий взгляд Лоретт неимоверно досаждал, постоянные встречи утомляли. Воспитание не позволяло быть грубым, но общество навязчивой девицы совсем не радовало Этьена. Удружила сестрица, ничего не скажешь. В этом отношении Элоди, неизменно его избегавшая, казалась прекрасно воспитанной, наделённой непоказной скромностью. Этьен дорого бы дал, чтобы столь же ненавязчивой была бы Лоретт, но об этом и мечтать не приходилось.
Рэнэ же решил теперь во что бы то ни стало попытать счастья с красоткой. Вдруг выгорит? Он видел её недобрый взгляд, устремлённый на Этьена, когда тот без излишнего почтения высказался о разрушенных мятежниками монастырях, видел, что и сегодня она с трудом удержала гнев при новых пассажах графа в адрес кармелиток. При девице, стало быть, надо держаться почтительно по отношению ко всей этой клерикальной дребедени. Чёрт, зря он не пришёл сегодня утром на службу – это подняло бы его в её глазах. Осечка, ну да ладно.
Рэнэ задумался. Надо произвести хорошее впечатление. Но как? Заговорить, словно случайно, о вере и возвышенных материях. Что он читал по этому поводу? Чёрт, а ведь абсолютно ничего. Надо пойти полистать чего-нибудь. О! Ещё умнее сесть с книгой какого-нибудь богослова, скажем… Хм, а что скажем-то? Надо спросить Клермона, какие у нас есть богословы. Хорошо бы при случае высказаться о храмовых росписях Нотр-Дам, тоном знатока ввернуть пару тонких замечаний о святынях веры. Рэнэ смутно помнил, что неподалёку от его дома на площади Пантеона, слева от громады лицея Генриха IV, чуть в глубине стояла какая-то церковь. Кажется, Сент-Этьен-дю-Мон. Жаль, он никогда не заходил внутрь. Но можно заговорить и о ней – девице это понравится.
Расставшись с его сиятельством возле Рокайльного зала, Файоль поспешно направился в библиотеку и поинтересовался у Армана, чем немало изумил последнего, именами видных богословов. Подивившись подобному интересу, Клермон, тем не менее, назвал Рэнэ Августина, Иеронима, Амвросия Медиоланского, Григория Великого. Это что за века, поинтересовался Рэнэ. С четвёртого по начало седьмого. Файоль почесал в затылке. А поближе ничего нет? Ну почему же? Дальше вероучение оформлялось сочинениями Ансельма Кентерберийского. Он родился в Пьемонте и стал главой английской церкви, разработал онтологическое доказательство бытия Бога. В своих сочинениях «Pros logium», то есть «Прибавление к рассуждению» и «Monologium» дал догматическое обоснование учения об искуплении. В тысяча семьсот двадцатом году папа Климент XI причислил Ансельма к католическим вероучителям.
Файоль поморщился, глядя на тяжёлый том Ансельма, как на раздавленного паука.
Ни один из них – ни Клермон, ни Файоль – не заметили, как в полуоткрытую дверь тихо вошла мадемуазель Элоди д’Эрсенвиль. Толстые ковры в библиотеке скрадывали звуки шагов. Мадемуазель растерялась, но поняв, что её не заметили, решила было уйти и прийти попозже, но тут Клермон, видя, с каким отвращением смотрит Рэнэ на огромный том Ансельма, продолжил расхваливать библиотечное собрание богословов его светлости. Может быть, Рэнэ заинтересует Пьер Абеляр? Он был профессором Парижского университета и одним из его основателей. Он считал, что только Священное Писание и церковные таинства не нуждаются в проверке разумом. В сочинении «Да и нет» Абеляр сопоставлял цитаты из сочинений отцов Церкви, выявляя их противоречивость. Но система учения Абеляра не была принята официальными теологами. Особенно яростными его оппонентами выступили Бернар Клервоский и папа Иннокентий III. Учение Абеляра было осуждено на соборах в Суассоне и Сансе. Не лучше ли Рэнэ ознакомиться с трудами Бернара Клервоского? Это монах-цистерцианец, он отстаивал незыблемость церковного предания и догматики, порицая схоластику за рационализм, проповедовал смирение, приводящее к любви к Богу, открывающей путь к высшему совершенству, достичь которого можно лишь в экстатическом состоянии слияния души с Богом. Теология Бернара Клервоского – это самоуглублённое, мистическое восприятие мира.
Увы, том Бернара понравился Рэнэ ничуть не больше фолианта Ансельма.
«Если ему не интересны отечественные богословы, продолжил Арман, может заняться немецкими мистиками? В библиотеке его светлости есть труды Иоганна Таулера и Фомы Кемпийского. Есть и Альберт Великий, монах-доминиканец, немецкий теолог, естествоиспытатель, комментатор Аристотеля. Он обладал такими энциклопедическими познаниями, что его противники часто обвиняли теолога в колдовстве. Католическая церковь присвоила ему титул «doctor universalis»… А вот ещё один великий монах-доминиканец, ученик Альберта, итальянец Фома Аквинский, гений метафизики», восторженно произнёс Клермон. Основными сочинениями Фомы являются «Сумма теологии» и «Сумма философии об истинности католической веры против язычников». Аквинат учил, что воля человека свободна, совершенное познание и совершенное блаженство заключаются в созерцании Бога, что возможно лишь в раю или в состоянии религиозного экстаза. Фома имел титул «всеобщего наставника» и «князя схоластов». Он был канонизирован в тысяча триста двадцать третьем году, а двести пятьдесят лет спустя назван «пятым учителем церкви» после Августина, Иеронима, Амвросия Медиоланского и Григория I.
Элоди, спрятавшись за огромный стеллаж, забитый медицинскими инкунабулами, с восторгом слушала Клермона. Подумать только, с какой любовью он говорит об Аквинате! Сятого Фому любили и её духовники. Файоль же никак не мог определиться. Он отверг предложенного ему Роджера Бэкона, не прельстился и Оккамом, поморщился при виде толстенных трудов по церковной истории Евсевия Памфила, «Истории готов» Кассиодора, «Истории Франков» Григория Турского, «Этимологии» Исидора Севильского, «Церковной истории народа англов» Беды Достопочтенного. А нет ли какого-нибудь труда, где все это излагалось бы попроще и в общем?
Клермон вздохнул. Может, Роберто Беллармино? Вот его благочестивые наставления «De ascensione mentis ad Deum», сиречь, «Лествица умственного восхождения к Богу». А вот «О вечном блаженстве святых» и «Искусство благополучно умирать», а вот его исторический труд «De scriptoribus ecclesiasticis», о церковных писателях, изданный в 1613 году. Он прост и излагает всё весьма доступно. Файоль обрадовался, но, взяв Беллармино, с полдороги вернулся, вспомнив своё намерение почитать какой-нибудь известный богословский труд на глазах у Элоди.
Он прихватил коричневый том Роджера Бэкона: тот подходил по цвету к его выходному фраку.
Когда Рэнэ ушёл, Клермон со вздохом стал возвращать книги на полки, недоумевая про себя, зачем это нужно Файолю? Неужели заинтересовался богословием? Арман вздрогнул, когда из-за дубовых полок вдруг появилась мадемуазель д’Эрсенвиль, и несколько смущённо улыбнулся, заметив на её лице легкую усмешку. Она попросила найти ей роман мадемуазель Мари-Мадлен де Лафайет и тоже спросила, зачем, по его мнению, мсье де Файолю были нужны эти богословские тома? Он не похож на серьёзного человека. Клермон запротестовал. По его мнению, когда бы в человеке не пробудился интерес к вопросам Духа, это можно лишь приветствовать…
Элоди задумалась, потом согласно кивнула, взяла найденную им книгу, поблагодарила и тихо вышла. Клермон долго смотрел ей вслед, чувствуя слабое головокружение и истому, точнее, томящую слабость, обессиливающую тело и волнующую душу.
Элоди устроилась с романом на скамейке недалеко от качелей, и тут, неожиданно подняв голову, заметила, как на соседнюю скамью опустился Рэнэ де Файоль в роскошном коричневом фраке, новом шейном платке и с толстым фолиантом Бэкона. Элоди чуть заметно пожала плечами, покачала головой и углубилась в роман. Между тем, через несколько минут Рэнэ переменил место и подсел к ней, тихо заговорив. «Что она читает? «Принцессу Клевскую»? А он предпочитает более серьёзные книги. Вот, Роджер Бэкон. Его любимый автор…» «Быстро же он тебе полюбился…», усмехнулась про себя мадемуазель д’Эрсенвиль. Вслух же она поинтересовалась, о чём пишет этот учёный муж, кажется, о четырёх величайших препятствия к постижению истины? А именно примере жалкого и недостойного авторитета, постоянстве привычки, мнении несведущей толпы и прикрытии собственного невежества показной мудростью? В знаниях Элоди не было ничего странного: всё это им неоднократно рассказывал в пансионе отец Легран.
Файоль слегка растерялся, он и предположить не мог, что девица знает Бэкона, но подхватил её слова. «Да, да, именно об этом… Вот он пишет, что для выводов пользуются тремя наихудшими доводами: это передано нам от предков; это привычно и общепринято, следовательно, этого должно придерживаться…»
Это Рэнэ, поняла Элоди, вычитал из предисловия. На большее у него и времени-то не хватило бы, – ведь ему нужно было ещё и переодеться. Элоди отдала должное артистизму Рэнэ – тон его был искренним и задушевным, сказанное казалось продуманным и верным, и не будь она случайной свидетельницей библиотечной сцены – ей пришлось бы поверить ему. Некоторое время она с блестящими глазами даже любовалась лицемерием Файоля: он никогда не казался ей опасным, скорее, фигляром и жуиром, и потому на губах её играла живая улыбка. Экий комедиант! Но вскоре ей это надоело. Люди смешны не столько теми качествами, которыми обладают, сколько теми, кои тщатся выказать, не имея их.
– Мне говорили, что и у другого Бэкона, Френсиса, тоже есть сходный аргумент. Это правда?
Арман Клермон в это время тоже вышел на прогулку – устали глаза, хотелось отдохнуть. Он сразу заметил Элоди и Рэнэ на скамье в парке, и почувствовал, что в груди тоскливо сжалось сердце. Арман поспешил к мосту – но был окликнут, причём, не мадемуазель д’Эрсенвиль, а самим Рэнэ де Файолем, рассчитывавшим с его помощью выпутаться из сложного положения.
– Напомни, Арман, что общего в аргументах у обоих Бэконов – о причинах заблуждений.
Клермон, по-прежнему недоумевая о причине интереса Рэнэ де Файоля к столь далёкой от него теме, ведь тот никогда не склонен был обременять себя лишними знаниями, тем не менее, искренне попытался растолковать просимое. Все просто, заторопился он, обращаясь лишь к Рэнэ, и стараясь не смотреть на мадемуазель Элоди. Четыре, по мнению Роджера Бэкона, причины у невежества людского: доверие сомнительному авторитету, привычка, вульгарные глупости толпы и невежество, скрываемое под маской бравирующего всезнайства. Френсис же Бэкон причиной заблуждения разума считал ложные идеи – «призраки», или «идолы», четырёх видов: «призраки рода», коренящиеся в самой природе человеческого рода и связанные со стремлением человека рассматривать природу по аналогии с самим собой; «призраки пещеры», возникающие благодаря личным особенностям каждого человека; «призраки рынка», порождённые некритичным отношением к распространённым мнениям и неправильным словоупотреблением и, наконец, «призраки театра», это ложное восприятие действительности, основанное на слепой вере в авторитеты и традиционные догматические системы, сходные с обманчивым правдоподобием театральных представлений.








