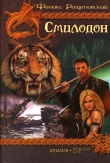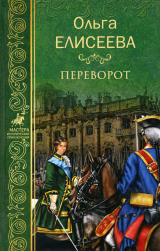
Текст книги "Переворот"
Автор книги: Ольга Елисеева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Конечно, его могли допросить с пристрастием, даже вздёрнуть на дыбу. Могли, презрев благородное происхождение, пустить в дело кнут. Разорванная губа и подбитый глаз служили доказательством серьёзных намерений правительства. Пётр уже приготовился положить живот за други своя. В караульной избе с арестанта сорвали мундир, распластали на узкой, похожей на козлы, скамье и для порядку прошлись разок по спине розгами, которые кисли здесь же, у стены, в чанах с рассолом.
В первую минуту экзекуции Пассек вцепился зубами в руку, чтоб, не дай бог, не выказать позорной слабости. Рождённый в кружевах и даже в детстве не поротый отцом, он болезненно перенёс унижение. На тыльной стороне ладони у него остался глубокий след от зубов. С годами полумесяц товарищеской верности почти изгладится. Но дамы, которых Пассек в жизни перевидает немало, будут любить целовать его именно в этот шрам.
Сейчас, покачиваясь в седле по дороге на Ораниенбаум, Пётр Богданович понимал, что допрос мог бы оказаться и гораздо строже. Собственно, никакого допроса ещё не было. Его просто привели в чувства, наглядно показав, что в тюрьме церемониться не станут. А потом дежурные заперли арестанта в карцер и пошли играть в карты, даже не выставив караула.
Между тем весть об аресте одного из заговорщиков живо разнеслась по полку, где каждый мнил себя соучастником Пассека, и солдаты предприняли попытку освободить товарища. Двое из них выломали окно и открыли перед Петром путь к бегству. И тут арестант повёл себя с несвойственной гвардейской молодёжи мудростью. Он отказался покинуть карцер, справедливо решив, что его бегство только ещё больше насторожит правительство и, быть может, подтолкнёт легкомысленного императора к действиям. Пока же августейший именинник не проявлял особого беспокойства. Это был как раз тот случай, когда промедление смерти подобно. И теперь смерть, упустив одну жертву, бежала по следу самого государя. Она приняла облик его недавнего пленника и поторапливала коня по вытоптанной просёлочной дороге, срезая добрых полторы версты до резиденции.
После четырёхчасового пешего марша государыня отдала распоряжение сделать привал в Красном Кабаке. Это место принадлежало княгине Дашковой, но господский дом, строительство которого началось в прошлом году, ещё не был готов. А потому разместиться пришлось в бойком придорожном трактире, куда вошла императрица со свитой и часть офицеров.
Солдаты и многочисленные толпы горожан, из любопытства сопровождавшие гвардию в походе, встали лагерем на поле и в редком сосняке поблизости. Предполагалось, что после утомительного дня люди, валившиеся с ног от усталости, сразу заснут. Не тут-то было. От возбуждения спать никто не мог. Гвардейцы вперемешку с зеваками сбивались в кучи у костров. Горожане доставали из корзин еду, прихваченную дома, кое-что нашлось и в трактире, и вели бесконечные разговоры о том, чему сегодня стали свидетелями. Каждый хотел говорить, у каждого было своё приключение, которое он непременно мечтал поведать соседу. Иные перебивали друг друга, иные терпеливо ждали очереди и, не дождавшись её, переходили к другому костру.
В бесконечных сумерках белой ночи их огни казались малиновыми точками. Из окна кабака было видно, как они мерцают сквозь туман. Кроме общего зала трактир имел только одну комнату, где стояла хозяйская кровать. Бросив на неё плащ, императрица опустилась без сил и похлопала рядом с собой рукой.
– Ложитесь, Катенька. Нам надо отдохнуть.
Но Дашкова желала убедиться в безопасности подруги. Она подошла к двери и слегка приоткрыла её. Так и есть, эти простофили даже не выставили караула у спальни Её Величества! Екатерина Романовна выскользнула в зал и устроила разгильдяям-офицерам взбучку. На неё поглядели как на сумасшедшую, однако спорить не стали. Зачем? Ещё разбудит императрицу.
Когда Дашкова вернулась в комнату, Като смотрела на неё тёмными глазами, которые от глубоких теней казались ещё больше.
– Вы мой маленький храбрый часовой, – сказала она. – Идите сюда. Вы слишком переживаете происходящее. Расслабьтесь.
– Но, Ваше Величество, – опешила княгиня, – на наших глазах совершается событие, величайшее со времён Петра. Как же я могу спокойно спать?
– И тем не менее, – Екатерина улыбнулась. – Величайшим из людей потребны еда и отдых. В этой дыре есть кровать. Надеюсь, найдётся и молоко с хлебом.
Императрица постучала кулаком по деревянной стене. Из соседней комнаты тотчас явился Орлов и, выслушав её распоряжение на счёт «чего-нибудь съестного», немедля удалился. Через несколько минут он вернулся, таща за шиворот трактирщика, а тот в свою очередь нёс поднос с ржаным кругляшом и глиняной крынкой молока. «Не изволите гневаться, – повторял он. – Чем бог послал!» Екатерина милостивым жестом отпустила его, мол, ступай, братец, никто не гневается. А Гришану указала на колченогий стул у кровати, что крайне не понравилось Дашковой. Та приподнялась на локтях и прокурорским взглядом уставилась на парочку, которая совсем по-домашнему устроилась бок о бок и преломила хлеб.
– Катюша, присоединяйтесь, – поманила императрица подругу. – Вы голодны, я вижу.
Дашкова не посмела отказаться. Взяла кусок хлеба, по-свойски отломленный ей Гришаном, и осторожно обмакнула его в молоко. Оно было парным, только что из-под коровы, и невыносимо воняло хлевом. Княгиня подержала его во рту и поняла, что не сможет проглотить. Поскольку государыня и Орлов больше не обращали на неё внимания, Дашкова потихоньку выскользнула из комнаты на улицу.
Её поражало спокойствие Екатерины, даже беспечность, с которой та переживала самую, быть может, блестящую страницу своей жизни. Сердце молодой амазонки жаждало римского триумфа и римских же гражданских страстей – игры на театре патриотических добродетелей. Это было нелегко с такими мужланами, как Орловы. Но оказалось, и её подруга решительно не годилась на роль Камиллы, предводительницы вольсков. В момент наивысшего взлёта своей судьбы она рассуждала о булочках с маслом!
Молодая дама даже не желала думать, какие отношения связывают императрицу с Орловым. Хотя, конечно, в глубине души догадывалась и негодовала на Като за трагическое несоответствие роли.
Когда Екатерина Романовна вернулась в комнату, Като глубоко спала. Или делала вид, что спит, избегая долгих разговоров. Это тоже задело Дашкову. Она-то надеялась, что едва подруги останутся наедине, как примутся обсуждать планы неотложных государственных преобразований. Вместо этого Екатерина лежала тихо и покойно, она разоспалась и на младенческой коже щёк маковым цветом алел румянец. Като была такой желанной и такой близкой в этот момент, что княгиня испытала мгновенную потребность поцеловать подругу прямо в эту раскрасневшуюся щёку. Но немедленно устыдилась своего порыва и, опустившись перед кроватью на колени, стала орошать свесившуюся ладонь императрицы слезами.
– Боже мой, княгиня, да уймитесь же! – взмолилась Като. – Я понимаю, дитя моё, вы устали и переволновались. Но дайте же и мне покой!
– Ваше Величество сердится на меня за невольное проявление чувств, – пролепетала Дашкова. – Но уверяю вас, они чисты, как эти слёзы. Я готова умереть за вас, и если вам понадобится грудь вернейшей из ваших сторонниц, чтоб подставить её под удар предательского кинжала, то вот она! – С этими словами Екатерина Романовна порывисто потянула за ворот рубашки. – Умоляю, примите мою жертву.
– У вас красивая грудь, княгиня, – сухо сказала императрица, будничностью тона возвращая подругу на землю. – Но я менее всего подхожу на роль Сафо.
Тонкий захлебывающийся звук трубы пролетел над плацем и стих, словно горнист раздумал играть сбор. Этот тревожный сигнал заставил сержанта Шванвича выглянуть в окно казармы и с неудовольствием окинуть глазом пустынную площадь.
В Ораниенбауме было всё, как любил Пётр: никаких клумб и изящно подстриженных кустарников. Гранит булыжника, размеченный жёлтой краской для разводов и экзерциций. Лишь у полукруглого крыльца, как уступка барочным вкусам тётки Эльзы, две пирамидальные жимолости да два шара лавра, а между ними узкие полоски цветников с красными, как кровь, гиацинтами.
На крыльце стояли адъютант Сиверс и горнист из первой роты Ганс Клюнке. Лица у обоих были растерянные. Сиверс что-то требовал. Горнист разводил руками: мол, не могу играть тревогу без приказа императора, сам запретил.
– Ну так играй побудку! Сбор! Построение! – раздражённо закричал адъютант. – Что-нибудь! Остолоп, ей-богу!
Клюнке вновь приложил трубу к губам. На этот раз звук из неё вышел, словно поперхнувшись, с длинным неприятным треском, похожим на бурчание живота или ещё менее почтенный выхлоп газов.
Шванвич почесал в затылке, взял со стула у кровати ремень, одёрнул мундир и пошёл на улицу справиться, что стряслось. В честь именин императора он получил отпуск на трое суток и намеревался съездить в столицу навестить семью. За годы жизни в Петербурге Шванвич не обрусел ни на йоту, хотя крестился в православии и носил русское имя Александр Мартынович. Он женился на шведке-лютеранке и сыну пока позволял посещать кирху на Васильевском острове. Пойдёт служить, сам выберет, что ему лучше, а пока пусть останется в вере предков. При нынешнем-то государе православных не слишком жалуют. Может, он, Шванвич, и поторопился со сменой исповедания. А всё отец: считал, что с такой крёстной матерью, как Елизавета Петровна, его сын быстро пойдёт в гору. Какой там! Мало ли солдатских детей крестила эта толстомясая молочница?
Впрочем, здесь, в голштинском полку, Шванвича приветили, и он делал успешную карьеру. Вчера капрал, сегодня он носил уже сержантские нашивки. Государь его весьма отличал. Огромного роста и невероятной силы швед казался Петру воплощением истинного германца: солдат, завоеватель, повелитель. Императора так восхищал этот образ, что он на каждом смотру ставил Шванвича в пример другим и даже приглашал на пирушки в «узком кругу». Низкое происхождение сержанта его не смущало. Пётр пивал и с лакеями.
Нет, положительно, сейчас Александру Мартыновичу шла карта в руки. Сегодня он собирался вручить жене серебряный подсвечник и две десертные позолоченные ложечки, потихоньку вынесенные им с одной из таких вечеринок. Его сын вырастет в обеспеченной семье. Будущее рисовалось Шванвичу хоть и не безоблачным, но по крайней мере сытым и с мало-мальской надеждой выбиться в люди.
Вразвалочку пройдя по плацу и всем видом демонстрируя, что сегодня он не на службе, сержант приблизился к Сиверсу.
– Какие новости? – лениво осведомился он.
– Какие новости?! Какие новости?! – почему-то заорал адъютант. – Вы тут спите, а императрица сбежала! Вчера утром! Через окно! Государь приехал, а её нет как нет! Её теперь разъезды по всем дорогам ищут!
Шванвича разобрал смех.
– Нашли кого искать, – фыркнул он. – Разве государю не всё равно? Он же собирался с ней развестись. Лизка Воронцова небось на месте.
– Дурень, – не выдержал Сиверс. – Все вы тут дураки! Она улизнула в Петербург, поднимать мятеж. Весь город набит её сторонниками, как форшмак чесноком. Эти русские не хотят видеть Питера Ульриха своим царём. И никогда не хотели! И нас здесь не хотят! Нас полторы тысячи, а гвардейцев в городе до тридцати. Нас разорвут! Будут из спины ремни резать! Жиром сапоги смазывать! Ты разве не знаешь этих свиней?
– Я-то знаю, – задумчиво протянул Мартыныч. – Твоя правда, да только ведь и государь может податься в Кронштадт. Оттуда на корабле к армии. Она ещё не вся выведена из Пруссии. Там Фридрих ему поможет. Да и столица – не вся Россия. Если Питер Ульрих доберётся до Москвы и тамошнее дворянство изъявит ему верность, то мятеж на севере не будет стоить и кошачьего чиха.
– Но пока-то мы здесь! – Сиверс уже сорвал голос и продолжал возмущаться не так яростно. – Да и что ты мне толкуешь? Меня прислали с приказом собрать полк, двигаться в Петергоф и занять позиции в зверинце. Это единственное укреплённое место...
Шванвич опять расхохотался.
– Вот вас там всех и перестреляют, как диких зверей.
– Вас? – не понял адъютант. – А ты разве не пойдёшь с нами?
– У меня трёхдневный отпуск. – Швед пожевал травинку и сплюнул.
– Какой отпуск? – не поверил своим ушам Сиверс. – В городе переворот, мы солдаты.
– Наёмные, – уточнил Мартыныч. – Значит, имеем право и на отпуск, и на жалованье, в отличие от рекрут. А где оно, наше жалование? За два месяца не плачено.
– Ты с ума сошёл, – поразился адъютант. – Ты что же, вот так просто возьмёшь и поедешь в город к семье?
– Нет, – Шванвич потянулся. – В город я, пожалуй, не поеду. Там сейчас иностранцам небезопасно. Останусь здесь. И вам советую. Что наши полторы тысячи против гвардии? Плевок в ведре с водой. А если вы окажите русским сопротивление, то они по злобе действительно могут обойтись с нами круто. Важно сразу же вступить в переговоры и предложить сдачу на условиях сохранения жизни и личной безопасности. Думаю, их офицеры сумеют удержать солдат от насилия.
– Но... но это предательство, – выдохнул адъютант. – Мы обязаны сохранять верность присяге. Наш несчастный император взывает к нам о помощи...
– А ты построй всех на плацу и спроси, что они выберут: моё предательство или твою верность? Повторяю: мы наёмники. Нам дела нет до бед хозяина. Есть деньги – воюем. Кончились – не рассчитывай на верность. Тем более, когда удача отвернулась.
Сиверс махнул рукой, всем видом показывая, что больше не желает говорить с сержантом. Поднятые сигналом трубы на плац уже спешили голштинцы. Они выстроились в каре перед дворцом, одёргивая мундиры и поправляя пояса. Речь адъютанта была короткой. В полку служили не только немцы, но и шведы, лифляндцы, выходцы из Курляндии и Польши. Не все хорошо понимали по-немецки. В рубленых, но сильных выражениях Сиверс рассказал им о случившемся и потребовал немедля подчиниться приказу.
На мгновение над площадью повисла тишина, а потом все заговорили разом. Одни, в основном природные голштинцы, требовали идти на помощь императору. Другие возражали, что не обязаны рисковать ради глупца, настроившего против себя русских и подставившего их, ни в чём не повинных иностранных наёмников, под удар.
Как и предполагал Шванвич, немного нашлось охотников идти в Петергоф и защищать зверинец. В самом выборе этой позиции для большинства было что-то оскорбительное. «Русские затравят нас, как медведей, – возмущались они. – Нам следовало бы поспешить на выручку к своим семьям в Петербург...» Но и на это решились немногие.
Когда Шванвич наблюдал, как две роты голштинцев, составившиеся из наиболее верных и отчаянных сторонников Петра, покидают Ораниенбаум, он насвистывал под нос арию из комической оперы «Нанетта, или Торжество слепого случая»:
Ах, напрасно, ах, напрасно
Я венчаться собралась!
Сам он не собирался ни в резиденцию, ни в город. Если с его Мартой, женщиной скаредной и рано увядшей, случится недоброе, то муж вряд ли будет долго жалеть. Что же до сына, то русские обычно жалостливы к детям и не задавят «волчонка». Собственная шкура беспокоила Шванвича куда больше. У него было немало знакомцев в гвардии, и он рассчитывал первым вступить в переговоры с кем-то из офицеров, когда части мятежников займут Ораниенбаум. Сейчас его интересовал другой вопрос: в резиденции паника, дворец почти пуст. Если он пройдётся по комнатам в поисках законной добычи мародёра, никто даже не обратит на это внимания. Мундир послужит ему лучшей защитой.
Пока дураки решают, спешить ли на помощь к императору, умные люди делают состояние. И речь должна идти уже не о подсвечниках...
Александр Мартынович преспокойно обогнул дворец и вошёл в него не через парадный вход, а со стороны караулки, что, естественно, не вызвало ни малейших подозрений. Потом он миновал узкий коридор, отделявший помещение для дежурных офицеров отличных покоев императорской четы. Спальня государя его не привлекала, там у Петра Фёдоровича всё было по-солдатски. Даже с роскошной елизаветинской кровати он приказал снять пуховики и почивал на голых досках, покрытых шинельным сукном. Комната императрицы тоже не могла похвастаться роскошью убранства. Её Величество отличалась бюргерским практицизмом и не чувствовала себя по-домашнему среди хрусталя и позолоченной бронзы.
Зато покои, отведённые фаворитке Воронцовой, соединяли тонкий парижский шик с самыми варварскими представлениями о богатстве. Именно там Шванвич намеревался найти немало ценных безделушек, а может быть, и спрятанные драгоценности графини. Пётр дарил ей много и без разбору. Случалось, насыпал в стакан жемчуга и на ложке протягивал дамам. Та, что решалась проглотить белый шарик, получала его в подарок. В этом жесте было заключено грубое бесстыдство императора. Воронцова глотала всегда, и из полученных ею жемчугов уже получились тяжёлое колье, серьги и диадема о двадцати камнях. Все они, прежде чем украсить чело возлюбленной государя, побывали у неё в толстой кишке и вышли через задний проход. Это особенно забавляло Петра, и он беспрестанно рассказывал о сём конфузе, а Лизка хохотала, не считая себе за бесчестье.
Шванвич тоже не почёл бы бесчестьем похитить камни подобной судьбы. Ведь украшения, созданные из них знаменитым Позье, считались шедеврами ювелирного искусства. Но на столе Елизаветы швед нашёл лишь две алмазные булавки в виде бантов да гранатовую бутоньерку. И то хлеб, решил Мартыныч. Он без церемоний вскрыл ножом ящики итальянского комода, каждый из которых исполнял свою мелодию. В двух нижних лежало бельё. Шёлковое, лионское, с дорогим золотистым кружевом павлиний глаз. Если б была возможность вынести отсюда увесистый тюк, то коллекция ночных сорочек императорской пассии стоила не дешевле диадемы.
Дальше шли ленты, гребни, сетки для волос. Склянки с тяжёлыми пряными ароматами. Нюхательные соли от мигрени. И вот наконец глазам взломщика открылась индийская шкатулка чёрного дерева с инкрустацией из слоновой кости. Замок, естественно, не поддавался. Пришлось попотеть, прежде чем Александр Мартынович справился с ним. Нож был отброшен, в ход пошла кочерга. Каково же было разочарование вора, когда внутри обнаружились не перстни и ожерелья, а какие-то плотные, желтоватые листы, исписанные по-русски. Возможно, эти вещи имели для владельцев какую-то ценность, но для него были абсолютно бесполезны. Шванвич бросил бумаги на пол и продолжал рыться в ящиках, пока не набил карманы порядочным числом «безделушек», тысячи так на три.
Эти находки утешили душу алчного шведа. Если ему удастся благополучно вынести их из дворца, спрятать, а потом сбыть, его военная карьера будет окончена. Шванвичу уже никогда не придётся вскакивать на рассвете со звуком трубы, исполнять чужие приказы, чертыхаться при каждой недоплате жалованья и выслушивать попрёки жены. Пожалуй, с такими деньгами он сможет позволить себе совсем другую жену... Но главное – он купит что-нибудь доходное. Возможно, стекольный завод в Стрельне. Возможно, пару купеческих кораблей для перевозки парусины в Англию. А может статься, дорогую ресторацию на Невском – с несколькими отдельными залами и меблированными комнатами в верхних этажах, которые будут гостиницей для богатых иностранцев.
Швед так размечтался, что только сигнал горна вернул его к реальности. Он поспешно запихнул награбленное в карманы, ссыпал мелочь в раструбы сапог и подбежал к окну. В резиденцию вступали конногвардейские эскадроны. Они быстро заняли плац. Голштинцы, как и следовало ожидать, не оказали никакого сопротивления. Солдаты в синих мундирах толпами сдавались победителям, не сделавшим ни единого выстрела.
Шванвич запаниковал. Путь отступления через караулку оказался отрезан. Выбраться из дворца по одному из чёрных ходов и сразу попасть в сад казалось несложным. Но перейти из личных покоев государя в служебные помещения можно было, только миновав парадную лестницу, а на ней уже толкались конногвардейцы.
Мартыныч заметался, ища спасения в просторной гардеробной Воронцовой. Оттуда выскользнул в будуар, нашёл дверь на чёрную деревянную лестницу, соединявшую крошечную столовую фаворитки прямо с буфетной – дама любила покушать, – и наконец очутился на кухне, среди печей и медных кастрюль внушительного размера. Здесь не было ни поваров, ни кофешенков, распоряжавшихся подготовкой императорской трапезы. Остались недочищенные рыбины на столах, белужий бок, пучки зелени, рыжие головки твёрдых пражских сыров, на доске остро благоухал мелко порубленный чеснок.
Приоткрытая дверь вела сразу в небольшой дворик, где на плетне совсем по-деревенски сушились горшки. Александр Мартынович непременно выбрался бы отсюда, если б несколько конногвардейских солдат, оголодавших за дорогу, не отправились бы на кухню искать съестное и выпивку. Они наткнулись на Шванвича случайно и тут же повязали его, полагая, что этот голштинец, тайком выбирающийся из дому, не кто иной, как императорский шпион. При аресте «злодея» обыскали, вытряхнули на грязный кухонный стол содержимое его карманов, сапог и обшлагов мундира. Весьма подивились количеству награбленного и, решив, что перед ними вор, послали одного из товарищей за командиром.
Пассек явился не один, а в компании гетмана Разумовского. Как оказалось, тот почитал для себя зазорным не принять участия в охоте на императора и нагнал эскадроны у самого Ораниенбаума.
– Э-э, да ты, брат, ворюга! – беззлобно рассмеялся Кирилл Григорьевич. – Сколько золотишка натащил! А знаешь, что в старину за такие проделки руки рубили?
Шванвич не знал, но мог предположить.
– Дай теперь тебя никто по головке не погладит. Разве что по лбу калёными клещами. Выжгут тебе слово «вор» на челе и на щеках, век бриться не будешь. И потопаешь в кандалах до Кеми. Во как.
Александр Мартынович всё ещё не верил, что столь блестяще начавшееся предприятие закончилось трагически. Он повалился гетману в ноги, стал молить о снисхождении, ссылаться на неуплату жалованья и якобы голодающую жену с младенцами.
– Ври, ври, – оборвал его Разумовский. – Это вам-то, голштинцам, не платят? На два месяца задержали деньги, и вы уже отказываетесь защищать своего же государя? Такого же Ганса, как вы? Дрянь-люди.
Он смачно и простонародно харкнул на пол. Иногда Кирилл Григорьевич к месту вспоминал, что родился простым свинопасом.
Пассек тем временем молчал и мрачно рассматривал груду золотых побрякушек на столе.
– Возможно, это принадлежит Её Величеству, – наконец сказал он. – Надобно вернуть в царицыну опочивальню, а у двери выставить охрану. – С этими словами он вытряхнул на пол лук из корзины, сгрёб в неё награбленное и, сделав знак двум конногвардейцам следовать за собой, двинулся по чёрной лестнице в жилые покои.
Шванвич и Разумовский остались наедине. Гетман, конечно, был мужчина крепкий и, по всему видно, не слабый в драке. Но против такого испытанного бойца, как Мартыныч, не тянул. Гроза и гордость питерских кабаков уложил бы хохла одним рассчитанным ударом в ухо и дал бы деру через вожделенную дверь во двор. Но, как назло, возле неё тёрся с десяток конногвардейцев, которых притягивало волшебное слово «кухня», как блестящая пуговица притягивает ворон. От разграбления славных ораниенбаумских погребов их удерживало только присутствие гетмана.
Однако в помещении Разумовский и Шванвич были с глазу на глаз.
– А что, братец, не хочешь на каторгу? – Кирилл Григорьевич зачерпнул из стоявшего на подоконнике лукошка жареных семечек и, немало не смущаясь, начал лущить их, сплёвывая на пол. – Прямо жаль такого силача, как ты, гробить. Экие у тебя ручищи, грабли, а не ручищи. Скажи-ка, болезный, а ты ими быку голову не сворачивал?
– Случалось, – мрачно пробасил швед. – Не с тверёзых глаз, конечно, и не племенному. Так, деревенского завалил.
– Ай, ай, ай, какая силища! – зацокал языком гетман, продолжая хитро оглядывать Шванвича. – А, например, случалось ли тебе не быку шею сворачивать, а какой скотине похлипче? Двуногой?
– Курице, что ли? – Александр Мартынович был смышлён и с первой минуты догадался, куда клонит собеседник.
– И кухарка курице голову рубит, – Кирилл Григорьевич стряхнул шелуху с колен. – Думаю, ты меня отлично понял.
– Поняла девка, что замуж зовут, а наутро повесилась, – отвечал Шванвич. – Вы скажите толком, чего вам надобно, а уж мы расстараемся.
– Ты уж постарайся, братец, – бросил гетман. – Для себя ведь, не для дяди. Ты мне заломаешь одного бычка-переростка, а я сумею тебя от суда-следствия избавить и сыскать тебе доходную службу у себя на Украине в Глухове. Будешь жить, вишни горстями жрать, а о сегодняшнем происшествии помалкивать. Не то ждёт тебя, сокол, Сибирь-матушка, рудник-батюшка. Бессрочная каторга.
Шванвич почесал затылок.
– А какая служба?
– Интендантская, – живо откликнулся Разумовский.
«Что-то уж больно мягко стелет, – подумал швед. – Кого бы это ему понадобилось уходить?»
Гетман продолжал улыбаться, но взгляд его оставался цепким и колючим.
– Ну так как?
– Согласен. Отчего нет? – пожал саженными плечами Мартыныч. – Назовите скотину свою двуногую.
– Э нет, братец, – хмыкнул Кирилл Григорьевич. – Это тебе скажут, когда следует. А пока помни: сделаешь – молодец. Сплохуешь – пеняй на себя. Сгною.
Шванвич кивнул: умно, да только что ему теперь-то делать?
– Сейчас тебя, как и всех голштинцев, уведут в крепость Петерштадт и посадят там под арест, – отозвался гетман, угадав мысли собеседника. – Там ты останешься до тех пор, пока за тобой, лично за тобой, не приедут и не заберут. А по окончании нашего дела вновь вернут на прежнее место и освободят только вместе с остальными товарищами. Так будет надёжнее. Никто на тебя не подумает. Больше недели вы всё равно не просидите под замком. Государыня милостива, у неё уже сейчас заготовлен манифест о прощении.
«Вдвойне умно, – согласился Шванвич. У него вырисовывалось неплохое алиби. – Сидел в крепости, значит – непричастен».
– Я всё сделаю так, как приказывает ваша светлость, – швед поклонился. – Мне, в сущности, всё равно кого. В драках всякое бывало. Только уж и вы не забудьте своих слов. У меня ведь жена, сын. Не хочу я для них арестантского дома.
Когда надо, Александр Мартынович умел слёзно вспоминать о семье. Но его излияния слабо волновали гетмана. Тот встал и сделал толпившимся у двери гвардейцам знак.
– Забирайте эту голштинскую сволочь и к остальным, – лениво бросил он.
На улице Шванвич увидел ряды своих пленных товарищей, которых довольно грубо – с пинками и насмешками – гнали от дворца через парк на луг, где возвышалась игрушечная крепость. Голштинцы так часто штурмовали её невысокие бастионы, знали каждый клочок земли, каждое мало-мальски важное укрепление. Им никогда не приходило в голову, что эта потешная цитадель в один прекрасный день станет для них тюрьмой.
Многие плакали, спрашивали друг друга, что с ними теперь будет, боялись мести русских. Шванвич и не подумал ободрить товарищей известием, что новая царица уже подписала манифесте помиловании. Зачем? Услышат, станут спрашивать, откуда он знает. Начнут подозревать. А для дела, на которое подталкивал его Разумовский, это лишнее.