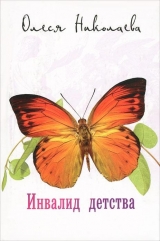
Текст книги "Инвалид детства"
Автор книги: Олеся Николаева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
– А гусыня-то моя – как теперь будет без хозяина-то? – не унималась бабка.
– А вот одна-то тут за телку свою ходила просить к Николе Угоднику, – начала Пелагея, – все просила, чтоб исцелил телку-то. А та все хиреет да хиреет. Ну эта бабка пришла к нему, наконец, да сказанула: все я тебе, Никола, и свечки ставила, и молебны заказывала, и поклоны ложила, и слезы перед тобой лила, потому как телка у меня единственная. А ты что же? Не буду больше тебе во веки молиться, буду отныне Михаила Архангела ублажать! Махнула на него рукой и пошла домой. Приходит, значит, а телка ее – здоровехонькая. Видать откликнулся все-таки Никола, помог ей. Может, помолимся ему за гусака-то?
Ирина судорожно собирала «подробности» – узкие туфельки, тетрадку с фольклорными новинками, шелковый халат с кистями.
– Не отчаивайтесь, – она погладила Нехучу по плечу, – все будет хорошо. Все еще будет просто прекрасно! Вот, может, этого хватит гусыне вашей на приданое? – Она вложила ей в руку новенькую сторублевку и чмокнула бабку в сморщенную провалившуюся щеку.
– Прощайте! – она обняла Пелагею и поцеловала не успевшего отмахнуться монаха. – И вы не горюйте! У жизни так всего много! – У самой двери она вдруг оглянулась: – Приезжайте в Москву! Я вас буду принимать, как в лучших домах Европы! Вперед, Александр! – скомандовала она.
Машина взвыла, буксуя на месте, и внезапно сорвалась, подскакивая по бугристой дороге, но вдруг резко затормозила, уже на остановившихся колесах проехала юзом несколько метров, лихо развернулась и ринулась обратно.
– Пелагея! – вздохнул Лёнюшка, затягивая резинкой длинные влажные волосы. —Чаю-то поставь! А то на службу скоро.
– Совсем забыла! – крикнула Ирина, распахивая дверь ногой и вытаскивая на ходу из сумки халат с кистями и зеленым драконом. – Это вам, – она протянула его бабке, которая уже сидела на привычном месте.
– Не хучу!
– Берите, берите, он совершенно чистый, почти новый, из настоящего японского шелка. И вам подойдет – скромный, строгий, до самого пола!
– А это вам, – она вложила ошеломленной Пелагее в руку баночку с кремом. – Он совершенно, совершенно божественный! Впитывается моментально, кожа после него блестит и становится просто бархатной, все морщины как рукой снимает, просто – вечная молодость!
– А мне что? – обиженно затянул Лёнюшка.
– А вам, вам... – Ирина порылась в сумке.
– Ах, мне же шарфик! – вдруг вспомнил монах, расплываясь в детской улыбке.
– Послушай, – перебила его Пелагея, – вспомнила, вспомнила, как фамилия отца Дионисия, – Бархатный! – И повторила с удовольствием: Бархатный!
– Письма за меня теперь писать некому, – вздохнул Лёнюшка, – Александр твой уезжает, так что ты не обидишься, если я тебя прямо сейчас с Рождеством поздравлю?
Он порылся в стопке надписанных конвертов и вытащил оттуда блестящую фотографию: ель, щедро покрытая снегом, розовые пухленькие херувимчики, держащие на весу часы, показывающие двенадцать, круглоглазые овца и телок, заглядывающие в убогие ясли, где склонились благоговейно над утлой люлькой с Божественным Страшным Младенцем Пречистая Дева Мария и сгорбленный старец Иосиф.
– Самую красивую для тебя выбрал, – просиял Лёнюшка.
Через всю открытку, наподобие гирлянды, растянулись буквы: «С Р о ж д е с т в о м Х р и с т о в ы м!»
– Скорее! Скорее! – торопил Саша Ирину на бегу, влетая в церковный домик.
– Куда! – грозно уперев руки в боки, остановила его старостиха.
– Ах, мать Екатерина! Пустите меня! Меня забирают! – закричал он и, пронырнув под ее рукой, ворвался в крошечную гостиную.
– Стой! – она схватила его за шиворот. – Батюшка отдыхает – с вычитки только-только вернулся. А Таврион еще в церкви.
– Отец Иероним! Отец Иероним! – надрывно завопил Саша. – Отец Иероним!
Дверь кельи отворилась, и старец шагнул в гостиную. Саша бросился к нему и заплакал навзрыд. Ирина встала на пороге, перегороженном мощной фигурой Екатерины.
– Отец Иероним! Не забывайте меня! – рыдал Саша, совсем по-детски всхлипывая и размазывая по лицу слезы. – Мне так плохо, так бессмысленно все без вас! Не отпускайте, не отдавайте меня!
Старец обнял его за плечи.
Ирина вдруг почувствовала, как ком подкатывает у нее к горлу. Она рванулась, чтобы обнять Сашу, повернуть его голову к себе и, глядя в жалкое, мальчишеское, смешное в этой дурашливой бороденке лицо, искаженное недетским страданьем, сказать: «Оставайся! Оставайся в этом голубом хитоне, с этой длинной свечой, с этой огромной книгой! Жизнь слишком страшна, чтобы позволить себе еще и разлуку с тем, кого любит сердце!» Но Екатерина шикнула на нее:
– Куда!
И Ирина осталась на месте. Она почувствовала, как безудержная волна ударила ей в лицо, заливая глаза мутным потоком. Ей показалось, что это какая-то апоплексия, инсульт, конец, и прежде чем она поняла, что плачет, слезы уже смывали ее лицо, текли по подбородку, капали за воротник.
– Чадо, – ласково произнес старец, – разве расстояние имеет какое-нибудь значение для тех, кого Сам Господь соединяет в едином Духе? И разве Он, победивший мир, смерть и самого дьявола, не одолеет все наши беды, горести и напасти?
Ирина повернула голову и увидела Тавриона, который неслышно вошел в узкие сенцы.
– Плачет? – спросил он у Ирины, прячущей лицо в ладонь.
Она кивнула.
– Я тоже плакал, когда уезжал отсюда впервые.
Ирина вышла на воздух и встала около единственного росшего у церковного домика грушевого дерева – витиевато-ветвистого, узловатого, обросшего снегом. Она в последний раз оглядела белую церковь с голубым куполом и золотым крестом, попирающим опрокинутый полумесяц. Ветер утих. Улеглась поземка плавными линиями наметенных небольших сугробов и пышной пороши. Груша смирно выглядывала из-под снега, словно боясь неловким движеньем стряхнуть с себя, скинуть, сдуть ненароком свое не по чину великолепное сверкающее облаченье.
– Рублик-то накиньте! – сказал шофер, обращаясь к Ирине. – Столько-то ждать!
До поезда оставалось еще три четверти часа, и Ирина, ринувшаяся было к ресторану, махнула рукой и поставила сумку на подоконник. Саша следовал за ней покорной страдальческой тенью.
– Тетенька уезжаете? А мне вот какие гостинчики у отца Иеронима понадарили!
Вчерашний мальчик с лицом дауна распахнул перед Ириной дипломат, хвастливо постукивая его по крышке, и стал показывать монашеские подарки.
– Тут все, – говорил он, захлебываясь от счастья, и носочки, и рукавицы, и иконки, и просфорки, и домашнее грушевое варенье – матушка старостиха расщедрилась. А ручка вон какая – с золотом! От отца Анатолия!
Ирина увидела свой фломастер для этнографических заметок.
– А вон какие картинки красивые! – он повертел у нее перед носом двумя новенькими колодами карт.
– Это кто же тебе подарил? Тоже монахи? – удивилась она.
– Не, то тетенька одна добренькая – на, говорит, сиротка, поиграйся на счастье! Вишь, какие красивенькие! Атласные! – Он причмокнул от удовольствия и приложил их к щекам.
– Это все ерунда! – сказала она решительно и, краем глаза поглядывая на Александра, добавила: – Чертовская музыка! Это надо разорвать на мелкие кусочки!
– Тетенька! – захныкал мальчик, видя, как она распатронивает глянцевые пачки. – Отдайте! Красота-то какая! Особенно вон те – с крестиками, с сердечками!
Ирина отстранила его властной рукой и, шагнув к урне, стала усердно рвать на куски неподатливые картонки.
– Тетенька! – все громче плакал мальчик. – Хоть одну оставьте, с офицером! – Он оглядел вокзальную публику, истомленную многочасовой бессюжетностью и потому с нескрываемым интересом и даже напряжением следившую за этой динамичной драматической картиной, и заорал, впрочем, как-то вяло и обреченно: – Бедного сироту обижают!
– Пли! – победоносно воскликнула Ирина, высоко подкидывая над урной разноцветные тверденькие бумажки, и, кивком приглашая за собой вдруг повеселевшего Сашу, гордо продефилировала на перрон под мысленную овацию оживившейся публики и призывные гудки растянувшегося по вагонам ночного пространства.
В купе уже ехало двое приятных молодых людей. Увидев Ирину и Александра, они принялись сконфуженно убирать початую бутылку шампанского, но Ирина остановила их:
– Ну что вы – продолжайте ваш пир! Я не ханжа.
Они пригласили ее к столу, и она, из чувства демократизма, которое еще более укрепилось в ней за последние два дня, не отказалась выпить с ними бокал. Молодые люди оказались реставраторами.
Ирина значительно посмотрела на сына:
– Вот бы отцу Иконописцу было интересно с ними познакомиться!
Саша усмехнулся и вышел в коридор.
Он смотрел в темное окно, в котором поначалу ничего не было видно, кроме его собственного смутного отраженья. А потом постепенно поплыли, поплыли – отец Иероним и отец Таврион, оба смотрящие ему вслед и машущие с порога; Ванечка Иго-го, вцепившийся в его сумку и пожелавший сам лично дотащить ее до машины, а потом поклонившийся ему со слезами и благоговейно поцеловавший в плечо; отец Дионисий, торопящийся на службу, мимоходом хватающий его за рукав и заключающий в свои крепкие объятья:
– Ну, сокрушитель демонов, покидаешь нас? Как же мы теперь будем жить без твоих разоблачительных обличений?
– Не знаю, как вы, а вот я, – сказал Саша, – без ваших обличительных разоблачений просто пропаду!
– Но почему, почему? – что-то вдруг запищало в нем. – За что? За что? – рассыпалось под колесами. – Зачем? Зачем? – подхватил встречный товарняк.
– А вот когда за преподобным Феодосием, молодым подвижником Киево-Печерским, приезжала мать, то ведь святой Антоний защитил его, спрятал: что же твой-то старец выдал тебя, а, Александр? – ласково спросил его вкрадчивый тоненький голос.
– Отец Иероним! – что-то оборвалось в нем и рухнуло под откос. – Ведь когда преподобный Феодосий, то ведь святой Антоний, а вы-то что?..
Тьма обволокла его, и небо, казалось, навсегда перестало рождать звезды.
– У каждого, дитя мое, свой путь и свой крест, – кротко и неторопливо отозвался откуда-то отец Иероним, совсем так же, как три часа назад на пороге своей кельи. – Ты все допытывался, как узнать волю Божью, а она тебе и открылась. Поезжай с матерью, ты ей сейчас нужен. Будь с ней ласков, великодушен, будь кроток. Не забывай, что тебе ее поручил Господь. Ты ведь хотел стать монахом? Вот тебе и первое послушание. А что такое послушание для монашеской жизни? Основа основ, начало и конец. Помнишь, как говорили святые отцы: послушание превыше постов и молитв. Господь с тобой! – старец долго и внимательно посмотрел на него и, осенив широким крестом знамением, прижал к своей пропахшей воском и ладаном старенькой рясе.
И Саше вдруг стало так жутко, жарко, страшно, будто призвали его на торжественное какое-то, великое дело, а он тут все мешкает, все медлит, все сомневается, крепко держась за поручень и прижимая лоб к ледяному стеклу. Страстная жажда подвигов охватила его, сладость предвкушаемых унижений, ликование от собственного видимого поражения вскружила голову, и ему захотелось вдруг, чтобы тут же, немедленно окружили его плотным кольцом мучители – и понесли бы его, и оплевывали, и даже били, а он бы посмотрел на них с кроткою, счастливой улыбкой, повторяя: «Господи, прости им! Ибо не ведают, что творят!»
– Знаете, – Ирина оживленно рассказывала симпатичным попутчикам, – мы едем сейчас из такого удивительного заповедного места! – Она слишком долго молчала в машине, чтобы сейчас удержаться от соблазна завязать непринужденный и изящный разговор. – Я даже везу оттуда кое-какие заметки. Это совершенно неисследованный таинственный мир. Там есть и одержимые демонами, которые кричат страшными звериными голосами и несут всякую галиматью, а есть и очень тонкие люди, способные оценить и красоту, и искусство, и, между прочим, никакие не ортодоксы, не иезуиты, – спорщики, ерники, – словом, совершенно дивные собеседники! Они могут быть и светскими, и обходительными, могут и поиронизировать над отпущенной им в этом мире ролью... Кстати, я могу прочитать кое-что из моих путевых заметок.
Она раскрыла тетрадь.
– Вот, например: «Инвалид детства, пренебрегнутый родительским попечением, моется в бане, которая, возможно, не без злого умысла желающих избавиться от него родителей, загорается. Больной мальчик (гермафродит) видит в возбужденном воображении образ Девы Марии, выводящей его из пламени. И потому является к родителям как бы воскресший. Те замирают в мистическом ужасе».
Реставраторы восторженно кивали и улыбались. Потом сбегали в вагон-ресторан за новым шампанским, пили за Иринин литературный талант, ум, красоту, взяли телефон, обещали приехать с корзиной цветов и ведром коньяка, и Ирина уснула, упоенная жизнью, крепко сжимая в руке цепочку креста, подаренного старцем Иеронимом.
Ей снилась чепуха и всякая всячина – важный кособокий Лёнюшка с полковничьими погонами; Лиля Брик со светлыми, длинными, падающими на лицо волосами, которые она то и дело отбрасывала движением головы и жеманно говорила: «Не хучу!»; какие-то лошади, лошади, которые мчались по зимним полям табунами. А потом неожиданно грянул туш. Пошел белый снег, и на него стали выходить монахи в черном. Они выстраивались, как на параде, и, наконец, сомкнувши ряды, стали поздравлять и благодарить Ирину за то, что у них теперь все так хорошо, так чудесно устроилось и им разрешили наконец-то жениться на таких вот тонких, всепонимающих и очаровательных женщинах.
1988








