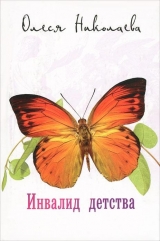
Текст книги "Инвалид детства"
Автор книги: Олеся Николаева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Ты чегой-то, Татьяна, а? – заволновался Лёнюшка. – Порченая, что ль?
– А вот мы сейчас и проверим – мужик ты или баба! – захохотала она, хватая его за подрясник.
Ровно в час пополудни Ирина, скромно подретушированная – «так, чтобы только украсить их праздник» – и немного взбодрившая себя парой глотков коньяка из плоской фляги, которую она на всякий случай всегда носила с собой – «так только, чтобы снять напряжение, для куражу», – в черном простом, но дорогом и изысканном платье, препоясанном искусно сплетенным вервием; с прядью, как бы невзначай спустившейся вдоль щеки к узкому египетскому подбородку, восседала со старцем Иеронимом одесную и Калиостро – ошуйцу в крошечной опрятной гостиной, увешанной иконами и фотографиями разноликих и разномастных монахов.
Ирининым визави оказался русобородый Таврион – или «отец Иконописец», как обращался к нему Калиостро, – около него расположился всклокоченный Анатолий, а уж рядом с последним – пристроился насупленный Лёнюшка.
– Отец Иероним, – в комнату вошла монструозная особа – церковная старостиха.
Давеча она загородила перед Ириной дверь в церковный домик, оглядывая ее подозрительно:
– А ты куда навострилась? Там только духовенство!
Ирина отвечала с достоинством:
– Но я приглашена и не готова к подобным инцидентам!..
– С каких это пор, – не глядя на Ирину, проговорила она, обращаясь к старцу и выпячивая вперед челюсть с неправильным прикусом, – в монашеских кельях парфюмерией так в нос шибает!
Ирина, пользуясь преимущественным правом своего воспитания, предпочла не заметить этого, как она внутренне выразилась, «нюанса».
– Вас там на крестины требуют, – сообщила старостиха.
– Матушка, попросите, чтоб немного подождали. Извинитесь, скажите – сразу после трапезы и окрестим. Да, отец Анатолий?
Анатолий закивал с готовностью.
Калиостро оказался чрезвычайно любезным сотрапезником и кавалером. Он то и дело накладывал в Иринину тарелку и крошечные солененькие грибки, и хрустящую капустку, и холодную рыбу, вежливо осведомляясь, не предложить ли ей чего-нибудь еще.
– Да, пожалуйста, мне бы хотелось отведать вон того салата с чертовщи... – она запнулась, сообразив, что здесь это будет не совсем уместно, – со всякой всячиной. Изумительно! Прелестно! – пробовала она угощения. – В такой салат я бы еще добавила мелко нарезанное яблоко, оно придает салату еще один оттенок. Этому меня научили в Венгрии.
– Вы, наверное, много путешествовали? – поинтересовался Калиостро.
– О, да! Мой муж был знаменитый писатель, его пьесы шли по всему миру, и мы с ним объездили много стран. Северную Европу я не люблю, – предалась она дивным воспоминаниям, – там все как-то чопорно, замороженно, упорядоченно... Знаете, этакий стиль «не плюнь», – пояснила она. Представьте – они постоянно подравнивают кусты и газоны! В этом есть какая-то искусственность, заданность. А я предпочитаю всем этим ухищрениям среднего европейца безумие жизни, ее коловращение, пестроту, одержимость! Моему темпераменту больше всего подошел бы Париж – с его ночной жизнью, капризами, ворожбой. Кстати, я чуть было там не осталась навеки! (Она вдруг вспомнила предостережение Одного Приятеля о погонах под рясой, но, будучи уже не в силах остановиться, продолжала взахлеб.) Меня там хотела удочерить одна пожилая, очень богатая и небезызвестная миру француженка. (Имен она решила не называть.) Она жена прославленного французского поэта – его-то я как раз не любила: он был в политике такой ортодокс! – Ирина развела руками. – А вот его жена – моя несостоявшееся мать – была просто очаровательна. Между прочим, она приходилась родной сестрой Лиле Брик – этой постоянной пассии Маяковского. («Ну, покойников, наверное, можно», – мелькнуло у нее в голове.) Помните, это знаменитое – «Лилечке вместо письма»? Он был, конечно, великий поэт!..
Она оглядела слушателей и, заметив, что Анатолий порывается что-то сказать, остановила его жестом:
– Я понимаю – можно не любить его, он может раздражать и отталкивать, но не признавать мощи его таланта – это, знаете ли, – она ухмыльнулась, – значит просто подписываться в своем полном непонимании поэзии!
– А вот Пушкин, к примеру, – прорвался все-таки Анатолий, но Ирина перебила его:
– Лиля Юрьевна не любила меня, но ведь это очень понятно – она сама привыкла быть примой, блистать и ходить в окружении поклонников. Каково же ей было видеть меня в ту пору, когда она представляла из себя лишь историко-литературный памятник, этакие живые мощи.
– Отец Иероним, – простонал вдруг Лёнюшка, – а как мне-то теперь быть? А ну как Татьяна опять на меня накинется? Ох, и обнаглели бесы, ох, и обнаглели! Я даже у отца Дионисия спросил сегодня на исповеди: «Отец Дионисий, почему это бесы так обнаглели?» А он мне и говорит: «Я тебе потом, Леонид, объясню, а сейчас ты людей задерживаешь!» Да так и не объяснил до сих пор. А я больной. Инвалид детства. Мне с Татьяной-то в другой раз не сладить.
– Да убегла она, – успокоил его Анатолий, сильно гэкая. – Мы как с отцом Дионисием ее выволокли из храма, так она почуяла, что дело плохо, и ну бежать, только ее и видели!
Ирина вспомнила, что после покушения на несчастного монаха Татьяна побежала в церковь и, как только отворились алтарные врата, ринулась в них, распахнув объятья, с криком: «Никто не отлучит меня от любви Христовой!» Поднялся страшный переполох. Служба была остановлена, и Калиостро с Анатолием протащили ее волоком через всю церковь, которую она продолжала оглашать криками: «Вот так они поступают, Господи, с теми, кто воистину любит Тебя!»
– Это было ужасное, ужасное зрелище! – Ирина прикрыла глаза рукой. – Так жестко обойтись с этой несчастной! – Она укоризненно посмотрела на Калиостро. – Тащить по полу беспомощную женщину – это не по-христиански. Ведь она так любит Бога!
– Так она ж бесноватая! Это ж враг ее и надоумил святыню осквернить. Она ж в прелести! – возмутился Лёнюшка.
– Ну что вы – какая уж там прелесть, – Ирина сочувственно воздела очи к небу, – измученная, постаревшая женщина. И потом – кому дано судить об этом! Каждый любит по-своему – кто с прохладным трезвым сердцем, кто горячо и страстно. Я уж прошу вас, – обратилась она к старцу, – не наказывайте ее, пожалейте! У нее сына недавно убили – она так несчастна!
Принесли первое, и Калиостро, наливая Ирине в тарелку золотистый пахучий суп, спросил галантно:
– Вы позволите?
– Паркуа па? – пожала она плечами. – Почему нет?
Ей вдруг очень захотелось произвести эффект:
– Кто-то однажды весьма точно выразился о Лиле Юрьевне: «У Лили Юрьевны целое блюдо золотых орехов и ни единого зуба, чтобы их разгрызть!»
– Золотых орехов? – Лёнюшка даже чуть-чуть привстал.
– Это образ, Леонид, образ, – пояснил Калиостро.
– Опять образ! – обиделся Лёнюшка. – А то я думал у меня в Красно-Шахтинске тоже есть ореховое дерево, только орехи все какие-то пустые...
– О, у Лили Юрьевны, вы уж не беспокойтесь, они были полны ядрышками, – многозначительно заметила она. – Так вот, сестра ее была так мною очарована, что сказала: «Ирина, я бы хотела иметь вас дочерью».
– А вот та самая русская фея, которая не только доставила нам удовольствие лицезреть ее неземную красоту, но и выразила прелестное желание угостить нас здесь, в Париже, русской масленицей, – представила «небезызвестная француженка» Ирину своим утонченным и также небезызвестным гостям.
Ирина с достоинством чуть наклонила благородную голову, ловя на себе одобрительный взгляд старого Александра.
– Я посчитала, что вам будет приятно получить этот горячий привет из снежной России.
Стол украшала икра, поданная к блинам и привезенная в дар гостеприимным хозяевам.
Гости рассыпались в комплиментах, хваля ее французский выговор, осанку, кулинарные способности, вкус и обаяние.
– Ах, у меня давно есть тайное желание, – говорила она, словно ворожа над столом своими изящными руками, – открыть где-нибудь, где угодно – в Москве или у вас, в Париже, – маленький ресторанчик для избранных и пригласить вас всех провести там очаровательный вечер!
– Но я ответила ей : Эльза! – Ирина вдруг спохватилась, но, вспомнив, что та уже давно умерла, продолжала, – Эльза, – сказала я, – я чрезвычайно польщена вашим предложением и просто околдована им, но простите, – тут она выразительно посмотрела на старца Иеронима, ибо это был камешек в его огород, вернее, в его монастырь, – у меня есть мать! – она сделала паузу. – И по всем законам совести, морали, религии я считаю величайшим грехом от нее отрекаться!
Тут она опять сделала паузу, и ей показалось, что старец кивнул ей одобрительно.
«Он бесспорно неглуп», – подумалось ей.
– Отец Иероним, – жалобно затянул Лёнюшка, – помолитесь, чтоб мне не полнеть. А то я как располнею – у меня одышка, ходить тяжело... Я ведь как – то не ем ничего, а то как навалюсь – хоть целую кастрюлю картошки могу смолотить. А, отец Иероним?
– О, – сказала Ирина, – в этом нет проблемы. Я вам дам замечательную диету, вы сразу похудеете и не будете испытывать ни голода, ни упадка сил. Там все зависит не от калорийности продуктов, а от их сочетания. Это диета американских космонавтов, – пояснила она старцу.
– Отец Анатолий, а что там у тебя на приходе произошло? – спросил Калиостро.
– Да залезли какие-то молодчики в молельный домик. Напились церковного вина, облачились в ризы, прихватили с собой кое-какую утварь и иконы. Тут-то я их и застукал. «Попались, – говорю, богоотступники!» Тут их как гром поразил – запутались в облачениях да и упали спьяну! – отец Анатолий сиял.
– Нашу дачу тоже грабили, – сочувственно вздохнула Ирина. – И тоже, простите, сопляки какие-то, мальчишки. Там было много ценного: антикварное стекло, мебель карельской березы, плетеные венецианские кресла, дивные картины, столовое серебро. А они забрали какой-то ширпотребный японский магнитофон, коньяки, конфеты, нагрызли орехи, накидали фантиков – вот и все убытки...
– Да, – еле слышно промолвил старец, участливо глядя ей в глаза, – вот как получается в мире: каждый выносит то сокровище, которое впору его сердцу.
– Вы прекрасно танцуете, – говорил седой вальяжный американец, держа Ирину за талию. – Вы где-то учились или это природное дарование?
Кажется, это было на маленькой вечеринке в загородном доме, которой закончился роскошный голливудский прием.
– Все гораздо проще, – отвечала она грациозно. – В каком-то прошлом перерожденье я была маленькой итальянской танцовщицей.
– А кстати, – обратилась она к Калиостро, – когда я бывала в Лондоне или Париже, я имела знакомства со многими обломками русских дворянских родов. Может быть, я даже знаю кого-то из ваших родственников? Как ваша фамилия?
– Моя фамилия, – хмыкнул он, – совсем не соответствует моей сути.
– Не скромничайте, – ободрила его Ирина, – у вас вполне аристократические манеры! А Лиля Юрьевна, – Ирина глубоко вздохнула, – конечно, не могла примириться со своей мумифицированной оболочкой. И она в конце концов кинула перчатку судьбе, которая обошлась с ней так жестоко, промурыжив ее столько времени на этом свете уже безо всякого толка, и – отравилась!
– Да, – произнес Калиостро с глубоким вздохом, – ваше житейское море было весьма бурным!
– А как вам понравилась наша Пустынька? – спросил ее старец.
– О, – ответила она, – у вас очень мило. Но позвольте мне высказать и кое-какие критические замечания на этот счет. Знаете – я такой человек – совсем не умею лукавить!
– Да-да, пожалуйста, – улыбнулся старец.
– Меня коробят все те косные и однобокие условности, за которые так держится церковь, и мне кажется, она так непопулярна сейчас именно из-за этого. Современный развитый ум не может принять ее пережитки, суеверия, догмы, на которые тут же натыкается его скепсис. И потом вся эта атмосфера, созданная специально, чтобы уверить цивилизованное сознание в тленности и ничтожности всего земного, веет какой-то безнадежностью и унынием. Католики меня как-то больше устраивают в этом смысле: у них все как-то более парадно и в то же время строго, никаких излишеств – прекрасный орган, располагающий к созерцанию, к наплыву чувств и воспоминаний, к игре фантазии: скромные маленькие сиденьица с узенькими столиками, словно приглашающие к медитации, к полету мысли; интеллигентная респектабельная публика, в самих движениях которой есть что-то деликатно-интимное, какое-то глубоко личное отношение к Богу; все молитвенно и благоговейно складывают у груди ладони – все просто, но все функционально: суровое распятие на стене, маленькая кабинка для исповеди, небольшой барьерчик, отделяющий алтарь от остальной части храма. О, вы не думайте, – испугалась она вдруг, – мне и у вас очень понравилось – и все эти нарядные декоративные костюмы, и это удивительное ритуальное передвижение по храму с кадилом и со свечами. Все это очень хорошо и пластично! Но – увы! – совсем не понятно, что вы говорите и читаете в церкви во время своих богослужений. Я сегодня простояла почти час, а вчера и того больше, а так ничего и не поняла, кроме отдельных слов.
Молодой монашек как-то странно заерзал на стуле, Лёнюшка совсем так же, как вчера, вытаращил на нее глаза, но остальные слушали ее внимательно и безо всяких возражений.
– Может быть, – повернулась она к Калиостро, апеллируя к нему как к ученому богослову, – стоило бы решиться на кое-какие реформы в этой области: на Западе ведь уже давно признали необходимость Реформации, – она значительно посмотрела ему в глаза и вдруг поняла, что ее занесло в такие дебри такой завиральности, из которых давно пора выбираться и отступать восвояси. Однако она уже летела с крутой горы, у нее захватывало дух от собственных непредсказуемых пируэтов, и она была уже не в силах остановиться. Сладость полета увлекала ее все дальше. – Для этого можно пригласить известных поэтов, владеющих магией слова, – Андрюшу Вознесенского, например, или Женю Евтушенко, – я с ними хорошо знакома, это очень широкие люди, симпатизирующие религии. Они могли бы переложить ваши тексты на свой лад – современно, талантливо, метафорично! – она сделала попытку затормозить, но не удержалась и понеслась, отдаваясь собственному напору. – А может быть, было бы не лишним позвать известных драматургов, знакомых со спецификой зрелищной культуры, – Мишу Рощина, например...
– Бог сотворил человека, – говорил старый Александр, раскуривая утреннюю трубку, – и пустил его как актера на сцену своего мира, предоставляя ему, по собственному усмотрению, обыграть все детали отпущенного реквизита.
Ирина сидела перед ним в белом утреннем платье, с накинутым на плечи легким «матинэ», теребя забравшуюся на веранду ветку сирени, которая покачивалась над ее плечом.
– Мало того, – продолжал Александр, – Он как великий драматург дал человеку драгоценное право импровизации, соглашаясь в случае гениальной игры исправить написанный заранее текст и кое-где изменить ремарки, принимая тем самым его в соавторы.
Большие шмели кружились над золотистым вареньем, и Ирина отгоняла их бесстрашной рукой.
– Впрочем, – Александр на минуту задумался. – Божественная драматургия такова, что человек может, и не меняя текста, сто сорок четыре раза произнести одну и ту же фразу с совершенно разными интонациями, и она будет звучать каждый раз иначе, а иногда и прямо противоположно заключенному в ней смыслу.
Ирина стряхнула лепестки с платья.
– Я мечтаю написать такую пьесу, – Александр прищурил глаз и мечтательно посмотрел на нее, – где бы все диалоги были амбивалентны, а добро и зло могли бы с легкостью меняться местами...
– Я уверена, – продолжала Ирина, все увлекаясь полетом воображения, – что это привлекло бы в церковь огромную аудиторию – многие образованные, культурные люди стали бы приходить туда только для того, чтобы послушать мессу, стихи, проникнуться этим духом, отрешиться от мирских забот. И я просто голову даю на отсеченье, что контингент верующих тут же бы изменился!
– Безусловно! Нет никаких сомнений! – улыбнулся Калиостро. – Ну а чтобы вы стали делать с иконами? В какой манере посоветовали бы их писать? – он весело посмотрел на отца Иконописца. Тот опустил голову.
– Отец игумен, почто искушаете-то, а? – почти в отчаянье простонал убогий монах.
– О, да вы ведь, кажется, иконописец? – обратилась она к своему молчаливому визави. – А тогда сначала вы мне скажите – почему ваш Христос на куполе такой грозный? Прямо-таки гневный! Разве Он был такой? Мне кажется, Он добр, щедр, справедлив.
– Да, тут многие упрекают меня в этом, – сказал русобородый иконописец глуховатым голосом. – Многим хочется видеть Христа милующего, но не каждому по душе ожидать Христа взыскующего и грядущего судить живых и мертвых.
– Совершенно с вами согласна! – воскликнула она. – Мне всегда была чужда всякая идеология, построенная на страхе наказания. И потом, мне представляется это оскорбительным для самого Бога: что это за чудовищная идея ада с бесчеловечными картинами истязаний и экзекуций? Неужели вам это может быть близко? – спросила она, апеллируя все к тому же Тавриону. – Никогда не смогу в это поверить! Ведь у вас такое доброе, хорошее лицо. Просто иконописное! Я, представьте, неплохой физиономист. А кстати, может быть, вы слышали, есть одна теория, доказывающая, что существует целая психологическая группа художников, которые во всех портретах запечатлевают свои собственные черты...
– Ад, как и рай, – сказал он, строго глядя ей в глаза, – у каждого человека в душе. Это место, где нет Бога. Посему – всякий, отвергающий Христа, уже в земной жизни познает ад. Всякое уклонение от Бога есть уже беснование – в большей или меньшей степени.
– О, эти великодушные представления об аде в душе, которые и мне чрезвычайно близки, внушает вам наша чистота и милосердие. Ад, как я вас правильно поняла, это муки совести, не так ли? – она следила краем глаза за Калиостро, который живо прислушивался к их разговору. – Но, к сожалению, церковники представляют ад этакой камерой пыток, где карается любое инакомыслие.
– Так без Бога – это камера пыток и есть! – вставил быстроглазый монашек.
– Муки совести – это только путь к покаянию, а ад – это место, где нет живого Бога, – упорно повторял Таврион. – Это – богооставленность.
– Какой же вы спорщик! – улыбнулась она обворожительно. – И потом, – Ирина обратилась к старцу, как бы вдруг вспомнив о чем-то, – почему это вы запрещаете монахам жениться? Среди них есть молодые, красивые, блистательные молодые люди, и мне видится в этом что-то варварское, допотопное, средневековое – лишать их возможности иметь тонких образованных, всепонимающих жен, которые могли бы помочь им в их духовных изысканиях! Они могли бы внести свой штрих, свой колорит в устроение церкви. В конце концов, на Западе, где люди менее консервативны, уже давно пришли к признанию необходимости женщин-священниц.
– Вот как? – Калиостро поднял тонкие брови. – Дело принимает весьма опасный оборот!
Ирина посмотрела на него с милой укоризной, и в ее мозгу пронеслась какая-то пунктирная, но внятная история, как бы предваряющая его монашеское отречение: несчастная любовь – разочарование – поиски женского совершенства – поворот отверженной головы – широкий шаг по метельным улицам – бессонная ночь в летящем в пустоту вагоне – презрительная неприкаянная улыбка – полный горделивого отчаянья взор – разбитое охлажденное сердце...
– Ты чегой-то говоришь-то, а? – опомнился Лёнюшка. – Какие такие жены? Да ведь монахи обет безбрачия дают!
– Я и имею в виду, что давно пора отменить все эти окостенелые формы, все эти инквизиторские предписания, все эти аутодафе и обеты! Человеческое сознание развивается, совершенствуется, а церковь не поспевает за ним.
– Да они же тогда в леса убегут, монахи-то, если им начнут разрешать жениться! – сказал Калиостро, поглядывая на нее смеющимися глазами.
– У вас есть чувство юмора, – заметила Ирина. – Мой муж был очень образованным, широким человеком, он тоже был очень религиозен – он верил и в Христа, и в Магомета, и в Аллаха, и в Будду, и в индуизм со всеми его ответвлениями, потому что он везде умел найти свою поэзию и какое-то рациональное зерно.
– Ко мне сегодня на исповеди, – сказал Калиостро, широко улыбаясь, – подошел один человек, и я был вынужден у него спросить: «А вы вообще-то веруете ли?» А он мне ответил: «Верую, но так – в рамках разумного, в меру».
– Да-да, – с восторгом подхватила Ирина, – именно, именно, вот и я говорю – в рамках разумного, без самоистязания и фанатизма!
Поток мыслей вновь захватил ее, и ей представилась очаровательная картина: а что если бы вот так сорваться с места, уехать с каким-нибудь таким блистательным мужественным человеком куда-нибудь туда, в самую даль, оставляя за собой санный полоз и оглашая округу пеньем поддужного бубенца, и обвенчаться с ним в какой-нибудь беленькой опрятной деревенской церквушке под звон колоколов и вой метели...
– Так как же все-таки быть с иконами? Так оставить или переписать все заново? – спросил Калиостро Ирину, кивая на отца Иконописца.
– Нет, – ободрила она Тавриона. – В ваших иконах тоже есть и свое обаяние, и старина, и прелесть... А вот, что касается внутреннего устройства церкви, так сказать, ее дизайна, – я бы вставила цветные витражи в окна вместо стекол. Они создают настроение даже в пасмурную погоду.
– И только-то! – протянул Калиостро довольно разочарованно. – А я-то думал, что вы и нашему отцу Иконописцу можете что-нибудь посоветовать, дать какие-нибудь идеи.
– Поживите у нас, – старец вдруг ласково коснулся ее руки. – Отдохните. Вам надо поисповедоваться, причаститься...
– О, – произнесла она не без томности в голосе, – я бы с удовольствием: мне самой иногда хочется отгородиться от мира, забыть, кто я такая, и жить, как простая персона N., написанная по-латински, с точкой! – Она пальцем нарисовала в воздухе четкую и внушительную букву.
– Это что? – испуганно спросил монах Леонид у Анатолия.
– Какой-то масонский знак, наверное, – пожал плечами молодой монашек.
– Масонский знак? – она улыбнулась. – Ах, эти масоны – такие обходительные, образованные люди! Это сейчас очень модно в Америке – самые респектабельные люди стремятся вступить в масонские ложи, но не всех туда принимают. Я слышала, у них очень, очень прогрессивные идеи: они занимаются благотворительностью, открывают у себя самые престижные школы...
Калиостро, казалось, пришел в настоящий восторг. Теперь он поглядывал на Ирину с нескрываемым интересом.
– А почему вас не возмущает загробная участь благочестивого магометанина, который с детства неукоснительно соблюдал свои мусульманские предписания, ревностно исполнял законы, слыхом не слыхивал о христианстве, в глаза не видел ни одного христианина и тем не менее, невзирая на все эти смягчающие обстоятельства, все равно попадает в ад? – спросил он Ирину.
– Какого мусульманина? – испуганно спросила она. – Я ничего о нем не знаю.
«На кого это он намекает? – подумалось ей. – Может быть, он хочет таким образом вывести разговор на Ричарда, который путешествовал и по исламским землям? Или имеет в виду Одного Приятеля, который чтобы ее позлить, часто говорил, что мусульманство представляется ему самой мудрой и гуманной религией, ибо позволяет, во-первых, официально иметь гарем, во-вторых, безнаказанно драть за косы строптивых женщин».
– Странно усмехнулся Калиостро. – Обычно этот вопрос всплывает одним из первых в среде интеллигенции, как только речь заходит о христианстве.
– Да? – удивилась она. – А правда, почему должен страдать ревностный мусульманин?
– Поживите у нас, – настоятельно повторил старец и крепко пожал Ирине запястье.
– А что касается исповеди, – вздохнула она, – то ведь это необходимо тем, у кого нечиста совесть. А мне нечего исповедовать, я всегда жила как Бог на душу положит. Я вся перед вами как на духу, и у меня нет никаких грехов.
– Безгрешных людей нет – все мы грешники,– сокрушенно произнес старец. – Надо только просить у Бога, чтобы Он открыл нам, в чем мы грешны.
– Ах, я знаю, я знаю, в чем я всегда согрешала, – воскликнула вдруг Ирина, – и что мне всю жизнь мешало! Я всегда была добра к этому миру, слишком, слишком добра к нему, слишком открыта и слишком многое ему спускала! Вот вы говорите, угрызение совести – это и есть это самое покаяние, – она посмотрела на Тавриона. – А моя совесть меня не обличает, значит, я ни в чем ее не ущемила!
– Человек может придумать себе столько самооправдательных причин и подвести нравственные оправдания под такие беззакония, что доводы его совести просто померкнут перед такими внушительными построениями, – ответил он.
Александр, не мучай меня, не мучай! – говорила она мужу. – Я тебе отдала лучшие годы моей жизни – мою молодость, мою красоту, мою бешеную энергию. Ты знаешь, за мной ходили толпы, толпы поклонников – самых баснословных, прославленных и богатых. Другая на моем месте уже бы давно – да, Александр, к чему лукавить? – пустилась в самые бурные любовные приключения и сейчас плавала бы по Средиземному морю на собственной яхте. Но я отшвырнула от себя эти соблазны и согласилась принять от жизни все ее толчки и удары – все эти бесконечные твои больницы, стенания, боли, всю эту страшную неизвестность впереди, а теперь еще и твою безумную ревность... Там нет никого! Ночь! Половина пятого! Да перестань ты строчить мне эти посланья, будь хорошим мальчиком, спи, успокойся!
От второго Ирина отказалась.
– Вот мне Александр рассказывал, какие вы тут все постники и молитвенники, – сказала она, глядя, как монахи берут с подноса тарелки с жареной рыбой, – и, честно говоря, очень меня пугал этим. Я ожидала здесь увидеть придирчивых и дремучих людей. А теперь я вижу, что вы вполне нормальные, цивилизованные люди – и современные, и светские, и ничто человеческое вам не чуждо. Ваше общество мне чрезвычайно приятно. Я, конечно, не могу как человек ироничный и критически мыслящий принять целый ряд ваших догм и предписаний, хотя мне, повторяю, иногда и хочется уйти от этого мира, облачиться во вретище и питаться сухими корками. Мне кажется, все эти ваши обряды и ритуалы воспитывают в человеке рабскую психологию, – она посмотрела на отца Иконописца.
Он закашлялся, подавившись рыбой, но все же ответил:
– А кто мы есть? Рабы греха, рабы Божии.
– А ведь что есть Бог? – продолжала она, едва ли выслушивая ответ. – Бог есть дух, это высочайшая мировая идея, которой тесна всякая земная форма. Я не могу поверить, что Его может смутить какая-нибудь куриная ножка, съеденная не ко времени, и что Он может из-за этого ожесточиться и наказать свое творение, словно этакий надзиратель.
– Отец Иероним! – отчаянно возопил Лёнюшка. – Я вот слушал, слушал и от волнения не заметил, как весь хлеб съел! Что делать? Ведь я полнею, а у меня одышка, ходить трудно...
—Не огорчайтесь! – утешила его Ирина. – У вас все в норме. Мне кажется – это, кстати, непосредственно к вам относится, – она обратилась к Калиостро. – Богу должны бесконечно претить все эти «Господи помилуй», «Господи помилуй», которые возносит к Нему человек, – виноват, дескать, кругом виноват, словно наш садовник, который по тысяче раз на дню извинялся, что срезанные им цветы так быстро вянут! Или как унтер-офицерская вдова, которая перманентно себя же саму высекает!
Калиостро расхохотался:
– Так-так, отец Таврион, к тебе никаких претензий, тебе – хорошо. Все у тебя как надо – и старина, и обаяние, а мне каково?
– Слушайте, – Ирина была в ударе, – Богу должно быть бесконечно скучно слушать все эти просьбы, которыми закидывает Его человечество. Он хочет видеть человека свободного, мыслящего, отстаивающего свои права, одержимого какой-то высокой идеей, утверждающего собственную личность; человека, который бы мог, наконец, произнести монолог со всей страстью своего духа: «Это я, Господи, как собеседник, как равный, говорю с Тобой с мировых подмостков!»
– Бесовская песнь! – махнул рукой Анатолий, но был тут же наказан, ибо опрокинул на себя стакан компота.
– В конце концов, человек должен и сам чего-то добиваться в этом мире, отстаивать свою точку зрения, бороться за свои права – этого постоянно требует его чувство собственного достоинства, его святая гордость! – продолжала она увлеченно.
– Да то ж язычники, а то христиане! – все-таки не унимался молодой монашек.
– А я говорю и о христианах тоже. Я говорю о праве каждого христианина...
– Нет у христианина никаких прав! – вдруг сказал Таврион. – И чувства собственного достоинства у него тоже нет.
– У него есть только чувство собственного недостоинства, – пояснил Калиостро.
– Да вы – настоящий ерник! – заметила она ему.
– Какие у христианина права – быть гонимым? быть хулимым? быть распинаемым? – продолжал русобородый.
– Отчего же? – она пожала плечами. – У него есть право, отдавая кесарю кесарево, самому требовать что-то от него. А ваша идея покорности властям мне кажется очень удобной – никаких конфликтов.
– Всякая власть от Бога, – вставил Анатолий.
– Вот-вот, – улыбнулась она, – прекрасный аргумент! Ни к чему не обязывает. А велят вам завтра церковь вашу закрыть – так вы и закроете?
– Послушание кесарю имеет свой предел, – сказал Таврион медленно и как бы нехотя, и предел этот – хранение заповедей Божиих. А если закроют церкви, такое тоже бывало, что ж – вера не оскудеет и тогда, ибо земля обагрится мученической кровью.








