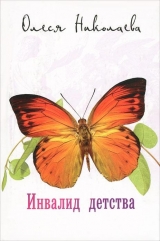
Текст книги "Инвалид детства"
Автор книги: Олеся Николаева
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Ирине вдруг стало жалко его. «И правда, – подумала она, – почему они не дают Александру писать иконы? Почему не дорожат им? Она вспомнила, что в детстве он был очень чувствителен, ласков и плаксив, как девочка. Один раз старый Александр ударил его за то, что, расшалившись за обедом, он стал коверкать слова, все время повторяя одну и ту же фразу «тюп ти мяти», что означало «суп с мясом».
– Прекрати! – старый Александр посмотрел на него тяжелым остановившимся взглядом.
Но Саша, поднеся ложку ко рту, вновь произнес, давясь от смеха:
– Тюп ти мяти.
Старый Александр схватил его за ухо, выволок на середину комнаты и дал пинка, демонстративно отряхивая после этого руки. Саша проплакал взахлеб до самой ночи и несколько дней не произносил ни слова, поглядывая исподлобья не только на отца, но и на Ирину.
– Ты пойми, – говорила она мужу, – есть натуры грубые, невосприимчивые, переносящие с легкостью и плевки и побои, но твой сын имеет настолько тонкую организацию, что он, как мембрана, чутко реагирует на малейший раздражитель.
–
Господи, Господи, – читала она дальше, ничего не замечая вокруг, – что же теперь будет? Какой ужас! Как мне теперь смотреть в глаза о. Тавриону и о. Иерониму? Дионисию, наконец? Какой стыд!
Приезжал о. Анатолий с соседнего прихода и предложил мне великолепную идею писать с ним вместе житие старца Иеронима. Он, оказывается, уже несколько лет записывает рассказы его духовных чад о чудесах, пророчествах, кротости, мудрости и прочих свидетельствах его святости. Даже собрал кое-какие биографические данные. А меня зовет разделить его труд, потому что, говорит, у него стиль хромает, и он никогда не может догадаться, куда поставить запятые. На радостях мы с ним зашли в магазин, купили водки и красненького и выпили у меня в подвале, закусывая яблоками. Он-то ничего – уснул на дровах без памяти, и никто его не видел, а я вылез на воздух да и упал во дворе и даже не мог доползти до кельи. А тут служба кончилась, народ стал из храма выходить. Помню только, что надо мной склонился монах Леонид, перекрестился да как завопит: «Александр преставился, раб Божий!» Меня подобрал о. Таврион и перетащил к себе. А потом мне стало плохо, и он сам мне тазы носил, умывал холодной водой и вытирал полотенцем. А потом я уснул на его диванчике. А когда проснулся – он стал отпаивать меня чаем с вареньем и каким-то соком. И одеялом укутал, потому что меня бил озноб. А я еще, как дурак, стал у него выспрашивать: отец Таврион, как вы в Бога уверовали? А он сказал: прочитал в 15 лет Евангелие да сразу поверил, что так все и есть. А потом он стал мне все о себе рассказывать – как отец от него отрекся публично, когда Тавриона постригли в монахи, потому что он, оказывается, какой-то крупный обкомовский начальник. Меня удивило, что отцу Тавриону только двадцать четыре года и он ровесник отцу Анатолию, хотя кажется, что он гораздо старше. Я хотел было идти в свой подвал, а он говорит: оставайтесь здесь, вам надо выспаться, – и уложил меня на свою постель. А сам примостился на узенькой скамеечке. Я говорю: отец Таврион, я так не могу. А он говорит: ничего, я привык.
Господи прости меня! Мне так стыдно!
–
Я пришел к о. Тавриону и подарил ему тоненькую французскую кисточку. А он говорит: она вам самому скоро понадобится. Я говорю: зачем? А он: иконы писать. Я говорю: когда она мне понадобится, мне Бог пошлет. Он улыбнулся и взял. А я говорю: отец Таврион, простите меня! Я вас так люблю, так люблю, может быть, только отца Иеронима чуть-чуть больше, чем вас. А он говорит: надо всех любить одинаково. Я говорю: что ж, я и старостиху должен любить так же, как вас? Он кивнул. Я думал, что он надо мной смеется, и говорю: сердцу не прикажешь. А он говорит: надо в каждом человеке любить образ Божий, а если сердцу не прикажешь – то это уже не любовь, а пристрастие. Я говорю: а это что – плохо? А он говорит: это вредит душе, как и любая страсть.
–
Я спросил старца Иеронима: как же так? А любимый ученик Господа – апостол Иоанн? А старец ответил: тот, кто больше любит Господа, тот и любимый ученик, потому что Бог есть сама любовь.
А житие его – не благословил писать.
–
Я опять пристал к о. Тавриону с вопросами о пристрастии. Он сказал: бывают между людьми такие связи, построенные на пристрастиях, которые вредят душе. Их нужно ослаблять, а порой и вовсе от них отказываться. Я спросил: что же, отец Таврион, если я вас так люблю и так к вам привязан, мне по этой самой причине нужно отдаляться от вас? Он ответил: если вас это смущает – конечно, ибо сказано – какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Я спросил: неужели так страшна любовь Христова? А он отвернулся и ничего не ответил.
Ах, отец Таврион, отец Таврион! Как бы я хотел быть вашим «ты», быть вашим любимым учеником и другом!
–
И вдруг понял, что наслаждение и счастье – разные вещи. Вот дома я получал массу удовольствий, а был несчастлив! А здесь я терплю страшные лишения – одно это пойло чего стоит! Мне так иногда хочется кофе с солеными орешками, выспаться на мягком диване, на чистых хрустящих простынях, поваляться в ванне, почитать книги, послушать музыку, побездельничать, пошататься с этим новым чувством радости и свободы по городу, увидеть своих и даже маминых друзей, покурить, расслабиться, немножко выпить. И несмотря на это, я все-таки счастлив, даже, может, не то чтобы счастлив, но меня не покидает чувство душевной полноты и осмысленности происходящего.
Каждый раз, когда у меня возникает искушение отсюда уехать, я начинаю думать – а зачем я сюда приехал? Почему? Может быть, потому что та жизнь меня разочаровала, утомила и опостылела своей мелкостью? Да! Может быть, потому, что я запутался в своих бесчисленных долгах, грехах, беззакониях, компаниях, тусовках, пьянках и пресытился своей неприкаянностью? Да! Может быть, потому, что мне захотелось ходить в длинном подряснике, бороться с бесами, презирать мир и отвергать женщин? Да! И все-таки не только поэтому.
Живя дома, я часто задавал себе вопрос – зачем? Зачем все это? Зачем я? Зачем мама? Зачем жил отец? Зачем он умер? Что прибавилось? Что изменилось в мире? Что изменится, если я умру? Зачем я ходил в школу? Чтобы поступить потом в институт? Зачем я закончу институт? Чтобы оформлять спектакли, как хотела мама? Зачем оформлять спектакли? Чтобы получать от этого удовольствие? Зачем это удовольствие, если оно само не отвечает на все эти «зачем» и не покрывает их! Если оно не имеет смысла, если оно – «геенна»?
А здесь все сразу встало на свои места. Я живу, чтобы стать сыном самой Любви и победить всё противящееся этому. И потому – чем больнее становится моему самолюбию, чем страшнее гложет меня обида и чем громче орут мои мирские желания, тем, значит, сокрушительнее я атакую мировую геенну, которая вся уместилась в моем сердце.
И поэтому я никуда отсюда не уеду!
Ирина вдруг возмутилась: «Какое малодушие! Какая непоследовательность! «Уеду – не уеду». И потом, что это – «зачем мать?», «зачем отец?». Пустое, мальчишеское гримасничанье!
Сегодня я уже собрал вещи и пошел к отцу Иерониму просить благословение на отъезд: такая тоска на меня напала, такое уныние! Подошел к домику – смотрю, а на Засохшей Груше только два листочка последних и осталось. А сама она черная от дождя, страшная такая, корявая! И мне стало так больно, так больно, что я чуть не заплакал, вспомнив, что она выпустила первые свои листочки как раз в день моего приезда.
Около нее тогда собралось много народа, и все дивились: Засохшая Груша ожила! Еще одно чудо старца Иеронима! Больше всех вопила старостиха: «Я все батюшке талдычила да талдычила – спилим эту засохшую грушу, что в ней проку, три года уже стоит сухая, ломкая, разве что ворон пугать. Посадим, говорю, березку, или елочку, или какое деревце, чтобы глаз веселило. А батюшка сошел с крылечка, погладил грушу по стволу и говорит: матушка Екатерина, подождем еще полгодика, до весны, может, еще распустится. А я говорю: куды, батюшка, распустится! Ведь хворост это один на палке, смотреть тошно, слышь, Александр!» А я ей тогда и ответил: это вы мне рассказываете, матушка Екатерина? Я же собственной персоной при этом присутствовал – как раз прошлой осенью это было, в сентябре, когда я с хиппами сюда попал! Вы меня еще за пилой тогда посылали!
И как увидел я сегодня Грушу эту мокрую, уродливую, обнаженную, так это меня поразило, что и символ какой-то мне в этом померещился, и предзнаменование, что не пошел я к батюшке, а зашел к старостихе и спрашиваю: что, мать Екатерина, будет у вас для меня задание? Она даже онемела от изумления: что ты, говорит, Александр, иди отдыхай и так здесь уже намаялся! И даже конфетами меня угостила: на, говорит, хорошие конфеты – коровка!
А отец Таврион, когда распускалась Груша, так сказал: отец Иероним – это явление космическое!
–
– Пойдем, – Пелагея кротко подергала Ирину за рукав, – а то служба уже скоро кончится, а надо ужин приготовить – Лёнюшка вернется голодный, браниться будет.
Ирина посмотрела на нее, стараясь прийти в себя.
– А Саша? Мне необходимо его увидеть!
– Так Лёнюшка умненький, сообразит! Приведет его с собой – там и увидитесь. Ты вон, я гляжу, притомилась больно.
Ирина действительно чувствовала себя усталой.
«Что за стиль, – думала она, – «а он мне сказал», «а я ему сказал»«? Столько есть синонимов – возразил, согласился, отпарировал, отрезал, воскликнул, произнес, промолвил, процедил сквозь зубы, вскричал, прошептал, да масса, масса!»
Она кинула прощальный взгляд на Александра, нависшего над непонятной книгой, на Спасителя с его разящим двуперстием и словами любви и вышла из церкви.
«В конце концов, – подумала она, – я теперь могу отвечать этому миру на вопрос: «А где твой сын? Он что – куда-то уехал, где-нибудь учится?» – «Да, он учится. Он учится произносить заклинания над этим миром!» – или что-нибудь возвышенное в этом же духе».
IV.
Приезжая из Красно-Шахтинска, Лёнюшка сразу шел к старцу Иерониму исповедоваться в том, что его там совсем замучил дух осуждения священнослужителей, которые не вычитывают все, что положено по типикону.
Отец Иероним посмотрел на него сочувственно, а потом ласково говорил:
– Если тебя это смущает, чадо, читай дома все, что не дочитал в церкви, и будь спокоен.
Возвращаясь в Красно-Шахтинск, Лёнюшка так и делал, следуя благословению старца, пока порой не засыпал глубокой ночью, стоя на коленях и уткнувшись лицом в книгу.
Зато в Пустыннике отца Иеронима он испытывал величайшее облегчение после многочасовых служб, ибо они избавляли его и от пресловутого «беса осуждения», и от необходимости, борясь с немощами, заплетающимися языком и уже слипающимися глазами восстанавливать урезанное многочадными и задерганными красношахтинскими иереями церковное правило, за что он часто подвергался нападению «горделивых помыслов».
– Грешен! – говорил он сокрушенно старцу. – Возымел мечту самому сделаться батюшкой! – И застенчиво опускал голову.
«Ересь! – повторяла про себя Ирина, вытирая ноги о скомканную на пороге тряпку и проходя в избу. – Чушь и ересь!»
Она промерзла до костей, но не чувствовала холода – все в ней кипело от негодования.
...Они возвращались с Пелагеей из церкви. Ледяной ветер не переставал дуть в лицо, хотя, казалось, они только и делали, что куда-то сворачивали, словно нарочно запутывали следы и уходили от слежки: закоулками, пустырями, непролазными стройками, проходными дворами, между сараев и заборов, палисадников и собачьих будок. У Ирины леденели ступни в легких сафьяновых сапожках, но ей приходилось замедлять шаг, потому что старуха еле-еле плелась по рытвинам и колдобинам.
– И правильно, – сказала наконец Пелагея, морщась от резкого ветра, – правильно, что сына своего у своей юбки не держишь. А захочет тебя увидеть – так сам и приедет. А то – что ты его смущать приехала, что ли?
– Почему смущать? – удивилась Ирина.
– Так ведь они, когда монашество принимают, от всего кровного и родного отрекаются, от всего тленного да земного, потому как принимают ангельский образ. И от братьев, и от сестер, и от отца с матерью. А так – он живет тут без тебя, дом уж небось и забывать стал, а тут ты как напоминание. Искушение одно!
– Как это – отрекаются? – возмутилась Ирина. – Да что же за ересь-то такая – от матери отрекаться! Кто это все придумал? Ну я понимаю – бывают какие-то исключительные случаи, когда мать уж совсем неблаговидная, а если такая, которую сам Бог любит...
– Да во имя Христа и отрекаются! – почти пропищала Пелагея. – Как Он сам заповедовал, помнишь, в Евангелии – «враги человеку домашние его». И еще – «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня»...
Она хотела было удалиться в комнатку за занавеской, чтобы до Сашиного прихода допить до дна откупоренное и уже пригубленное ею словесное зелье, которое действовало на нее самым изнуряющим образом.
«Это же надо, – думала она, – до чего только не додумаются эти жалкие, никем не любимые, никому не нужные люди, которым нигде нет места, кроме как здесь, на задворках мира и истории, среди этой помоечной утвари. Так вот на чем они держатся! А ведь я предупреждала! Так вот что они выдумали себе в утешение – равенство, беспощадное равенство: они захотели, чтобы все стали такими, как они! А если ты красив, если ты любим, богат дарованиями, если ты бережно вскормлен, взлелеян, воспитан миром, они потребуют от тебя – отрекись, стань, как мы! И если у нас ничего нет в этой жизни – пусть и у тебя ничего не будет! А иначе – прочь от врат вечности, ибо мы, мы, сирые да никчемные, стоим на страже и никого не пускаем. Мы – нищие да увечные – узурпировали ее! Плати нам за вход удачей, родством, талантом – ну тогда мы еще посмотрим, еще поторгуемся!»
Однако свет в ее комнатке никак не загорался, и она, приглядевшись, увидела, что лампочка из патрона, свисающего почти до уровня ее головы, вывернута. Она вернулась в комнату и, положив тетрадь на колени, стала ее перелистывать как бы так, невзначай, задерживаясь взглядом лишь на каких-то фигурках и мордочках, которыми она была испещрена по-пушкински щедро. В нескольких она узнала себя и осталась вполне довольна своими аккуратными чертами лица, глазами, причудливо разрезанными до самых висков, длинной шеей и подчеркнуто беспорядочными, разбросанными по плечам волосами. Кое-где выплывал иконописный строгий Таврион, мелькал шаржированный Калиостро, ковылял Лёнюшка и топорщила скуластое лицо старостиха, застыв в немом, но выразительном крике.
На отдельном листе, разделенном пополам двумя жирными параллельными линиями, был нарисован старый Александр с характерным для него прищуром правого глаза, по другую сторону – старец Иероним в какой-то экзотической шапочке, похожей на купол храма. Далее шел текст:
Я часто думаю о маме, а сегодня даже исповедовался старцу о своих согрешениях перед ней. Ведь я ее фактически бросил на произвол судьбы, совсем одну! Баба Вика терпит ее сейчас только потому, что у мамы все плохо: я сбежал, деньги кончаются, жизнь проходит. А к тому же еще этот жлоб, который постоянно торчит у нее! Я пытался объяснить отцу Иерониму про маму и сказал: понимаете, она привыкла иметь все самое лучшее и не замечает, что ей уже давно подсовывают какой-то третьесортный ширпотреб, дешевку всякую. И потом – она уверена, что весь мир создан для нее. Он улыбнулся и вдруг сказал: а ведь так оно и есть. Весь мир создан для каждого человека. И потом еще добавил: надо сейчас за нее крепко молиться и просить для нее помощи у Бога. А когда я уходил, он вдруг задержал меня на минутку, поглядел ясно и сказал: может, еще Господь ее и сюда приведет! А я закричал: не приведи Господи! Она же тут все вверх дном перевернет, всех под свою дудку плясать заставит! А он сказал: вот видишь, ты больше полагаешься на собственное разумение, чем на Промысел Божий.
Ирина захлопнула тетрадь и отложила ее в сторону, всем своим видом выражая, насколько она гнушается вновь прикоснуться к ней. «Какая низость! – думала она с отвращением. – Еще не хватает иметь возле себя мелкого доносчика, ябеду! Нет, вот этого я ему никогда не прощу!»
Она была уязвлена и обижена. Ей казалось, что весь мир восстает на нее в лице сына и всей этой монашеской клики – и этого Лёнюшки, и этой бабы, боящейся порчи, и страшного лошадиного человека, и даже суетящейся вокруг стола Пелагеи.
– Да ты, Татьяна, не убивайся так, слышь? – приговаривала Пелагея, расставляя тарелки. – Говорят, если по мертвым на земле дюже отчаиваться будем да болеть – им на небе больно тяжко делается. Ты, главное, слышь, Татьяна, молись сейчас за сына-то, прям до сорокового дня не отступайся! Как помер Лёнюшкин отец – ох, и ярый был атеист, ох, и лютый! – Лёнюшку бил прямо в лицо кулаком и крест с него сдирал, и иконки его топтал каблучищами. «Я те, – кричал, – не позволю марать мою партийную репутацию!» Так вот – как помер он, ну, говорит Лёнюшка, не знаю, как за него за изверга и молиться!..
– Хватит! – оборвала Ирина. – Оставь, дорогая мама, свои житейские премудрости при себе! Мало тебе, что ты после смерти отца скатилась до этого партначетчика, который чуть не лопается от своей высокоответственности и, даже восседая за чаем в одном исподнем, докладывает, словно на партсобрании, что мясо в Англии едят только лорды! Я, мама, презираю этот утилитарный мир и не собираюсь делать ему реверансы! И пусть я буду есть котлеты за пять копеек...
– За шесть, – не без ехидства поправила ее мать.
– Ну, хорошо, за шесть, – этот мир не дождется, чтобы я расплачивалась за его ветчину божественным эликсиром!
– А я говорю, – вздохнула Пелагея, – изверг-то он изверг, да ведь отец тебе, Лёнюшка, родной! Ну, стали мы с ним кафизмы читать. Ох, бывало, начитаешься – буквы в глазах так и мелькают, так и мелькают, уж и поясницу ломит, и коленки дрожат – столько мы за него поклонов положили! Наконец, снится он мне, отец-то, вечная ему память, на девятый день. Двор, что ли, какой или сквер – темный в дожде, осенний. И лист уже начал валиться – черный такой, волглый, вялый. А он-то стоит по самый пояс в земле, сдвинуться никак не может. А лицо у него злобное такое, ехидное, унылое. Ну, – говорю Лёнюшке наутро, – плохо, мол, дело, худо ему там – в место он попал вязкое, темное да сырое, не знаю уж отмолим ли...
– Нет, нет, нет и еще раз нет! – Ирина взмахнула легким запястьем. – Это не для меня!
Аида презрительно скривила рот.
– Вся моя жизнь, – вдохновенно продолжала она, – была гимном любви и свободе! И я не желаю прибегать к насилию – пусть даже метафизическому, оккультному. Мир не дождется, чтобы я выплясывала канкан под его заунывные звуки! – Волосы упали на ее лицо. – Я не стану разыгрывать на жизненной сцене этот жалкий спектакль!
– А Лёнюшка, – Пелагея вдруг перекрестилась на иконку, – уж и сам за папашу страдать стал. Нет, говорит, Господь милостив, попросим Его еще, до самого сорокового дня. Да как стал поклоны ложить, одна-то сторона у него парализована, так он на вторую припадает, аж заваливается, сердешный! Я уж подумала – конец, тут уж Лёнюшку и удар хватит. Одышка у него – то бледнеет, то в пот его бросает, а он все молится, все молится за папашу своего окаянного. Я уж возопила: Лёнюшка, побереги себя, Христом Богом молю, ведь душегубец он был; как они с матерью тебя сжечь живьем-то хотели, вспомни, за то, что ты такой калечный у них родился! В баньку-то заманили – иди, мол, Лёнюшка, мальчишечка наш, освежись чуток, – а там и подожгли! А перед соседями-то прикинулись, что банька сама загорелась. Запричитали тогда, заохали: там мол, Лёнюшка наш, кровинушка, соколик, горит родимый! А как банька-то дотла сгорела – они рады-радешеньки. Ну, говорят, видно Бог Лёнюшку сам прибрал, чтобы он, калечка горемычный, боле не мыкался!..
М-м-м! М-м-м!
Ирина заглянула в комнату. Старый Александр отчаянно жестикулировал, призывая ее к себе.
– Александр! Надо быть мужественным! – твердо произнесла она.
Он выкатил глаза и показал ей перстом на кресло напротив его изголовья. Она села прямо и напряженно:
– Ну что, что ты хочешь?
Он поднес два пальца к губам.
– Что? Закурить? Поцеловать?
Он радостно закивал. Она зажгла ему сигарету и, раскурив ее, вложила в его сухие подрагивающие губы. Он сделал знак, чтобы она нагнулась, и припал к ее руке.
– Ну что ты, перестань кукситься, а то я перестану тебя уважать! Ты же всегда подставлял ветру лицо. Ты же сам говорил: надо принять смерть, как самого интересного собеседника!
Вдруг он оттолкнул ее и попросил жестами карандаш и бумагу.
«Ирина, – написал он, кто там пришел? Кто там с самого вечера сидит у тебя? Кто это?»
– Спи, Александр, – сказала она с легким раздражением. – Уже поздно, очень поздно. Там тебе принесли лекарства.
«Кто?» – по-печатному вывел он.
– Ах, Александр, ты становишься просто невыносимым. Я же говорю: тебе принесли лекарства – очень дорогие, очень редкие.
Тогда он написал так, что продралась бумага, одно только слово: «Он?»
– Лёнюшка-то, – Пелагея вдруг закрыла лицо руками, – как увидел, что банька горит синим пламенем, возопил отчаянным криком ко Господу, так одна стена горящая перед ним и упала. Ну а там, глядит, сама Царица Небесная в сонме святых угодников. Что да как, и сам толком сказать не может – а только очнулся в стогу – прохладном таком, мягком. А как в себя пришел, так и к матери с отцом является – мол, вон он я, сын ваш, пришел, прошу любить и жаловать! Их чуть Кондратий не хватил; а он и говорит им милостиво: прощаю вам все от чистого сердца – все мои скорби да злострадания – и отправляюсь от вас по земле Российской – авось и отыщется для меня обитель! Да и поклонился им в пояс...
«Ирина дитя мое лучшее мое произведение ангел мой демон умоляю дождись моей смерти и только тогда а сейчас скажи поздно скажи ты устала пусть он уйдет пусть потом Ирина божество свет не уходи там тьма там нет тебя», – писал он уже без знаков препинания.
– Александр, – холодно сказала она и поежилась. – Ты бредишь. Это от боли. Я дам тебе снотворное. Спи. Не мучай меня. Там давно уже нет никого! Я умру, наверное, еще раньше тебя!
– Ну так вот, – продолжала Пелагея, – молимся мы с Лёнюшкой за папашу-то его, за Сидора, а я-то, грешная, все Лёнюшке норовлю пожаловаться, – мол, стара я, не могу больше ни читать, ни поклонов ложить, боюсь, не вымолим мы, Лёнюшка, отца-то твоего из геенны огненной! А он-то как закричит на меня опять: «Молчи, несмысленная, молчи, окаянная! Не нам ли сказано, что мы и душу свою положить должны за други своя и что нету большей любви, чем эта!» А я-то хоть и попритихла, а все плачу и плачу от усталости. Наконец, снится мне на сороковой день папаша-то этот, Сидор, уж как бы и в кепке какой, как бы в каком картузе, да и местность не такая, вроде унылая, вроде бы и снежок покрыл осеннюю-то распутицу. И Сидор этот совсем не так злобно, а совсем как-то мягко смотрит, да поновее выглядит, да, чуть не кланяясь, говорит: ох, из какого же вы меня места страшного да поганого вытащили! Поклон тебе, Пелагея Марковна, и Лёнюшке, сынку моему ненаглядному, калечке моему несчастливому – отцовская моя благодарность!..
«Ну, это – фольклор!» – подумала Ирина, захлопывая еженедельник и засовывая свой тоненький фломастер в сумку.
Дверь распахнулась, и на пороге выросла Лёнюшкина скособоченная фигура.
– Мамаша! – проговорил он гнусавым голосом. – Принимайте сынка!
Из-за его спины выглядывал Саша и молодой черноглазенький монашек, читавший в церкви непонятные изречения.
– Отец Анатолий! – торжественно объявил Саша, пропуская его вперед.
Татьяна и Пелагея подошли к черноглазенькому и с благоговением поцеловали ему руку. Ирина поморщилась:
«Целовать руку мужчине! Фи, это уже просто извращение какое-то!»
– А это – моя любимая маменька! – Саша звонко поцеловал ее в щеку. – Не растрясло ли вас в карете? Не сильно ли гнали лошадей? Не одолела ли вас морока станционных катавасий?
Ирина отметила, что, куражась, он сильно волнуется, и это деланное его бодрячество успокоило ее и придало духу.
– Отец Анатолий, ты уж, прошу тебя, – взволнованно говорил Саша, когда они, ежась от резкого ветра и подхватив для скорости спотыкавшегося Лёнюшку, поспешили к Нехучу, – не удивляйся и не смущайся: мать моя женщина светская, с фантазиями. Она и ляпнуть может что-нибудь экстравагантное, и выкинуть что-нибудь этакое. Больше всего я скандала боюсь! Если уж задумала меня увезти, так уж и увезет, не беспокойся! А так как я не уеду – она тут все раскурочит, все перевернет с ног на голову, все сметет могучим ураганом. Без скандала не обойтись! Ты уж, прошу тебя, разряди как-нибудь обстановку – расскажи ей что-нибудь душеспасительное. Она вообще впечатлительная – во всякую мистику верит. Расскажи ей какую-нибудь крутую историю с прозрениями, с чудесами, какой-нибудь забойный сюжет – ну хоть из тех, помнишь, ты мне рассказывал? Может, если мы здесь и сейчас всем миром на нее насядем – она и сдвинется с мертвой точки?
Отец Анатолий кивал понимающе и даже как будто тоже начинал волноваться, готовясь к предстоящему сражению.
– Она что – в высших сферах у тебя вращается?
– Рассказывать о чудесах неверующему, – вдруг строго заметил монах Леонид, – то же самое, что слепому показывать на солнце. Лукавый может ее так искусить, что она и поглумится, а мы согрешим.
– Ну, Леонид, – заныл Саша, – ну, пожалуйста! Защитите меня! Может быть, она еще увидит во всем этом что-нибудь романтическое, какую-нибудь этакую экзотику да и оставит меня здесь. А сама она – погибает просто: в нее бы сейчас хоть малую заквасочку веры вложить, а остальное – приложится как-нибудь... молитвами святых отец. Я так и чувствую, так и чувствую: сейчас или никогда. Другого ведь шанса может и не представиться!
– Христа надо проповедовать собственной жизнью и смертью, а не всякими там рассказами, – сказал Леонид. – Она как – крещеная?
– Она как – литературой интересуется? – полюбопытствовал Анатолий, выясняя дислокацию.
– Крещеная. Интересуется, – кивнул Саша уже без прежнего энтузиазма.
– Ну понятно, оживился отец Анатолий. – Интеллигенцию надо ее же оружием и разить. Мы ее примерами, примерами из литературы закидаем.
– Давай, давай, отец Анатолий, давай примерами, – воодушевился вновь Саша.
– А науку – как, уважает? А то я могу и за науку ей рассказать.
– Нормально! Давай за науку! – Саша пришел в восторг. – Может, и притчу ей какую расскажешь, может, и какое изречение святых отцов ввернешь, чтоб зацепило! А главное – если что чего, кидайся мне на подмогу! – Саша знал, что будет стоять до последнего, не сдастся без боя и если и уедет отсюда, то не иначе как подневольным пленником.
Несмотря на то, что Ирина была человеком первых реакций и действовала всегда «по наитию», она поняла, что не вполне готова к разговору с сыном и что ей следовало бы заранее продумать линию поведения с ним. Она не знала, стоило ли ей подкупить его ласковыми словами примирения или, напротив, притвориться жертвой его сумасбродства и держаться оскорбленно и холодно до тех пор, пока он сам не попросит прощения. Так и не сделав выбора, она предпочла вести себя до поры так, словно меж ними вообще ничего не произошло и они расстались лишь накануне.
– О, – она протянула руку Анатолию, улыбаясь весело и даже кокетливо, – такой приятный молодой человек и что, неужели уже монах? А какой – черный или белый?
– Как это – белый? – удивился он.
– Ну, черные же, говорят, никогда не моются.
Молодой монашек смущенно засмеялся:
– Ну тогда я действительно белый – только вчера из бани.
– О, это воистину подвиг, – продолжала восторгаться Ирина, – в самую пору молодости, сил, безумных желаний пожертвовать этим миром – знаете, я даже не найду аналогий!
– А когда ж в монахи-то идти, как не в пору сил да молодости, – с готовностью отвечал монах, – когда все это можно принести и положить к ногам Господа? А потом – к каким-нибудь там сорока годам уж и приносить-то нечего – все уже растерял-растратил, одна только усталость и воздыхание.
Ирина поежилась, но, не сбавляя молодого напора, продолжала:
– Так как же мне вас называть? Неужели и мне следует называть вас «отцом»?
– Да хоть горшком называйте, только в печь не сажайте, – развеселился Анатолий.
– Вы так юны, и я почти гожусь вам в матери, неужели я должна, вопреки здравому смыслу, соблюдать эту нелепую условность?
– Священников называют «отцами» не за их возраст, а за чин, – строго вставил Лёнюшка.
– Все равно, простите, не могу, все мое нутро восстает против этого! Мне называть вас так, значило бы – профанировать...
– Пелагея! – вдруг скомандовал Леонид. – Чаю! А то у вас здесь рыбка, а рыбка водичку любит.
– Тихоновна, а ты? Пожалуй-ка к столу! – обратилась Пелагея к хозяйке, которая сидела все в той же позе, что и днем, и уже сделалась как бы частью мебели.
– Не хучу! – отозвалась та.
– Так ведь весь день ничего не ела!
– Не хучу!
– Мне бы хотелось на всякий случай дать тебе некоторые наставления относительно моей смерти, – Ирина жестко посмотрела в глаза Одному Приятелю, то и дело вертя на пальце большое, но изящное кольцо с мутным голубым камнем.








