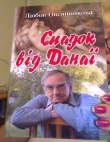Текст книги "Золотая медаль (пер. Л.Б.Овсянникова)"
Автор книги: Олесь Донченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
17
Марийку волновало это новое отношение к ней товарищей. Ей хотелось учиться еще лучшее, и она до поздней ночи просиживала над учебниками. Бывало, что, сделав письменную домашнюю работу, Марийка чувствовала неудовлетворение и тогда переписывала ее заново, еще раз, дополняла, углубляла.
У нее уже успел выработаться вкус к такой настойчивой работе, и приготовление уроков давно стало для нее не обязанностью, а потребностью.
Только одна Нина Коробейник не радовалась, кажется, успехам своей подруги. Нет, так нельзя сказать: не радовалась. Наоборот, Нина часто говорила Марийке, что она восхищается ее ответами, что удивляется ее всесторонними знаниями, расспрашивала, как Марийка работает над уроками.
Но какая-то непонятная сдержанность, равнодушие ощущались в этих разговорах, в том, как относилась теперь к своей подруге Нина. Марийка с удивлением заметила, что Нина уже не ждала ее, чтобы после уроков вместе идти домой, перестала приглашать к себе. А если Марийка приходила без приглашения, Нина была невнимательна и явным образом не радовалась ей.
Окончательно взволновал Марийку один разговор с Ниной. Как-то после уроков Марийка задержалась – глянула, а ее ждет на пороге Нина. В классе уже никого не было.
– Ты скоро? – спросила Коробейник.
– Иду, иду, – обрадовалась Марийка.
Вдвоем они вышли со школы. И вдруг Нина остановилась.
– А знаешь, – промолвила она, – тебе не посчастливилось «угробить» мой сюжет! Рассказ я напишу!
Марийку это просто ошеломило.
– Нина, – вскрикнула она, – что ты говоришь? Разве я хотела «угробить»? Я могла ошибиться, но говорила тебе искренне, от всего сердца.
– Ха-ха, – засмеялся Коробейник, – от всего сердца могла убить во мне желание работать дальше…
Со временем, когда Нина вспоминала этот разговор, ей становилось больно, тяжело на душе. Знала, что напрасно обидела подругу. Первой мыслью было извиниться. Но что-то мешало, какое-то другое чувство не разрешило это сделать.
До сих пор Нина Коробейник была первой в классе. Она не имела других оценок, кроме пятерок. И вот Марийка Полищук тоже стала отличницей. И Коробейник поняла, что пятерки бывают разные. У Марийки они были «особенные» (как впервые об этом высказалась Надежда Филипповна). Все чаще учителя называли Марийку в качестве примера для всего класса, восхищались ее глубокими ответами, ее безупречными контрольными роботами.
Нина ощутила, что она неожиданно оказалась на втором плане. Девушка попробовала и себе засесть за книги, чаще заходила в библиотеку, писала конспекты. Но больше как на неделю у нее не хватало силы воли работать настойчиво. И вдобавок часто посреди напряженной работы над уроками мелькал какой-то новый образ из рассказа, который Нина писала, и учебник откладывался.
Тогда Коробейник решила, что ее пятерки останутся с нею, что и школу она окончит наверно с золотой медалью, а вот как будет с Марийкой – еще неизвестно. Неизвестно, помогут ли ей пятерки текущего года, если в предшествующих классах она большей частью шла на тройках. Выпускной экзамен все покажет.
О золотой медали Нина мечтала страстно, но никому об этом не говорила. Была у нее тайная мысль, что получит она медаль одна-единственная на весь класс, а это же какая честь, какой успех, какая награда!
Нельзя сказать, чтобы Нина не беспокоилась об успехе всего класса. И совсем не против была бы она, чтобы несколько ее подруг получили, ну, скажем, серебряные медали. Но золотую Коробейник оставляла только себе. Она ярко представляла, как на педагогическом совете директор школы громко заявит: «Из всего десятого класса золотой медали заслуживает только Нина Коробейник!»
А как небрежно можно будет выхваляться в разговорах: «В таком-то году я единственная окончила N-скую школу с золотой медалью!..»
Но было бы неправильно думать, что Коробейник училась ради награды или пятерок, как Лида Шепель. У Нины на первом месте были знания, она с глубоким уважением относилась к ученым, писателям, по-ученически вырезала из газет их портреты и некоторое время думала, что самые большие ученые – авторы учебников. Большим было ее разочарование, когда кто-то объяснил, что это не всегда так.
Был двенадцатый час ночи. Нина сидела за уроками. Несколько раз в кабинет отца заходила мать и разговаривала с кем-то по телефону. Нина знала, что мать звонит на завод – отца не было дома второй день, он заканчивал спешную работу.
Неожиданно вспомнилась Марийка. Как часто приходила она сюда, в эту комнату, какие здесь были споры, какие горячие разговоры! Подумалось, что это же она сама, Нина, оттолкнула свою подругу. Марийка, наверное, почувствовала холодок, которым начало дышать отношение к ней Нины.
Коробейник ругала себя за то, что изменила отношение к подруге. Разве Марийка в чем-то виновата? Может, в том, что выходит на первое место среди отличников? Как было бы хорошо, если бы исчезло это мутное чувство, чтобы ясными глазами можно было смотреть подруге в лицо, радоваться ее успехам, помогать ей!
В конце концов приехал отец. Он неуклюже протиснулся в комнату, взял дочкину голову в ладони, поцеловал.
– Побледнела, Нина, побледнела! Наука тяжело дается? Или может, не дают покоя лавры выдающихся романистов?
За поздним ужином Нина спросила:
– Отец, что это за чувство – зависть? Ты когда-нибудь завидовал?
Роман Герасимович положил нож и вилку.
– Ого-го, не раз! Чудесное чувство!
– Нет, ты, пожалуйста, серьезно.
– Абсолютно серьезно, до сотой доли миллиметра. А что, разве я не живой человек? И сейчас завидую кое-кому со своих товарищей по работе.
– Чем же, отец, это чувство – замечательное?
– Вдохновение дает, задор. Чем я, мол, хуже товарища Энского? Ну, и работаешь так, что через месяц-второй, глянь, уже не только догнал товарища Энского, но и перегнал! У него – отличная конструкция детали, а у меня – еще более совершенная!
Нина глянула на отца большими задумчивыми глазами.
– А я, когда завидую, терзаюсь. Минутами просто ненавижу свою подругу. И сознание того, что во мне камнем сидит это чувство, еще больше удручает.
– Ну, это совсем другое, – сказал Роман Герасимович. – Обезьянье чувство. Рудимент. Зависть должна переходить в соревнование, это – по-нашему, по-большевистски. Но не страшно. Выжми себя, как мокрый платок, и все. Пока не останется в сердце ни одной капли такого свинства.
Нина видела – отец стал задумчивый и хмурый, его, наверное, неприятно поразили ее слова.
Задумалась и Нина. В самом деле, откуда у нее появилось это чувство? Неужели у нее такое мелкое и подлое… – да, да – подлое сердце?
А может, во всем виновата Марийка?
Эта мысль была, как назойливый комар, от которого отмахнешься, а он снова и снова жужжит над ухом. Прошли дни, и со временем Нина в самом деле убедила себя, что Марийка – просто выскочка и подхалим, и что в ней до сих пор все ошибались. Остался у Нины еще какой-то уголок сердца, который протестовал против этого «постановления», но на него можно было не обращать внимания.
Как-то в воскресенье пришла Юля Жукова. Нина обрадовалась ей, но Жукова была чем-то обеспокоена.
– Что у тебя с Марийкой? – спросила она. – Вы кувшин разбили, что ли?
Нина пожала плечами:
– Откуда я знаю? Какой кувшин ты имеешь в виду?
– Не хитри, – строго сказала Юля. – Расскажи мне обо всем искренне, как подруге.
Что-то утаить от Жуковой, быть с нею неискренней – дело зряшное. Об этом хорошо знали ее подруги. Да и нельзя было сказать неправду, когда тебе просто в душу заглядывают такие ясные и вместе с тем суровые Юлины глаза.
– И не думаю хитрить, – промолвила Нина. – Но скажи, разве ты никогда не разочаровывалась в людях?
– Ты хочешь сказать, что разочаровалась в Марийке?
– А неужели ты и до сих пор ею восхищаешься? Видишь, Юля, я все проанализировала, все ее черты характера…
– А свои собственные?
– Не понимаю! Ты, Юля, как прокурор. Оставь это. Я тебе все, как есть, расскажу. Разве тебя не поразило, например, что Марийка на семейную вечеринку пригласила своего классного руководителя? Я на месте Юрия Юрьевича не пришла бы!
Жукова удивленно подняла брови.
– Не пришла бы! – упрямо повторила Нина. – Неужели ты ничего не понимаешь?
– Что? Что именно?
– И в самом деле не понимаешь? Но это же обыкновенное подхалимство! Диву даюсь, как она не пригласила еще и директора школы.
Юля громко засмеялась.
– Ты чего? – спросила Нина.
– Над твоим анализом смеюсь! Проанализировала черты характера! Здорово! Знаешь, это и смешно, и возмутительно. Приводит в негодование, Нина! То, что ты мне сказала. Марийка и… подхалимаж! Нет, это надо уметь!
Нина молча кусала губы.
– Меня интересует, – вела дальше Юля, – с какого времени ты заметила у Марийки этот грех? Не с того ли времени, как она с блеском ответила урок о творчестве Леси Украинки?
Нина встрепенулась.
– Ты думаешь, что я… завидую?
– Ты очень быстро угадала, что я думаю! Ты завидуешь успехам Марийки. Марийка стала учиться лучшее за тебя, и это выбило тебя из колеи. В тебе есть такой душок, есть! Ты любишь быть первой.
– Люблю! – вспыхнула Нина.
– И хорошо, что любишь. Но как ты можешь разлюбить подругу, которая тебя опережает? Да ею же гордиться надо, это успех всего класса – еще одна отличница!
Нина тихо промолвила:
– Не ругай меня, Юля. И не агитируй. Я, может, уже много думала над этим…
Юля заглянула Нине в лицо и так же тихо посоветовала:
– А ты еще подумай… Перебори себя. Подумай, Нина…
18
В театре русской драмы шла премьера «Три сестры». Марийка договорилась с матерью пойти на спектакль. Для девушки это был маленький праздник: ведь так редко удается провести вечер с матерью, да еще в театре.
Билеты были куплены заранее. Наступал вечер, но мать где-то задерживалась. Марийка уже волновалась – до начала спектакля оставался один час. Девушка то и дело подбегала к окну глянуть на улицу, напряженно ждала звонка. Матери не было.
Что делать? А может, с нею что-то случилось?
Когда Марийка хотела уже бежать к соседям позвонить по телефону в Институт генетики, в конце концов в прихожей прозвенел звонок.
Стремглав бросилась Марийка отворять и сразу же, глянув на мать, поняла, что с нею что-то не хорошо.
– Мам!
Евгения Григорьевна медленно сняла пальто.
– Дочка, я в театр не пойду. Что-то мне плохо, и наверно, немного повышенная температура, иди, Марийка, сама. Я не могла позвонить из института, извини. Возьми мой билет, пригласи кого-то из подруг. А я… я сейчас – в постель.
– Я не могу тебя оставить, мам. Может, врача вызвать?
Евгения Григорьевна решительно запротестовала:
– Дочка, ничего серьезного у меня нет, никакого врача не надо, а ты сейчас же, пока еще не поздно, иди в театр.
Марийка еще успела зайти к Юле Жуковой, и равно за десять минут до начала спектакля подруги заняли свои места в партере.
В антрактах Юля рассказала Марийке о письмах Чехова, которые она недавно прочитала.
– Знаешь, Мария, – говорила Юля, – я читала эти письма, и у меня все время было странное, до боли острое ощущение живого, понимаешь – живого Чехова! Вот он пишет к брату, к сестре, к Лике, рассказывает о себе, какой новый рассказ написал, куда думает поехать летом, просит подыскать для него дачу – тысяча разных дел, встреч с людьми, образов, ощущений… Ах, Марийка, какой это был человек! С большой буквы – Человек! Я плакала и смеялась, радовалась за Антона Павловича, сокрушалась вместе с ним. А какие у него мысли о литературе – это бриллианты! Нет смысла с тобой разговаривать, если ты не прочитаешь его письма – все три тома! Я не собираюсь быть писательницей, как Нина, но, может, не менее чем она люблю литературу. Кстати, я совсем не узнаю Нину. Она постоянно такая нервная, и… она, я заметила, так некрасиво завидует твоим успехам в учебе. Это уже совсем позорно, совсем! Знаешь, даже Мечик вчера сказал, что между тобой и Ниной пробежала черная кошка. Он тоже заметил.
– Неужели ей было бы приятно, – промолвила Марийка, – чтобы я снова сошла на тройки? Не понимаю этого, хоть убей!
Домой Марийка возвратилась в первом часу ночи. Чтобы не беспокоить мать, взяла с собой ключ. Тихо отворила дверь и вошла. Какое-то тяжелое, гнетущее чувство камнем давило грудь.
«Что это? Неужели такое впечатление от пьесы? Нет, совсем нет». Припомнились почему-то слова Ольги из пьесы: «…Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы будем знать, для чего мы живем, для чего страдаем…», и сразу же отошли.
Мать не спала и обозвалась к дочери. Марийку поразили ее глаза – очень встревоженные, и вместе с тем будто немой вопрос застыл в них.
– Мамочка, что с тобой? Как ты себя чувствуешь?
Евгения Григорьевна хотела улыбнуться, но улыбка не вышла.
– У меня ничего не болит, – сказала она, – я только чувствую слабость. Правда, немного болит голова, и температура повысилась на один градус. А вот на руке появился какой-то пузырек… Ты, Марийка, глянь…
Она показала руку.
– О, уже и второй вскочил…
Немного ниже локтя у матери явно обозначились два пузырька с тонкой кожей, похожие на водянки, которые иногда можно надавить себе во время стирки.
Марийка так сначала и подумала:
– Это же какие-то водянки, мам! Водяные мозоли.
Евгения Григорьевна покачала головой:
– Нет, что-то другое. Завтра пойду к врачу.
Утром пузырьки исчезли, и на их месте появились ранки.
Еще ни Евгения Григорьевна, ни Марийка не знали, что к ним пришло страшное несчастье.
Из поликлиники Евгения Григорьевна вернулась с перевязанной рукой и больничным бюллетенем.
– Как-то странно, – сказала она дочери, – из-за глупых пузырьков врач на несколько дней освободил меня от работы. Ну что я буду делать дома? Да ранки до утра заживут. Буду прикладывать марлю, смоченную в пенициллине, и все будет хорошо.
Тем не менее ранки не заживились ни на следующий день, ни позднее. За неделю все тело Евгении Григорьевны обкидали зловещие пузырьки. Они лопались, образовывали все новые ранки, которые слезились. Отдельные язвы сливались в большие раны. Из поликлиники приехал врач. Марийка хорошо его знала, это был отец Вовы Мороза. Он внимательно осмотрел больную, которой больно было даже пошевелиться.
– Надо в больницу, – коротко сказал он, – в клинику кожаных заболеваний. Нет, нет, дома лечение не даст нужного эффекта. В клинике вам будут делать ванны, перевязки.
Поверх очков он взглянул на Марийку:
– А вы… вы не волнуйтесь так… Вы…
Его голос вздрогнул, и он быстро начал что-то писать в блокноте.
В глазах врача Марийка заметила глубокое сожаление и еще что-то непроизнесенное; и тревога еще сильнее сжала ее сердце.
– Я прошу вас… – обратилась она к врачу. – Какой диагноз? Что это за болезнь?
И вдруг увидела, что врач засуетился, отвел глаза, неуместно развел руками, пробормотал скороговоркой:
– Бесспорно, тяжелое заболевание кожи… Еще не совсем изученное. Но обязательно вылечим… Поставим вашу маму на ноги.
Марийка закрыла за врачом дверь и вернулась к матери. Пораженная, остановилась на пороге: мать, превозмогая боль, улыбалась! Но не могла она совсем скрыть усилие, которого ей стоила эта улыбка.
– Дочка, ты волнуешься большее, чем я. Поверь, все будет хорошо!
Тогда, невероятным усилием воли подавив спазм, перехвативший горло, Марийка ответила:
– А разве у меня есть какие-то сомнения? Через неделю ты будешь здорова!
В тот же день Евгению Григорьевну забрали в клинику.
Вечером пришли Нина и Юля, они уже знали про Мариино горе.
– Слушай, Мария, – сказала Юля. – Не думай, что мы пришли развлекать тебя или утешать. Не такая, наверное, у тебя грусть на сердце, чтобы ее можно было так легко развеять. Но все-таки с нами тебе будет не так одиноко. Правда же?..
Втроем сели пить чай. Невеселый он был.
– Меня беспокоит, – задумчиво промолвила Марийка, – что у мамы какая-то загадочная болезнь. Врач почему-то не назвал ее… В самом ли деле не знает, или не хотел сказать…
– Возможно, что это – на нервной почве, – сказала Нина. – Я читала, что много кожаных болезней нервного происхождения. А вот гангрену так даже лечат тем, что делают операцию на каком-то там нерве. Это – факт.
– Ну, в наше время, – подхватила Юля, – почти нет неизлечимых болезней. Страшнее всего – рак, тем не менее и от него вылечивают, если своевременно определяют. Я верю, что пройдет десять-пятнадцать лет, и наши ученые найдут какое-то мощное средство долголетия. Вот увидите, девчата. Мы будем жить до ста пятьдесят лет.
Потом разговор зашел о грядущих выборах в местные Советы. Юля рассказала, как она делала в агитпункте доклад о Конституции СССР, и потом посыпалось столько вопросов о международном положении, что ответы на них забрали больше времени, чем сам доклад.
– Я могла бы сказать, – рассказала Юля, – что вопросы – не по теме доклада, но, думаю, правильно ли это будет? Да и как же так: я – агитатор, и уйду, не ответив избирателям? Ну, и стала отвечать на все вопросы. А многие из них такие: «Когда же Народно-Освободительная армия Кореи скинет в море разбойников-интервентов?» Или: «Почему рабочий класс Америки не запретит своему правительственные гонку вооружений?» Ну, среди избирателей веселое оживление, кто-то бросает реплику: «А потому, что это совсем не „свое“ правительство!»
– У меня завтра тоже беседа, – сказала Марийка. – С домашними хозяйками. Это мой дебют как агитатора. Как вы думаете – не провалюсь?
– Ну, вот! – промолвила Юля. – Только знаешь что? Мы тебя освободим от агитаторских обязанностей в связи с болезнью Евгении Григорьевны.
– Нет, – резко возразила Марийка. – Я буду работать, как и раньше. Найду время и маму посетить, и на беседу пойти.
* * *
Беседа происходила в красном уголке большого жилкоопа. Марийка пришла с конспектом, диаграммами и даже картой построения новых гидростанций, вырезанной из «Правды». Намеренно медленно она раскладывала весь этот материал на столе, ожидая, пока уляжется волнение.
– Молоденькая, – услышала она разговор двух бабушек в первом ряду. – Как моя Зиночка.
– Бумажки раскладывает, – промолвила вторая бабушка, – чтобы не запутаться. На прошлой неделе приходил к нам лектор и, несчастный, возьми и запутайся. Все слова растерял. Так мы едва помогли ему распутаться.
– Да, у них тоже дело деликатное, у этих агитаторов и лекторов. Науку проходят.
Марийка глянула перед собой. В комнате уже было полно народа – и женщин, и мужнин. Недалеко сидел дедушка – седой, но бодрый и, видно, говорливый. Он что-то потихоньку рассказывал своей соседке – женщине с белым шерстяным платком на плечах, а та то и дело легонько прикрывала ухо. Пришло несколько девчат, а за ними еще два дедушки…
«Здесь не только домашние хозяйки, – подумала Марийка. – И старики пришли, и девчата. И все они ждут от меня интересного разговора. Им, наверно, не нужна голая агитация, их интересует содержательный, убедительный рассказ, и побольше фактов, фактов…»
Марийка постучала карандашом, и в комнате настала тишина. Седой бодрый дедушка приставил к уху широкую ладонь рупором.
– Я не буду читать вам ни лекции, ни доклада, – начала Марийка. – Сегодня все мы будем здесь докладчиками… Давайте поговорим от чистого сердца о нашей жизни, о нашей работе, обо все том, что дала нам священная и незыблемая Конституция СССР. Я напоминаю вам, что записано в этом великом документе.
Марийка рассказала об основных статьях Конституции и спросила:
– Кто хочет сказать свое слово?
Более всего девушка боялась, что после этого вопроса настанет долгая пауза. Хотя любому из присутствующих и было о чем сказать, но не каждый хотел выступать первым, хотелось послушать, что скажут другие. А кому все равно было – первым выступать или последним, тому мешала неуверенность в своих ораторских способностях. Рассказать в круге знакомых или друзей какую-то историю или интересный случай – это да, но другое дело выступить с рассуждениями перед таким собранием.
Может быть, и в самом деле не сразу начали говорить присутствующие. Но Марийка, как только начала беседу, так и наметила себе сухонькую бабушку в первом ряду – кажется, ту, что рассказывала о лекторе, который «запутался». Эта бабушка стала Марииным «барометром». По ней можно было наблюдать, как влияют на аудиторию слова докладчика.
К ней Марийка сразу и обратилась:
– Вот, наверное, вам, – извините, что не знаю ни имени, ни отчества, – есть что сказать…
– Евдокия Игнатовна, – промолвила бабушка.
– Ну, мы просим вас, Евдокия Игнатовна, сказать свое слово о великом законе советского народа – о Конституции. Вы – с места, можно сюда не выходить.
Бабушка встала, повернулась лицом к слушателям:
– А скажу я то, что такого закона, может, сотни лет ждал русский народ. Сестру мою родную… Наталочку… ее же кровопийцы после девятьсот пятого на каторгу послали, и не вернулась оттуда. А за что? За то, что думы у нее были о народном законе… Чтобы не золотой телец правил миром, а труд. До чего же хорошо сказано в Конституции о труде!.. Старшенький мой, Сашенька, профессором в лаборатории. Подумайте, за прошлый месяц сорок опытов проделал! Когда работает, забывает поесть. Средний – Аркаша, тот на заводе тракторы выпускает, а Петя – в Зелентресте цветами заведует. Любит он очень цветы… Трое их у меня, сыночков, и все постов каких достигли! Так как дано им право на образование и труд. А сестра моя родная, Наталочка…
Бабушка всхлипнула, достала платочек и села. Ее соседка тоже всхлипнула и тоже вытерла глаза платочком.
– А можно мне? – обозвалась молодая красивая женщина. – Я хочу рассказать, как впервые на самолете летала.
По комнате прокатился легонький смешок.
– И то – дело! – произнес кто-то негромко.
– Я не для смеха хочу рассказать, – промолвила женщина, – а чтобы поблагодарить нашу Советскую власть и родную партию! Три года тому назад я работала слесарем на машино-тракторной станции. Было это в степях, до ближайшей железнодорожной станции семьдесят километров. И вдруг начинает у меня болеть нога. Болит день, второй. Глянула – а оно и кожа на пальцах уже не белая, а серая стала, будто мертвая. Я – в районную поликлинику. Глянул врач, и говорит: «Вам немедленно надо делать операцию».
«Как это? Пальцы отрезывать?» – испугалась я.
«Нет, возможно, что пальцы еще спасут. Операцию вам сделают в городе сегодня вечером».
«Как это вечером? Да туда же сутки ехать железной дорогой!»
«А самолет, – говорит, – зачем?»
– Вы слышите? Для меня самолет! И что я за персона? – «А вы простой советский человек, – говорит врач, – слесарь! Сейчас вызову самолет». И что вы думаете? Прилетел санитарный самолет, забрал меня, и в самом деле в тот же день вечером сделали мне операцию, и пальцы спасли, да и жизнь… А что, думаю себе, если бы жила я в Америке и не имела долларов, осталась бы я живой? Чтобы вот за мной прилетел самолет? Да никогда в мире!
«Кто же здесь агитатор? – с внутренней улыбкой подумала Марийка. – Я, бабушка ли, эта ли женщина, все ли присутствующие?»
Потом встал бодрый седой дедушка.
– Самолет, конечно, это, – сказал он, – забота о нас, трудящихся. А я вот пенсионер, бывший пекарь. И скажу про своего сына Гришу. Начинал он обучение в ремонтной мастерской. А сейчас где мой Гриша? Строит Каховскую гидростанцию! Вот где он! И кто он, скажут! Хе-хе, Гриша мой депутат Верховного Совета нашей республики. В народном парламенте Гриша!
Вдруг сорвался хлопок, второй, его подхватили другие, и громкие аплодисменты загремели в комнате. Дедушка хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и сел.
Марийка воспользовалась словами старика.
– Я сейчас всем покажу, где работает ваш сын…
– Григорий Гаврилович, – подсказал дедушка.
– …где работает ваш сын Григорий Гаврилович…
Она пришпилила к стене карту новостроек и показала кружочек на Днепре.
– Вот место будущей исполинской Каховской электростанции.
Марийка рассказала, сколько электрической энергии будет давать новая гидростанция, какой мощности машины будут работать на ее строительстве.
– Это забота нашего правительства и Коммунистической партии о нас, простых людях, – закончила она. – Чем большее будет у нас таких электростанций, – тем скорее настанет коммунизм…
– И Гриша точь-в-точь так говорил, – сказал дедушка. – Жаль, не взял я его последнего письма, он там все описывает.
Когда Марийка вышла на улицу, был уже поздний вечер, мороз становился крепче, скрипел под ногами снег. Девушка спешила домой.
Думала о матери, и невыразимая точка растравляла душу.
«Эх, мам!.. Мамочка!..»