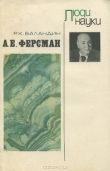Текст книги "Ферсман"
Автор книги: Олег Писаржевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
«Уэлльсит из окрестностей Симферополя и его парагенезис».
Что можно сказать о них, а также о работах на Эльбе, кроме того, что они свидетельствовали о блестящей талантливости их автора? Эти работы были отмечены новизной научного подхода, свойственной школе Вернадского. Описания минералов дополнялись этюдами, посвященными их происхождению.
Каждое исследование прочным камешком ложилось в основание новых работ и знаний. Никто не мог сказать, что история происхождения сверкающего белого пушка или грубой «горной кожи» палыгорскита, жемчужно-серых или розоватых пленок или кристалликов леонгардита из крымских каменоломен не заслуживали самого пристального изучения. И вместе с тем никто бы не взялся утверждать, что именно с этих исследований нужно было начинать. Не эти, так другие, такие же необязательные, даже с точки зрения развития самой науки.
Если бы в то время кто-нибудь высказал эти сомнения А. Е. Ферсману, тот бы, вероятно, искренне удивился. Не все ли, в сущности, равно, какие кристаллы лежат на столике гониометра, какие факты подтвердят, несомненно, правильные, интересные и прогрессивные взгляды представителей молодой химической школы да сложную жизнь минералов в природе?
Толчок мысли дан, и Ферсман наслаждается ее одиноким парением.
Почему он никого не берет с собой на розыски камня?
Он ссылается на трагедию, невольным участником которой стал. Подробностей ее не знает никто. Спустя десятилетия, по совершенно другому поводу, читатели его воспоминаний узнали о том, что какая-то девушка – его товарищ по профессии – в одно из совместных странствий нашла настоящую жилу с красными кристалликами, сидящими в зеленом халцедоне, с перламутровыми иголочками и с большими кристаллами белого кальцита. Ее глаза – глаза охотника и игрока – горели, когда она сбрасывала дрожащей от волнения рукой отбитые образцы вниз. И вдруг она, как белая бабочка, прижалась к заколебавшемуся и раскаленному солнцем утесу всем своим телом, стараясь удержаться на нем… А потом – острый крик, шум падающих каменных глыб, всплеск воды и мертвая-мертвая тишина…
Так или иначе, Ферсман стремился остаться наедине со своими мыслями и со своими камнями.
Это одиночество было, конечно, не абсолютным.
В буднях лаборатории и минералогического кружка искания развивались в разных направлениях, и среди участников молодой геохимической школы подчас вспыхивали дружеские споры. Ферсман, например, любовно вздорил с Шубниковым и его союзником кристаллографом Вульфом.
Все они сильно отличались друг от друга и внешним обликом и темпераментом. Из всех научных сотрудников, окружавших тогда Вернадского, Александр Евгеньевич выделялся своей массивностью и вместе с тем подвижностью, характерным звонким голосом «и еще чем-то, что влекло к нему всех его знавших», как вспоминают его друзья той поры. Ферсмановской живости характера, широте мысли, быстроте и смелости в действиях противостояли характерные для Вульфа медлительность и осторожность в выражениях. Ферсман и Вульф постоянно вступали в небольшие стычки по самым разнообразным поводам; и хотя эти столкновения обычно проходили в легком, полушутливом тоне, они отражали, конечно, не только различие темпераментов, но и взглядов. Александр Евгеньевич сражался за признание особого значения минералогии и кристаллографии в познании природы Вульф считал кристаллографию только частью физики, а минералогию – частью химии, больше того, прикладной химии. «Ах, уж эти физики! – говорил иногда Ферсман по адресу Вульфа и Шубникова, действительно, так и оставшихся физиками. – Мы им еще покажем!»
Ферсман был всегда деятелен, и никому из его друзей не приходилось видеть его отдыхающим. Он любил говорить по этому поводу, что, будучи создан природой в форме шарообразного тела, – при этом он весело проводил рукой по ежику своей круглой головы, – вынужден постоянно куда-нибудь катиться «Охота к перемене мест» была одной из сторон его беспокойной натуры. В рассказах его друзей тех времен сохранились упоминания о том, что вагонная обстановка не только не мешала работе Ферсмана, но, видимо, способствовала его стремлению освободиться от постоянно окружающих его людей.
Ферсман бывал сосредоточенным до рассеянности. При сдаче государственного экзамена по ботанике он чуть не срезался на пустяковом вопросе, потому что, по собственному признанию, обдумывал формулу цеолита. До известной степени подобное самоограничение было оправдано. Наука требует дисциплины, железной концентрации всех сил. Но может ли человек, который готовится стать исследователем, оставаться глухим к самым животрепещущим вопросам познания природы, хотя бы и не имеющим непосредственного отношения к его специальности? А ведь на его глазах развертывалась поучительная борьба, она шла глухо, в скрытых формах, но в ней принимала участие вся мыслящая часть студенчества, увлекавшаяся трудными, но неотразимо убедительными лекциями по сравнительной анатомии Михаила Александровича Мензбира.
Его противник – Тихомиров, ректор университета, читал общий курс зоологии и употреблял все усилия для того, чтобы «разбить» Дарвина. Мензбир, убежденнейший дарвинист, во всеоружии фактов давал этим наскокам резкий отпор.
Один только Ферсман был настолько равнодушен к этому поединку, волновавшему весь университет, что не бывал даже на лекциях Мензбира. На экзамене по сравнительной анатомии его спасли только обширные познания по палеонтологии.
Были в этой молодой, так удачно налаживавшейся жизни легкость, талант. Александр Ферсман творил походя, словно играя сознанием приобретенного им могущества. Но была ли способна его наука сделать кого-либо счастливым – над этим он даже не задумывался. Мысли о служении народу, о социальном назначении науки были ему в ту пору чужды. Отчетливее всего это проявлялось в том, что в первых отличных работах Ферсмана не ощущалось главного: стремления угадать острые потребности жизни и ответить на них.
Счастлив ли он был сам? Возможно. Ведь его требовательность была еще невелика. Первые успехи пьянили его…
Но почему же на помощь юноше не пришла крепкая рука его учителя, мудрого и бесконечно благожелательного В. И. Вернадского? Не он ли должен был приложить все силы, чтобы вывести А. Е. Ферсмана с узкой тропинки его творческого уединения на широкую дорогу борьбы за новые знания во имя больших человеческих целей?
В достаточно отчетливой форме подобных задач не ставил перед собой и сам Вернадский. И не очень настойчиво звал к их решению он и своих учеников в долгих дружеских беседах в лаборатории или с университетской кафедры. Вернадскому принадлежат большие заслуги перед русской наукой – заслуги мыслителя и деятеля, смело раздвинувшего границы нашего знания, поставившего перед наукой ряд проблем, многие из которых продолжают плодотворно разрабатываться и в наши дни. Но насколько больше он мог бы сделать, сознательно владея материалистической диалектикой, которой он интуитивно пользовался в минуты творческого озарения, но не понимал и не признавал в гласных выступлениях!
Сохранились записи необязательных лекций, читанных на эти – мировоззренческие, как мы сейчас их называем, – темы В. И. Вернадским в университете. Мы раскрываем их с тем чувством уважения, которое невольно вызывает каждая строка, принадлежащая перу выдающегося человека. И с горьким разочарованием перевертываем последнюю страницу, расставаясь с этими зыбкими конструкциями мыслей, не имеющих прочного социального фундамента и понимания связи науки с потребностями общества! Сам Вернадский говорит в них о научном мировоззрении как о чем-то «изменчивом, колеблющемся и непрочном». Еще бы! Не опыт, не критерий практики, по его мнению, а «чувство заключает в себе единственное проявление истины». А это определение не было ни верным, ни новым. Оно давно стояло на вооружении идеалистической школы буржуазных философов и успешно развенчивалось наступавшими по всему научному фронту материалистами-диалектиками.
А если все подчинено чувству, – что определяет жизненную цель и назначение человека и ученого? Может ли и вправе ли он, находясь во власти этого обожествленного чувства, растратить свою обидно короткую жизнь на творчество, не устремленное к одной большой цели, и чего стоит такое творчество? Пятнадцать раз в жизни может посеять семена селекционер, тридцать раз может выйти в поле минералог. И это всё! А «всё» – это уже итог. И проводя под ним неровную старческую черту, простит ли себе эту самую жизнь человек, наделенный смолоду ярким талантом и живыми силами, обогащенный знаниями, накопленными всем человечеством, но израсходовавший их, следуя лишь смутным капризам изменчивого чувства. Не пожелает ли он любой ценой вернуть растраченные им драгоценные годы и направить их по другому руслу – в море всенародного труда?
Поправляя очки и подняв легкую худую руку, Вернадский говорил усердно внимавшим ему студентам:
– Выдвижение на первое место той или иной проблемы зависит только от человеческой личности; время их чередования – от присутствия или отсутствия в данной стране понимающей значение данной проблемы или умеющей ее формулировать личности…
Каждый сам себе судья…
Как это неверно! Это расходилось с жизненной практикой самого Вернадского. Он вырос как ученый на менделеевских и докучаевских дрожжах. Великим деятелям русского естествознания – учителям и предшественникам Вернадского – всегда была свойственна особая широта взглядов и смелость постановки новых задач, желание служить народу, и этому соответствовало величие достигаемых результатов.
Ради чего Докучаев изучал почвы Полесья и Урала, волжской поймы и северных лесов?
Ради чего он повсюду собирал образцы почв, классифицировал их, подвергал исследованиям и много раз проверял свои выводы?
Только ли ради доказательства правоты отвлеченной научной идеи годами блуждал он по лесам, проваливался в болота, пересекал тысячеверстные степи, менял железнодорожный вагон на тряскую бричку, колесный пароход – на арбу в воловьей упряжке? Зачем он верхом на лошади поднимался на северные отроги Кавказского хребта и предгорий Крыма и пробирался пешком по самым глухим, бездорожным местам, останавливался каждую версту, чтобы вырыть метровую яму или, как говорят почвоведы, сделать почвенный разрез? И все это он делал не только ради самой науки, но и ради того, чему должна была служить эта наука.
Земля его Родины была больна.
Из года в год ее разрушали сохой, выгоняли скот на жнивье, и скот вытаптывал почву. Распыленная, неприкрытая земля была беззащитна против ветра, и ураганы вздымали над полями черные земляные бури. Больную почву прорезали быстрорастущие овраги, от которых еще быстрее чахли поля вокруг.
Докучаев был похож на врача, который, волнуясь сам, тщательно исследует больного и, зная всю тяжесть установленного им недуга, вступает в долгую борьбу за жизнь и исцеление своего пациента. И Докучаев вел всю свою жизнь эту изнурительную борьбу с общественной и бюрократической рутиной, с безучастным и пассивным отношением многих слоев русской интеллигенции к окружающей их жизни, с личным самолюбием и эгоизмом жрецов от науки. Докучаев боролся смело, не отступая перед препятствиями, казавшимися непреодолимыми. Он мечтал о специальных научно-исследовательских институтах, о переделке засоленных почв, о радикальном улучшении подзолов, о лесных полосах в степи, об искусственном орошении, о строительстве плотин, о травопольном севообороте, об осушении болот, о создании широкой сети зональных опытных станций. Он создал и рабочие проекты всех этих грандиозных мероприятий. Но воплотить их в жизнь оказалось возможным только в нашу эпоху, в ходе социалистической перестройки сельского хозяйства. И все же, рожденные им, они жили как светлая мечта и призыв к революционному преобразованию природы нашей Родины, ограбленной плохими и бездарными хозяевами.
Болезни русского земледелия имели свое имя: царское самовластие и капитализм, с природой которого рациональное земледелие было несовместимо. Этих врагов нужно было сокрушить, чтобы осуществить докучаевскую мечту о возрождении и приумножении плодородия нашей почвы…
На первых порах подобные большие идеи о социальном назначении науки не волновали школу Вернадского, хотя ему и некоторым его ученикам не был чужд интерес к практическим приложениям науки. В своих общественных выступлениях Вернадский неоднократно высказывал вслух мечты о связи науки и практики на отечественной почве, но некоторое время и его собственные научные увлечения и работы его ближайших учеников ограничивались усовершенствованиями новых методов исследования, рождавшихся в минералогии.
Это был необходимый этап развития науки по пути от минералогии к геохимии, хотя, разумеется, он мог и не ограничиваться чисто лабораторными исканиями.
Нужно было не только в собственном сознании, но и в сознании широких кругов минералогов преодолеть ощущение привычного контраста между неизменностью твердой земли и вечным движением воды на ее поверхности. Надо было внедрить в широкие круги естествоиспытателей понимание того, что твердая земля живет своей жизнью, движется, дышит, превращается, изменяется, перегруппировывается, что в ней самой идет огромная и сложная физическая и химическая жизнь.
Надо было целые отряды исследователей заинтересовать стремлением прочесть в природе историю странствований отдельных химических элементов.
Таков был общий смысл проникновенных бесед Вернадского с его учениками. А когда он устало замолкал, заключив живой разговор, одиннадцать участников минералогического кружка переглядывались: пора! Заседание закрывалось до новой встречи через пять-шесть, а то и восемь месяцев.
В ежегоднике геологии и минералогии появлялся отчет: такие-то лица сделали такие-то сообщения; библиотека Минералогического общества приобрела столько-то новых книг; в коллекцию поступило столько-то новых минералогических приобретений.
Все это были наружные вехи, которые указывали, что под этой зеркальной тишиной таилось движение. Казалось, что так и должно быть: познание природы, как река, сливается из тысячи подобных незаметных струй. Вольно и неторопливо течет эта река в отведенных ей берегах. Не зашелохнет, не прогремит…
Где-то там, далеко за пределами этого тихого мирка, раздавались грубые, нетерпеливые голоса практиков. Для них минерал был лишь материалом, который в редких случаях они соглашались принять в том виде, в каком создавала его слепая природа. Инженеры и техники где-то бились уже над созданием искусственных материалов, которые должны были обслуживать многообразные нужды человечества.
Но все эти голоса доносились до кафедры минералогии Московского университета приглушенно, и отклик на них был пока еще очень слаб.
К университетскому периоду жизни Ферсмана относится одно его интересное исследование – интересное главным образом с методической стороны, в духе главных устремлений школы Вернадского того времени.
В 1907 году после сдачи всех государственных экзаменов Ферсман был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Традиционная двухгодичная командировка в Гейдельберг привела его в лабораторию знаменитого кристаллографа Виктора Гольдшмидта. Как еврей, тот был лишен возможности занимать кафедру при университете и вел лишь некоторые необязательные занятия со студентами. Свою лабораторию Гольдшмидт содержал на собственные средства, в которых не был стеснен. Он воспользовался присутствием Ферсмана, чтобы осуществить весьма дорогостоящее исследование алмазов.
По его поручению Ферсман объехал ряд крупнейших ювелирных мастерских Запада, отбирая наиболее интересные кристаллы природных алмазов для их изучения.
«Во Франкфурте, Ганау, Берлине, – рассказывал Ферсман, – на особых столах рассыпались десятки тысяч каратов природных алмазов. Целые часы я отбирал наиболее диковинные кристаллы этого диковинного минерала».
Гольдшмидт хотел получить новые данные об условиях образования кристаллов и был крайне заинтересован в совместной с Ферсманом работе над алмазами. В лице молодого русского исследователя он приобретал не ученика, а вполне компетентного и талантливого ученого-сотрудника. Ферсман с первых же шагов проявил свое виртуозное мастерство в измерении кристаллов. Он почерпнул его у своего великого вдохновителя – замечательного русского кристаллографа Евграфа Степановича Федорова, внесшего революционный переворот не только в кристаллографию, но и в минералогию в целом. В то время когда Ферсман посетил Гольдшмидта, в Россию к творцу новой науки о кристаллах и новых методов их исследования, к профессору Петербургского горного института Федорову стекались кристаллографы, петрографы и минералоги со всего мира Там гостил профессор Баркер, специально командированный Оксфордским университетом для занятий под руководством Федорова, и профессор Дюпарк из Женевы, и профессор Джимбо из Токио, и многие-многие другие. Весь ученый мир переходил на новые методы исследования, которые не только убыстряли изучение кристаллов, но позволяли закономерно связывать внешнюю форму кристаллов с их химическим составом. Этими новыми методами исследования минералов Ферсман овладел в совершенстве, и он повез их в Европу.
В годы своего студенчества он еще застал Е. С. Федорова в Москве. Гениальный ученый заведовал до 1905 года кафедрой геологии и минералогии в Московском сельскохозяйственном институте, созданном взамен разгромленной реакцией в 1892 году Петровской сельскохозяйственной академии. Эта кафедра, имевшая лишь подсобное значение для института, готовившего агрономов, стала в то время местом паломничества для молодых минералогов и кристаллографов не только Московского, но и Петербургского университетов, и даже Петербургского горного института.
Е. С. Федоров всех принимал, всем помогал, всех учил. Красивая голова уже стареющего профессора с откинутыми назад серебристыми кудрями и с седеющей бородой долгими часами склонялась над образцами новых приборов.
Обобщая фактический материал атомистики, накопившийся путем долголетних наблюдений и исследований сотен ученых, Е. С. Федоров математическим путем установил 230 разновидностей симметрических фигур, в которые могут слагаться атомы в кристаллических структурах. Каждая из 230 совокупностей элементов симметрии соответствует совершенно определенным положениям элементарных частиц кристаллических структур, то-есть атомов. В каждом из 230 видов симметрии, выведенных Е. С. Федоровым, могут кристаллизоваться лишь определенные химические соединения, так как характер вхождения атомов в химическое соединение не является произвольным. Закон кристаллографической симметрии позволяет, таким образом, проследить связь химического состава со строением кристаллов [18]18
Десять лет спустя после смерти Е. С. Федорова выдающимся советским кристаллографом, многолетним соратником А. Е. Ферсмана, профессором А. В. Шубниковым на новом обширном материале был четко сформулирован общий закон этой связи, всецело опирающийся на гениальные выводы Е. С. Федорова.
[Закрыть].
Алмаз – прекрасный пример зависимости свойства вещества не только от природы молекул, но и от их расположения в кристалле.
По составу алмаз ничем не отличается от графита: и тот и другой представляют собой чистый углерод, хорошо знакомый нам как одна из главных составных частей дерева, соломы, каменного угля. Прозрачный, сверкающий алмаз отличается от черного, мягкого, пачкающего графита только тем, что атомы углерода расположены в кристалле алмаза иначе, чем в кристалле графита.
Изучая кристалл, прежде всего измеряют углы между его гранями. В старину эти измерения производились прикладным угломером, а потом в помощь исследователю был использован луч света, отраженный от блестящих и гладких кристаллических граней. Отраженный луч направлялся в зрительную трубку. Поворачивая кристаллы на определенный угол, в ту же трубку улавливали и второй отраженный луч от второй кристаллической грани. Величина этого поворота показывала угол между двумя гранями кристалла. Для того чтобы в таком приборе перейти от одного угла к другому (а некоторые кристаллы представляют собой сложные многоугольники), нужно было весь кристалл на приборе переставлять медленна и нудно, подражая простаку-повару из ломоносовской притчи, который «вращал очаг вокруг жаркого». Этому-то занятию и посвящал целые дни трудолюбивый академик Кокшаров на протяжении всех сорока лет создания своей описательной минералогии. В старину работа на таком приборе – гониометре – в смысле точности и ловкости сравнивалась с искусством фехтовальщика. «Кристаллоизмерению, – писал один знаменитый минералог прошлого столетия, – научаются лишь с большим трудом, а чаще всего и вовсе не научаются».
Е. С. Федоров придумал поразительно простое и изящное усовершенствование этих измерений. Он заставил вращаться кристалл на гониометре в то время, как его исследователь спокойно сидел на одном месте, улавливая отблески и записывая отсчеты. Для этого он изобрел особый, универсальный, так называемый двукружный гониометр, который позволяет исследовать один и тот же кристалл с самых разнообразных сторон. Этот гониометр – незаменимое орудие всех минералогических исследований во всем мире.

Федоровский теодолитный столик: а– ранняя конструкция, б– современный пятиосный федоровский столик советской конструкции. Столик привинчивается к обычному микроскопу. Исследуемый препарат помещается посередине столика Федорова и может наклоняться вокруг осей последнего. Наклоняя столик в разные стороны, мы можем исследовать один и тот же кристалл в разных ориентировках.
Теодолитный метод заимствовал некоторые приемы астрономических измерений, отсчетов и вычислений. Каждая грань кристалла, вернее каждый отраженный от нее луч света, получает свое место на воображаемой сфере, описанной вокруг кристалла. Такая сфера условно покрывается отдельными точками (как звездами на небе). Относительное положение этих точек, отвечающее положению соответствующих им граней кристалла, измеряется примерно так же, как это делают географы, – по широте и долготе. Если эти точки нанести на бумагу, получается проекция кристалла, напоминающая обычные географические или астрономические карты.
Отметим попутно огромную роль, которую сыграли важнейшие работы Е. С. Федорова в изучении горных пород.
В гранитах, состоящих из розовых или желтых участков полевого шпата, бесцветного кварца и черных или белых листочков слюды, каждый обломок их – сложное собрание кристаллов. Отдельные их зерна возникали при застывании в земле огненно-жидкой магмы. Они совсем не похожи на те кристаллы, которые мы привыкли видеть в музейных витринах в качестве поучительных образцов. У них нет правильных граней, контуры их искажены. Ведь множеству кристалликов приходилось одновременно расти в магме, они теснили друг друга и застывали, не успев в этой борьбе расправиться, вырасти до нормальных размеров.
Для исследования такой породы под микроскопом по методу Е. С. Федорова изготовляют один-единственный срез. Плоскость такого среза совпадает со случайными сочетаниями разнообразных кристаллических зерен, из которых он состоит. Но на изобретенном Е. С. Федоровым так называемом теодолитном столике можно всесторонне исследовать каждое такое зерно, не вылущивая его из общего скопления. Быстро и точно можно в один прием определить на основании оптических данных различные минералы, слагающие ту или иную породу, выяснив тем самым ее состав.
Теоретические обобщения Е. С. Федорова и его приборы открыли для минералогов возможность пользоваться формой кристаллов, как одним из важных, а при камеральной обработке образцов иногда и единственным, решающим признаком для определения их химического состава. Для того чтобы оценить значение этого переворота в методах исследования горных пород, нужно сравнить способ суждения по внешним формам о внутреннем строении кристалла с обычным химическим анализом. При химическом анализе вещество переводится в раствор, то-есть не сохраняется; после оптического измерения кристалл остается неизменным. Для определения химического состава кристалла по методу Е. С. Федорова, как бы ни был сложен этот состав, достаточно одного лишь кристаллика величиной хотя бы с булавочную головку. В особенно благоприятных случаях исследование длится всего лишь пятнадцать-тридцать минут; при самых сложных обстоятельствах оно занимает около трех-четырех часов.
Эти тонкие и совершенные новые методы исследования встретили полное понимание и сочувствие Гольдшмидта, который и сам вел поиски в том же направлении.
Сверкающий и более твердый, чем прочие тела природы, несокрушимый алмаз [19]19
Повидимому, само слово «алмаз»происходит от греческого слова «неукротимый», «непреоборимый», «недоступный».
[Закрыть]интересовал Гольдшмидта и Ферсмана своими практически важными свойствами. Алмазным острием производятся такие грубые работы, как разрезывание стекла. Им же наносят самые тонкие деления на столь деликатные приборы, что отдельные линии измерительных шкал на них можно разглядеть лишь в увеличительное стекло. Алмаз, вправленный в наружный край буровой коронки, позволяет буру разведчика-геолога или промысловика вгрызаться в самые твердые породы земных глубин. Алмазный порошок, наносимый на край тонкой пилы, позволяет пилить сталь и камень. Что касается самого алмаза, то до недавнего времени (когда искусственным путем в плавильных печах был получен карбид [20]20
Соединение с углеродом.
[Закрыть]бора, иногда превосходящий своей твердостью алмаз) его можно было царапать, резать или полировать только другим алмазом. Он не горит в обычном огне и лишь при температуре свыше 800 градусов его можно сжечь в расплаве селитры. Алмаз особенным образом рассеивает лучи солнца, как это делают капельки дождя, образующие на небе яркую пеструю радугу. Радужный блеск и создает чарующее впечатление от этого камня.
Особенное внимание Гольдшмидта и Ферсмана привлекали к себе деформированные кристаллы алмаза из южноафриканских месторождений. Эти странные кристаллы, ограниченные округлыми поверхностями и искривленными ребрами, не поддавались измерению обыкновенным отражательным гониометром. Их точное кристаллографическое изучение оказалось возможным только при помощи двукружного гониометра Е. С. Федорова.
При этом исследовании Ферсман обратил внимание на ребра деформированных кристаллов, которые имели такой характер, словно кристаллы были разъедены, оплавлены, «размыты». Это заключение оказалось неожиданным. До сих пор считалось, что алмаз абсолютно нерастворим ни в одной жидкости, которую знает человечество, – «неукротимый» не поддавался никаким реактивам химиков. Однако иногда в естественных условиях алмаз каким-то образом терял эти свойства. Повидимому, – и это было смелое заключение – под действием жара он превращался в графит, и графит растворялся в расплавленной горной породе. Александр Евгеньевич попытался проверить свои предположения на опыте. Правильные кристаллы алмаза погружались в расплавленную калийную селитру. Через некоторое время, как этого и ожидал Ферсман, происходило растворение алмаза с поверхности. Правильный кристалл превращался в бесформенный многогранник с разъеденными углами и ребрами.
Эти опыты убедительно доказали, что стоит дать атомам углерода в кристалле алмаза возможность передвигаться, – а именно это происходило при нагревании кристалла, – как они переходят в более удобное для них расположение, которое характерно для графита. Алмаз превращается в графит.
Но атомы углерода, занявшие в кристалле графита устойчивое положение, при обычных условиях не склонны перейти на положение атомов алмаза. Однако если алмаз так неустойчив и при кристаллизации углерода из огнежидких растворов всегда получается только графит, то как же вообще могли появиться на земле алмазы? Как «производила» их природа?
Исследования А. Е. Ферсмана позволили подойти к ответу на эти вопросы.
Месторождения алмазов в Южной Африке залегают в огромных воронкообразных углублениях, как бы трубках, заполненных магнезиально-силикатной породой – кимберлитом. Эти воронки – следы грандиозных взрывов, сопровождавшихся подъемом из недр земли расплавленных пород. Взрывы прорвали не только глубоколежащие граниты, но и покрывающие их слои позднейших образований. Через эти вулканические жерла – диатреммы, как их называют геологи, – открывали себе доступ скопившиеся в недрах земли газы и водяные пары, а вслед за ними находящаяся под огромным давлением расплавленная магма подымалась наверх отдельными порывами, то застывая по дороге, то вновь разламывая образующуюся кору и захватывая обломки окружающих пород.
Очевидно, в образовании алмаза из графита повинны именно высокие давления, под которыми находится застывающая магма. Они-то и являются силой, уплотняющей атомы графита до такого состояния их, в котором они находятся в алмазе.
Постепенное уменьшение давления при том же нагреве вызывало обратный переход алмаза на поверхности кристалла в графит. Графит растворялся, и таким образом появлялись характерные для многих кристалликов алмаза округлые формы. В тех случаях, когда очаг кристаллизации закупоривался застывшей массой и давление снова повышалось, подвергавшиеся поверхностному растворению кристаллы снова нарастали. А. Е. Ферсман собрал много кристаллов, в которых явления роста и растворения можно было наблюдать одновременно в самых разнообразных переходах.
Все это удалось прочесть в кристалле алмаза с помощью федоровского гониометра.
Работа Ферсмана вплотную подводила науку к мысли о возможности искусственного получения алмазов. Эта мысль давно дразнила воображение исследователей, однако все попытки, предпринимавшиеся ранее, не давали убедительных результатов и потому представлялись гадательными и неопределенными. Отныне становилось ясным, что должны были существовать строго определенные условия, при которых кристаллизация алмазов из графита была возможна, и, таким образом, эта задача приобретала уже практическое значение [21]21
Эта интересная работа была доведена до ее логического завершения советским ученым О. И. Лейпунским, который в 1940 году опубликовал расчеты, точно указывающие границы температур (2000 градусов) и давлений (60 тысяч атмосфер), при которых процесс кристаллизации алмазов происходит в природе и которые должны быть воссозданы в лаборатории.
[Закрыть].
Завершив работу над алмазами изданием выдающейся монографии, превосходно иллюстрированной целым атласом различных кристаллических форм алмаза, зарисованных им самим, А. Е. Ферсман вернулся в Москву. Здесь в 1909 году за свои работы по исследованию минералов он – первый! – получил премию – золотую медаль имени А. И. Антипова, предназначенную Минералогическим обществом для поощрения молодых ученых.
Перед ним раскрывались безмятежные, ясные дали. Казалось, ничто на горизонте не предвещает близкой грозы.
Результаты новых исследований строения и происхождения алмаза в числе других были доложены на одном из заседаний минералогического кружка, где поочередно все рассказывали о своих исканиях в сложном мире кристаллов и атомов. Вернадский, вытянув на столе тонкие нервные руки, негромким голосом заключал эти выступления, высказывая вслух свои неторопливые раздумья.
***
И все же жизнь ворвалась в этот тихий мир, поколебала его.