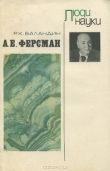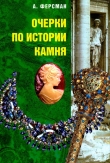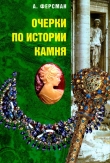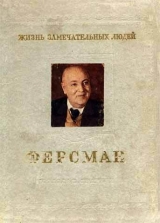
Текст книги "Ферсман"
Автор книги: Олег Писаржевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Конец 1926 года был для Ферсмана переломным. В этом нужно было видеть влияние и новой среды, и нового времени, и этой речи.
В ряде событий, которые укрепили силы Ферсмана, влили в него новую энергию для продолжения борьбы, вторая встреча со «всесоюзным старостой» не могла не оставить заметного следа. Важно не просто получить поддержку – важно получить ее во-время… Много значит простое, от души идущее слово пропагандиста-большевика!.. Изумительные всходы пробуждает оно в подготовленной к его восприятию человеческой душе.
Ферсман в этом году с неожиданной силой стал снова штурмовать твердыни геолкома и химических главков, писать статьи, добывать, где придется, средства на новые экспедиции. Вся его рать пришла в движение и загорелась неукротимым стремлением во что бы то ни стало победить в борьбе за апатиты. Время было такое, которое не позволяло замереть в покое. Заканчивался период восстановления, в строй вступала вторая очередь Волховстроя, зажигались огни Днепрогэса, закладывался Сталинградский тракторный. Самый воздух страны возбуждал силы тех, кто вдыхал его полной грудью.
***
Одновременно с экспедицией Ферсмана «плечом в плечо», как рассказывал герой этого важного эпизода, в хибинских тундрах под крылышком первого социалистического комбината Мурманской железной дороги закреплялся еще один форпост наступления на Север. Он считался опорным полярным пунктом земледелия, возглавлял его молодой агроном, в прошлом эстонский крестьянин, солдатский депутат и, наконец, – во исполнение мечты юности – студент петроградского сельскохозяйственного института Иоганн Эйхфельд. За ним стоял труд поколений его отцов и дедов, терпеливо и неустанно превращавших черную хлюпающую грязь эстонских болот в плодородную землю латифундий эстонских баронов. Сейчас ему и его братьям – эстонцам, русским, саами, якутам и всем другим – принадлежала вся земля от финских границ до Тихого океана. Она была громадна и неустроена. Почти на половине ее под тонким почвенным покровом лежал никогда не тающий лед. Но здесь должны были жить люди, тем более, что природа насытила недра этих краев богатствами, которые нужно было обратить на пользу человеку.
Эйхфельд думал не только о создании «цеха здоровья», как он называл полярное сельское хозяйство, но и о таком предмете первой необходимости, каким является красота. На полустанках Мурманской железной дороги обитатели вросших в землю вагончиков, изображавших станционные службы, на крышах разводили огороды (он шутливо называл их «садами Семирамиды»), а на земле устраивали «клумбы» из битого кирпича и украшали их бордюрами и узорами белой известки. Эйхфельд был счастлив и, не скрывая, рассказывал о своей радости, когда рабочие лесопильного завода, увидев впервые настоящую клумбу с первыми настоящими левкоями, которые заблагоухали в тундре, попросили разрешения приходить «посидеть у цветочков».
Для садика был отвоеван один-единственный холмик среди чахлых лесов и болот, но лиха беда начало! И плоды земные и цветы неудержимо шли на Север, – их вела туда твердая рука большевика, его горячее сердце через все трудности и временные разочарования.
– Просвещенные колонизаторы, – иронически усмехался Эйхфельд, кивая в сторону Запада, – идут в глушь, чтобы снять оттуда сливки. Им очень мало заботы до того, как будут жить люди на Севере. Вымрут – туда им и дорога! А мы осваиваем Север навечно. Люди будут здесь жить, как люди, как во всех других советских краях.
Именно эта идея, а не просто интерес к эксперименту, как об этом иной раз писали, подчеркивая исследовательскую смелость Эйхфельда, положила начало созданию земледельческого опорного пункта Мурманской железной дороги и Опытной станции Всесоюзного института агрономии в Хибинах [56]56
Содержательный рассказ об этих успехах полярного земледелия читатель найдет в книге В. А. Сафонова«Земля в цвету». В дополнение к нему отметим, что единственный сотрудник Эйхфельда на Хибинской станции, Мария Митрофановна Хренникова, впоследствии организовала такую же опытную станцию на Игарке.
[Закрыть].
Эйхфельд начинал с отбора, сразу испытывая сотни сортов, радовался дружным всходам, пышной зелени, раскрывавшейся под бессонным летним солнцем. В огне красного заката полярного дня подкралось несчастье. Оно случилось однажды ночью, когда Эйхфельд встал, чтобы защитить поля от нападения зайцев. Сняв ружье, он случайно заметил, что ствол побелел. Наступило утро. Иней таял, оставляя пожелтевшие растения. Половина посевов вымерзла. В этом не было никакого сомнения, хотя по календарю значилось всего лишь начало августа. Но то, что могло стать крушением надежд, стало первой победой полярного земледелия. Ведь другая половина посевов выдержала испытание заморозком! Теперь Эйхфельд знал, какие сорта меньше боятся холода…
Ему приходилось выдерживать мерзкие нападки, источником которых было все то же мутное вражеское болото, в котором вынашивались планы сокрытия «камня плодородия» от социалистических полей.
«Экзотика!» – вопили со страниц газеты «Экономическая жизнь» оппортунисты, подсчитывая, во что обойдется капустный кочан, половину сезона выращиваемый в парниках. Эйхфельд отвечал: «Не экзотика, а экономика». Он спорил не только доводами биологии, но и аргументами политической экономии социализма.
«Мы не верили, что плодородие почвы – неизменное ее свойство; его можно изменять!» – говорил и писал Эйхфельд. «Мы знали, – продолжал он, – что экономика сельского хозяйства в условиях Советского Союза совершенно иная, чем в капиталистических странах, где частник гонится за прибылью от каждой отдельно взятой отрасли хозяйства». А что касается выносливости самих растений, то, верный мичуринским заветам, опираясь на выявленные первыми же неудачами наиболее морозостойкие сорта, Эйхфельд искал способы активно управлять растением, чтобы растение давало не то, что оно хочет, а то, что нам нужно. И он добился своего.
И сейчас плоды полярного земледелия даются нелегко, но главные трудности уже позади; уже существуют скороспелые холодостойкие сорта различных важных культур.
Если вы сейчас сойдете у станции Апатиты, где от обновленной магистрали Мурманск – Ленинград стальной путь ответвляется в Хибинские горы, вы увидите поля совхоза «Индустрия», раскинувшегося на многие сотни гектаров. С первого взгляда не верится, чтобы эти поля могли что-то родить – так они непохожи на привычную нашему глазу мягкую земляную перину средней полосы, на которой поднимаются молодые всходы. Здешние поля – это песок, перемешанный с крупной галькой, болотные торфяники, иногда засоренные огромными валунами. И тем не менее эти поля обрабатываются тракторами. Машины выходят на работу, едва начинает таять снег. Они вспахивают верхний, едва оттаявший, тонкий слой земли. Со вспашкой приходится спешить: еще немного – и грунт превратится в трясину. Ни один плуг не может работать на участках, усеянных валунами. Местами это под силу только «чортовой бороне» – так называется громоздкое, неуклюжее сооружение из двутавровых балок, с приваренными к ним заостренными кусками рельсов. Во всех направлениях поля пересечены канавками, каналами. В целом вся эта сеть водостоков больше чем втрое превосходит протяженность Беломорско-Балтийского канала.
И все-таки полярное земледелие существует! Там, где ранней весной сеятели на лыжах начинают свое «болотное плавание», там под незаходящим солнцем полярного лета удается снимать урожай ячменя и овса. Картофель дает средний урожай 12 тонн с гектара, капуста и брюква – по 30–40 тонн. Здесь растут морковь, свекла, цветная капуста, даже земляника, смородина и малина. Огурцы, помидоры и зеленый лук, выращиваемые в теплицах и парниках, – частые гости на столе кировчан [57]57
Совхоз «Индустрия» – ровесник города Кировска. Еще в марте 1933 года на Первом съезде колхозников-ударников Ленинградской области и Карелии Сергей Миронович Киров радостно говорил: «Мы уже забрались за Полярный круг и там начинаем осваивать промерзшую почву…»
[Закрыть].
В своих воспоминаниях Эйхфельд рассказывал о дружбе разведчиков-геологов и опытников-агрономов: «Хибинская опытная станция полярного земледелия в первые годы не только служила базой для поисковых партий, но и сами опытники шли в горы для выполнения нередко трудной задачи – зимней вывозки апатитовой породы и отправки ее в научные институты для испытаний».
Под глухо упоминаемыми «опытниками» скрывались прежде всего сам Эйхфельд и его самоотверженные помощники.
Именно они начали небольшую, но очень важную работу по продвижению в жизнь апатитов, – непосредственно применяя их в качестве удобрения тундровых почв. На своих плечах они доставляли апатиты на опытные делянки, и Эйхфельд с волнением следил за результатами опытов. Они были задуманы исключительно остроумно. Эйхфельд решил использовать нерастворимые фосфаты в качестве прямого удобрения, ожидая помощи от того же самого химического вредителя, с которым ему приходилось постоянно сражаться, вытесняя его пядь за пядью, – повышенной кислотности болотистых почв. А у нефелина в тех же условиях должен был, по его предположениям, освобождаться калий.
Серия блестящих опытов в основном подтвердила правильность эйхфельдовских идей. Он доказал, что нефелин с успехом может заменять на болотных почвах привозные калийные удобрения, а апатиты дают на верховых болотах лучшие результаты, чем суперфосфат. И кроме того, в результате оказывается ненужным известкование: избыточная кислотность нейтрализуется щелочной породой.
Это само по себе было замечательным успехом. Но Эйхфельд не был бы большевиком, если бы не поставил своей целью развить этот частный успех до решающей победы.
Кто, как не он, ученый-агроном, мог лучше знать истинную цену фосфора в сельском хозяйстве. Фосфор – это не только густое стояние зерновых. Фосфор – это технические культуры, которые во многих местах без фосфорной подкормки вообще не могут расти. Тонна суперфосфата – это дополнительная тонна хлопка!
Эйхфельд стал одним из инициаторов широко поставленных опытов по химической переработке апатитов на полноценные удобрения, пригодные для всей средней полосы и юга Советского Союза. Как старожил и хибинский «абориген», он сам партиями добывал апатит для его экспериментальной переработки Осенью 1926 года на оленях саами Зосимы Куимова он вывез с Кукисвумчорра первую сотню пудов апатита. По заданию Кирова привезенные образцы апатита были направлены для опытов по обогащению апатитовой руды. В дальнейшем читателю предстоит узнать, насколько решающе важны были результаты этих экспериментов.
В 1927 году новая партия руды была подготовлена в надежном месте, под самой шапкой горы, но когда тот же Зосима отправился за ней, снежный обвал завалил сани с упряжкой. Сам Зосима спасся только потому, что успел отвести оленей. Кое-как добравшись до Хибин, Зосима рассказал о случившемся Эйхфельду и заявил, что больше туда не пойдет. Тогда Эйхфельд на лыжах отправился проверить, можно ли откопать и вывезти заваленную породу.
Продвигаясь по холмам на правом берегу реки Белой, он вышел к реке как раз в том месте, где сейчас стоит каменная больница. По ледяной кромке спустился в русло реки и пошел дальше. Скоро лед кончился, и, карабкаясь на коленях, он забрался наверх, а оттуда вновь спустился по льду к Вудъявру. Здесь картина резко изменилась. Дул резкий северный ветер, начиналась метель. С трудом он дошел до долины реки Юкспор, до того места, где прежде грунтовая дорога сворачивала к хибинской базе Академии наук. Сильные порывы ветра все время отбрасывали его назад.
Он не чувствовал себя ни маленьким, ни заброшенным в пурге среди гор – в нем вскипал неудержимый гнев против кустарщины, которой приходилось заниматься. Этот гнев был сильнее всех метелей, яростней всех морозов. Да, он начинал здесь работать лишь с несколькими стами рублей в кармане, но сейчас, когда вся страна переходила в социалистическое наступление, пришло время кончать с партизанскими налетами на северные богатства.
***
Приближалось славное десятилетие – первое десятилетие советской власти в России.
В журнале «Экономическое обозрение» А. Е. Ферсман выступил с юбилейной статьей.
В ней не было победных реляций, но каждая строка убедительно говорила об искренности ее автора. В то время как послевоенная Европа была обескровлена, Советская Россия уже заканчивала период восстановления. Через год в своем путешествии по научным центрам Запада Ферсман должен был получить возможность воочию оценить социальные контрасты двух миров. А сейчас он, только что вернувшись из поездки по Чувашии и Башкирии, рассказывал читателям о том, в каких небывалых масштабах ведется изучение этих былых окраин, а также Якутии, Казахстана, Бурят-Монголии…
«Новая бурная жизнь этих республик стремится строиться, используя уже научные данные новых, часто еще незаконченных работ», – писал он; тут же появлялись критические нотки, обращенные к себе, к своей научной среде – первые, еще робкие покамест начатки самокритики. Он продолжал: «Бурная жизнь требует быстрых и конкретных ответов. Научная работа не всегда и недостаточно быстро отвечает этим запросам, и, с другой стороны, столь часто решения оказываются «академическими», очень интересными с научной точки зрения, но неприложимыми к самим потребностям хозяйства».
И тогда, в 1927 году, когда писались эти строки, он еще не до конца понимал неразрывность единства задач развития самой науки, ее метода, ее теории, с одной стороны, и задач ее борьбы за удовлетворение нужд сегодняшнего дня, с другой. Но он уже отмечал как одно из важнейших достижений прожитого десятилетия, что «в самые круги ученых, в их лаборатории и кабинеты проникла мысль о необходимости тесной увязки науки и жизни, и работа над изучением производительных сил страны сделалась не чем-то надуманным, не явным приложением, а новым научным течением, новым научным методом в понимании природы, еебогатств и их соотношений между собой».
XII. ЕСЛИ НЕТ ГОРОДОВ – НАДО ИХ СТРОИТЬ
Горы в зелени моложавы,
И встают над кромкой воды
Города рабочей державы,
Наливные ее сады.
А. Сурков
Пришло время двигать армию, пускать в ход новые силы и новое оружие, наступать широким фронтом и планомерно. Все это было сделано Коммунистической партией, наметившей величественную программу строительства социализма в СCCP. Одним из звеньев социалистического наступления эпохи первых пятилеток в промышленности и борьбы за повышение урожайности социалистических полей явилось освоение Севера и, в частности, залежей «камня плодородия» – апатита – в Хибинах.
Партия оценила огромное общественное значение хибинской проблемы и поручила ленинградской партийной организации возглавить работу по освоению Кольского полуострова.
При участии Сергея Мироновича Кирова был составлен блестящий и смелый план освоения Советского Севера. В него входила не только проблема апатитов или какой-либо другой отрасли промышленности и сельского хозяйства. Это был монолитный комплекс хозяйственных и политических мероприятий по превращению Севера дикого в Север культурный, социалистический. Сергей Миронович полюбил это мглистое серое море с его туманами, эти бедные с виду северные земли, таившие в себе несметные богатства.
Кабинет Кирова в Смольном не случайно напоминал научную лабораторию или техническую выставку. На большом столе здесь всегда можно было найти образцы осваиваемых ленинградскими заводами изделий, новых сортов льна, пшеницы и выведенных для Севера сортов овощей, – наконец, вещественные примеры технического брака: для очередной проборки хозяйственников.
«Он интересовался торфом, сельским хозяйством, ширпотребом, кинематографией, – писал Всеволод Вишневский, – и это не был интерес спорадический и разнообразный, это был широкий, могучий охват жизни, жизни, которая вся насквозь была родной. За эту жизнь Киров заплатил своими одинокими сиротскими слезами в далекой юности, за эту жизнь он заплатил годами тюрьмы, потерей многих товарищей в боях, за эту жизнь он заплатил лишениями, бессонными ночами, сединой… Киров постигал, впитывал в себя культуру мира. Он шел к вершинам человеческой мысли».
Когда ему жаловались на трудности и приводили доводы в доказательство невозможности выполнения заданий в установленный срок или заявляли об их технической невыполнимости вообще, Киров отвечал: «Не знаю, как технически, но по-коммунистически это может и должно быть сделано!»
Несмотря на все усилия Ферсмана и Эйхфельда, глухая стена недоверия, искусственно возводимая вражескими руками вокруг апатитов до 1928 года, все еще не была разрушена. Когда в июле этого года Михаил Павлович Фивег – молодой научный сотрудник института удобрений, впоследствии многолетний энтузиаст, участник большой работы по освоению Хибин, – обратился в партийное бюро и дирекцию института с просьбой командировать его в Хибины, весьма высокопоставленные деятели долго отговаривали его от этого «безумного шага». «Апатиты – ничего не стоящая вещь», – говорили они. Он все-таки поехал в Хибины со своей женой, гидротехником. А вернувшись, сказал: «Только сейчас я узнал, что такое апатиты».
Вмешательство С. М. Кирова в работу по освоению Севера было вмешательством партии, и оно не могло не быть решающим.
17 марта 1929 года при Ленинградском областном совете народного хозяйства была создана Апатито-нефелиновая комиссия. В подборе ее участников С. М. Киров принял самое непосредственное участие. Он внимательно следил за всеми ее протоколами и направлял ее работу.
«Именно тогда мне впервые пришлось встретиться с Сергеем Мироновичем, – рассказывал впоследствии Ферсман. – Я, помню, ему докладывал подробно свои соображения и свои планы использования апатитов».
Попав в орбиту внимания партии, проблема апатитов и Хибин, по существу, получила путевку в жизнь.
Уже через месяц после создания ленинградской Апатито-нефелиновой комиссии – 29 апреля 1929 года – был решен вопрос о строительстве автомобильной дороги, которая должна была заменить вьючную тропу от разъезда Белая до апатитовых месторождений.
«Молчит даже старый геологический комитет», – торжествующе писал Ферсман, радостно переживавший все эти события. Однако враги не молчали и не сдавались. В качестве пробного шара в печати появилась заметка «от мурманского корреспондента», в которой средства на постройку дороги в тундре объявлялись «выброшенными». Удар был замаскирован. Официальной целью нападок явилась Апатито-нефелиновая комиссия, но ответ Кирова на эти выпады не замедлил: в сентябре 1929 года первый этап работ по промышленному освоению месторождения апатитов был закреплен решением правительства о немедленном создании в районе будущего рудника железнодорожного узла.
Из средств областного хозяйства на разведочные работы было выделено сразу же 200 тысяч рублей, но Киров немедленно добился того, чтобы дальнейшее финансирование их принял на себя Высший Совет Народного Хозяйства. Большому кораблю – большое плавание! Киров мыслил масштабами всего развернувшегося в стране могучего движения за социалистическую перестройку советской деревни.
На дверях барака у разъезда Белая появилась наскоро написанная чернилами вывеска: «Леноблсовнархоз. Апнефком».
Полевой штаб северного наступления приступил к работе.
Был немедленно решен вопрос об организации промышленных разведок на апатиты. Такое подробное геологическое освещение месторождения исключительно важно; пренебрегать им – это все равно-, что строить огромное здание, не испытав грунтов, на которых оно должно покоиться.
Это ответственное дело было поручено коллективу молодежи из Научного института удобрений, который, кстати сказать, вскоре блестяще справился и с химической переработкой апатитов, а эта победа имела далеко идущие последствия.
Группу молодых изыскателей, возглавляли только что упомянутый Фивег и Григорий Степанович Пронченко, бывший токарь по металлу, кончавший одновременно, в духе того бурного времени, аспирантуру в Научном институте удобрений и Горную академию.
Тот перелом; о котором: говорил Ферсман в своей статье, посвященной; десятилетию советской власти, тот поворот ученых к решению актуальных жизненно важных проблем, наряду с проблемами теоретическими, не мог произойти сам собой только за счет перестройки незначительных количественно кадров старой интеллигенции.
«В среду ученого мира, до войны столь чуждого экономическим проблемам, – констатировал Ферсман, – для которого столь часто термин прикладной науки как чего-то грязного противополагается термину науки «чистой», в этой самой среде за истекшие десять лет создались новые силы, охватившие и создавшие те многочисленные подходы, которые мы сейчас имеем в области изучения производительных сил. Сейчас на громадной проделанной работе, на несомненно многочисленных ошибках стали создаваться новые кадры научных работников, правильно, по-новому понимающих новые задачи изучения целых территорий во всей совокупности их природных богатств и изучения отдельных природных ресурсов. Достаточно указать, что во многих экспедициях, например Якутской и Казахской, работают сейчас сотни молодежи, воспитанной в этих научных традициях».
Молодые изыскатели были представителями этого нового поколения ученых.
Нужно рассказать о том, как эта молодежь помогла Ферсману в Хибинах.
О начале изыскательских работ мы узнаем из лаконичных записей дневника Г. С. Пронченко:
«Петрозаводск. Кемь. Кандалакша. Становилось холодно. Кругом же все время светло. Ночи не было. Солнце стояло высоко. Оно вовсе не заходило за горизонт. Двухминутная остановка – разъезд Белая. Разведчики оставили поезд. Куда ни оглянись – горелый лес. Но ведь и лес тут не тот: ни птиц, ни цветов, ни шума лесного. Жилья почти не видно. Единственное сооружение, сделанное руками человека, – маленький, вросший в землю, старый бревенчатый железнодорожный барак… Редко ему приходилось встречать так много незнакомых пассажиров».
Это в июне 1929 года на разъезд Белая прибыла первая партия – восемнадцать геологов и рабочих во главе с Фивегом. Но эти разведчики были уже авангардным отрядом первой пятилетки. Когда они только собирались в Хибины, Совнарком СССР принял специальное решение о химизации народного хозяйства. В этом решении говорилось:
«Современная химия… являющаяся непосредственной основой социалистического преобразования сельского хозяйства, по праву выдвигается вперед, как один из решающих факторов индустриализации народного хозяйства».
Воля партии была выражена правительственным законом, и они были его исполнителями.
***
Через некоторое время к месту, где начали работать молодые энтузиасты, сыгравшие в борьбе за апатит большую роль, со станции Имандра пробирался еще один маленький отряд изыскателей во главе с геологом Д И. Щербаковым, заменившим заболевшего Ферсмана. Ему было поручено отыскать подходящее место для закладки первого здания будущей базы Академии наук в горах Умптека.
После долгих блужданий, красочно описанных присоединившимся к этой группе корреспондентом «Комсомольской правды», Д. И. Щербаков остановился на очаровательном местечке, радовавшем глаз. Он знал желание Ферсмана – видеть базу стоящей в широкой пустынной долине у озера Вудъявр, где нижние склоны горы поросли густыми елями, рядом шумели ручьи и на берегу некогда стояла одинокая лопарская вежа…
«Перейдя вброд несколько рек и болот, к заходу солнца мы услыхали гул взрывов, – передавал свои торопливые впечатления читателям газеты корреспондент. – Последние лучи осветили высоченные горы, и в облаках загорелась яркая, желтая точка.
– Кукисвумчорр, – голосом лектора картинной галереи объявил Щербаков. – А на вершине – буровая вышка.
Не прошло и часа, как на другом берегу болота между скалами замелькали палатки и бараки. Совсем близко послышалась человеческая речь. И сразу развернулся Апатитовый городок.
Дома, люди, грохот взрывов… Оглушенные кипящей жизнью, мы застыли на месте. Вокруг сновали рабочие. Из бараков шли бурильщики, лошади везли камни. И опять рядом взрыв. Ветер рвет полотнища лозунгов. Нас ведут мимо сруба «Астрорадиопункт» в первый барак, где у телефона надрывается инженер.
– Алло! Апатитовый городок!
Нас окружает толпа мужественных, бородатых людей в полушубках. Они напирают на дощатый стол, перебивают друг друга.
– Что слышно в Москве? Какие новости в Ленинграде?
Черные бородищи… Но голоса подозрительно звонки. Кто-то зажигает лампу, и мигом происходит чудесное превращение.
Тут нет ни одного старика. Юношеские веселые лица. Они хохочут, заметив наше смущение, и по очереди представляются…
– Московский межевой институт…
– Московская горная академия…
– Институт удобрений…
– Ленинградский политехнический…»
…Еще не прошло и ста дней, как инженеры и студенты пришли в долину Лопарскую к подножью горы Кукисвумчорр.
Первому бараку, который они построили, не было восьмидесяти дней от роду.
Когда они пришли сюда, долина была так же пустынна, как и тогда, когда во мхах были найдены коренные выходы апатитов, когда была определена затем огромность их залегания; как и тогда, когда Ферсман безуспешно пытался протестовать против издевательски нищенских кредитов на экспедиционную работу, не подозревая в этом предательского удара кучки вредителей, отлично оценивших клад, скрытый в тундре, и решивших преградить стране путь к нему.
Но вопреки всему волею партии в пустынной долине засверкали белые пятна палаток и прогрохотали первые взрывы.
Взглянем же глазами очевидца на тусклое предутреннее солнце Хибин – солнце тысяча девятьсот двадцать девятого года. Оно алеет на сизом небе расплывчатым бронзовым пятном, огромное, похожее на раннюю луну.
По земле тянутся пышные волны тумана.
Где-то далеко, едва слышно проголосила сирена.
Кукисвумчорр, покрытый мхом, похож на линялую медвежью шкуру, изрезанную глубокими морщинами. На ней виден рой движущихся точек. Это люди, едва различимые в туманной дали. Еле заметен рой этих точек, рассеянных по пустынному и нескончаемому хребту. А все-таки они разнесут, разгрызут эту гору!
Тысячелетиями возвышалось над долиной это грандиозное, но недоступное чудище. Но вот люди осмелились, берут у него все, что им надо.
«То, что видит глаз, – читаем мы в корреспонденциях из Хибин, опубликованных в комсомольской газете, – в первую минуту просто непостижимо уму и сознанию. Кажется, один порыв ветра и вся эта легкая горсть смельчаков будет снесена… У подножья Кукисвумчорр а человек проникается гордостью за человека».
Что же делают люди на трехсотметровых склонах гор?
Они прокладывают узкие желобки, словно для стока воды. Из глубины каждого желобка они берут породу для лабораторных проб. В лаборатории эти пробы исследуют, выясняя качество минерала на различных высотах.
Это медленная, кропотливая, но совершенно необходимая работа.
Апатит лежит здесь местами прямо на поверхности – стоит содрать мох, и он под ногами. Но это ведь не поиски минералов для коллекции. Нужно Знать, на какое количество сырья может рассчитывать промышленность, когда она возникнет в этом диком крае. А она должна возникнуть! В это верит сейчас уже каждый лаборант, каждый бурильщик шпуров – отверстий, в которые закладывается взрывчатка. С помощью динамита разведочные канавы прокладываются в теле горы.
Свисток. Горняки рассыпаются по сторонам. Подрывник прокладывает к патрону огнепроводный шнур, поджигает его и быстро убегает. Две минуты горения шнура – две минуты жуткой тишины, и вдруг глухой удар, в небо летят глыбы камня и с грохотом осыпаются по горам. Горное эхо стонет в кольце гор. Рабочие быстро сходятся к вырванному в камнях углублению. А эхо все еще жалобно урчит, стихая вдали…
На дне проложенной взрывом канавы, в образцах породы, – в корнях, добытых бурильным станком с глубины в десятки, а затем и в сотню метров, – одна и та же картина. Зеленовато-серый хрупкий камень. Апатито-нефелиновая порода.
По всему склону апатит залегает неслыханно громадной толщей…
История Хибин хранит память о сотнях людей, покорявших своим самоотверженным трудом суровую природу. Скромные подвиги этих строителей, разведчиков, горняков-проводников и воплотителей достижений передовой науки в этих краях поражали воображение ученого. Одна из самых ярких фигур хибинской эпопеи – Григорий Пронченко, первый секретарь партячейки Хибин, непоколебимый энтузиаст, простой и в то же время большой советский человек.
Он давно погиб смертью храбрых, спасая людей поселка, засыпанного снежным обвалом. Он ушел в разведку на лыжах. Сорвавшаяся лавина погребла и его вместе с некоторыми другими смельчаками.
Пронченко нет, но живы его дневники, его горячие, непосредственные юношеские записи – они хранятся в Кировском музее. Стоит поднять их, развернуть – и они снова заговорят…
«Всегда веселый, оживленный, несколько беспокойный и с отрывочной речью, но всегда горящий и большевистски настойчивый» – таким встает Пронченко со страниц воспоминаний самого А. Е. Ферсмана.
«Где нужна была новая, смелая мысль, – писал Александр Евгеньевич, – где надо было проложить новые пути, там был Пронченко; закладывались ли штольни Юкспора с его обрывами, надо ли было итти таежным путем на Иону, нужно ли проверить партию в Ловозере и на самолете слетать в Сейтъявр, – всюду первым был Пронченко, не успевавший даже записывать свои наблюдения, всегда простой, искренний товарищ, новый человек новой страны».
О железную, большевистскую настойчивость, пламенный энтузиазм таких людей, как Пронченко и его товарищи, – первых пионеров Заполярья, первых строителей Кировска, – разбились вражеские замыслы еще до того, как сами враги были разоблачены, обезврежены и изъяты. Эти люди – советские люди – покорили Хибины. Они не дали припрятать Хибины для иноземных хозяев! Не удалось врагам даже ненадолго лишить живительного фосфорного корма социалистические колхозные поля!
В начале сентября, когда определились первые результаты углубленной геологической разведки и нужно было подытожить все материалы, оценить все трудности, предложить окончательное решение, научный штаб должен был разработать план грядущих боев. Это ответственное и сложное поручение Киров возложил на Ферсмана. Во главе Апатито-нефелиновой комиссий он должен был поехать в Хибины и выводы из ознакомления с работами на месте доложить непосредственно Сергею Мироновичу.
«Киров тут же вырвал несколько листков из блокнота и набросал на них фамилии тех работников, которые, по его мнению, обязательно должны были принять участие в работах комиссии», – вспоминал Ферсман.
Оказанное Ферсману доверие было высоким доверием партии.
В бараке, пахнувшем свежим сосновым лесом, собрались «первооткрыватели.» Хибин, участника ранних экспедиций – Лабунцов, Куплетский, Влодавец, представлявший и Институт по изучению Севера, экономист Соловьянов, много сделавший впоследствии для превращения апатитов в серьезную доходную статью советского экспорта и для продвижения их на суперфосфатные заводы [58]58
Совместно с И. Г. Эйхфельдом.
[Закрыть], – он приехал сюда с полномочиями областного отдела народного хозяйства. Научный институт удобрений был представлен Фивегом. Были здесь и старые друзья: Эйхфельд – от Опытной хибинской станции и молодой энтузиаст – секретарь ячейки ВКП(б) Апатитового поселка Пронченко. Было здесь много других молодых пионеров нового края, докладывавших комиссии о работе геологоразведочных партий, о гидротехнических изысканиях на реке Белой, изысканиях по постройке железнодорожной ветки, опытах по обогащению апатитовой породы…